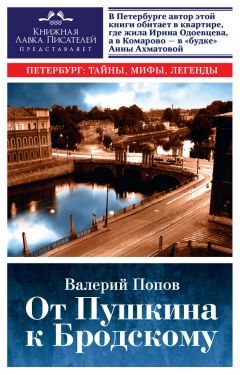
Автор книги: Валерий Попов
Жанр: Путеводители, Справочники
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Помню весьма характерную в этом ряду сцену приема в нашем Доме делегации китайских писателей. Председатель Союза писателей Арро в эти дни общался со шведскими коллегами на их земле, а мне, заместителю, по-братски предоставил китайцев. Помню их, как сейчас. Группа была составлена по-китайски четко: два строгих человека с военной выправкой и один, олицетворяющий вольность, богему, китайскую свободу – с относительно длинными волосами, в свободной блузе и даже с шарфиком на шее. После мучительных разговоров в кабинете мы с облегчением спустились в ресторан. «Строгие» еще строже стали смотреть на своего «подшефного», а потом все строже и недоуменней – на меня: куда я их привел, и вообще, соображаю ли я что-нибудь? Угар висел в воздухе – дым сигарет смешивался с едким чадом из кухни. В этих «райских облаках» плавали совершенно пьяные писатели – а ведь было еще только около часу дня. Взгляды китайских руководителей становились все враждебнее: как же вы, допуская такое, руководите литературным процессом? Все официантки сидели на коленях у писателей или у офицеров из Большого дома. Наконец одна из них, почему-то не пользующаяся в этот раз успехом у мужчин, могучая, с черными усами официантка по имени Лада, подошла к нам и, не здороваясь, молча вынула из кармана грязного фартука мятый блокнот.
– Понимаешь, официальная делегация! – забормотал я. – Дай нам все самое лучшее… из кладовой возьми!
Лада повернулась и ушла. Мы с Арро, облаченные полномочиями, знали, что существует кладовая, подвал, где таятся самые изысканные яства, которые до писателей никогда не доходили, а доставались людям более значимым.
Через полчаса Лада вышла из кухни вместе с облаком чада и швырнула каждому из нас по жестяному подносу с какими-то вздувшимися кусками мяса. Натужно улыбаясь, я взял изогнутые, почти мягкие алюминиевые приборы, и показал китайским гостям, как у нас ими пользуются. Но тут же чуть не выронил инструменты – от запаха закружилась голова: мясо было безусловно, очевидно, я бы сказал – демонстративно тухлым. Китайцы тоже положили приборы. Я бы сказал – тоже демонстративно. «Не думают ли они, – мелькнула мысль, – что это специальное, умышленное издевательство, – мол, не хочу ли я этим показать, что извращенные китайцы любят только тухлятину и тем самым унизить великий китайский народ?» Судя по жестким их взглядам – именно так они и решили. Политики (а двое из них точно были политики) всегда выбирают из всех возможных самый худший вариант. Что должен был делать я? Вызывать повара, директора, поднимать ругань? Но не унижу ли я тем самым великий русский народ?
Выход из безвыходной ситуации я нашел самый иррациональный, что вообще свойственно мне. Краем глаза я примечал за соседним столом жгучую, слегка изможденную брюнетку восточного типа, явно оказывающую мне знаки внимания. Из гвалта за их столом я уловил ее имя – Нина С., знаменитая московская драматургесса! Мы с ней переписывались, восхищаясь друг другом, но раньше не виделись никогда! И когда она кинула на меня очередной жгучий взгляд, я безоговорочно покинул официальную делегацию и сел рядом с Ниной С., тем более и в ней было что-то китайское. Вся их компания была уже «в полном порядке», также как и Нина С., и через минуту мы с ней безудержно целовались.
Время от времени, выныривая из волн блаженства, я ловил мрачные взгляды китайцев: странно их принимает ленинградский руководитель! Видимо, ревизионизм тут достиг уже апогея. Особенно их, кажется, настораживало, что я пересел от них к женщине явно китайского типа. Может, оппортунистка? Потом я все же сумел вырваться из цепких лап порока и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Мы снова поднялись наверх, гости молча оделись и убыли, даже без традиционных китайских улыбок.
Не могу точно вспомнить, произошло ли после этого внеочередное охлаждение русско-китайских отношений, но со своей стороны могу сказать: подобных намерений в моих действиях не было. Я люблю все народы и я уверен, что в составе той делегации наверняка был хороший писатель. Может быть, тот, в блузе и шарфике, а может, так как раз одеваются стукачи, а хорошим был другой, в кителе? Но один был наверняка! Я верю в это, и меня не собьешь! И задачи обидеть китайскую литературу у меня вовсе не было. И тот прискорбный эпизод относится целиком к нашей жизни, и нисколько – к китайским писателям. Просто Дом писателя начал уже тонуть, как и вся огромная Атлантида советской жизни. И если бы он не сгорел, то утонул при ближайшем бы наводнении. Конец его был неизбежен.
УЛИЦЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Литейная часть любопытна еще одним – здесь находится единственная, пожалуй, улица в нашем городе, проходящая косо. В советские годы она называлась улицей оружейника Федорова. Кто такой? Советская власть была удивительна еще и тем, что часто давала улицам необъяснимые, иррациональные названия. Видимо, раз вся эта часть города – военная, то и оружейник пришелся кстати. Но странно, что именем оружейника, чья главная задача – точность, линейность, назвали именно не только косую, но еще и кривую улицу, единственную в нашем городе в таком роде. Многие годы я просто наблюдал ее с удивлением, а потом узнал, что она, как и все в нашем городе, имеет свою историю. Тут, оказывается, был прорыт так называемый Косой канал между Невой и устьем Фонтанки, для напора воды в фонтанах Летнего сада. Но напор оказался слабоват, и канал засыпали, и образовавшуюся улицу метко назвали Косой. Потом ее облик слегка приукрасили, присвоив имя оружейника Федорова, действительно великого в своем деле, как я узнал.
Военный характер Литейный сохраняет до сих пор. Расположенные тут вблизи Артиллерийское училище, бывшее Михайловское, Академия связи поставляют не только кадры в наши войска, но и постоянных клиентов во все близлежащие пункты питания и питья. Особенно по пятницам: в какое заведение тут ни заглянешь – везде зелено от военной формы! Сами военные относятся к этому ритуалу свято. Помню, однажды на юбилей моего друга мы сняли зал в одном из кафе в Литейной части. В разгар нашего веселья открылась дверь, появился военный и с изумлением глядел на нас, штатских: как эти тут оказались? «Вы тут?» – произнес он озадаченно. «Тут!» – подтвердили мы. «А где же саранча гуляет»? – спросил он. «Саранчой», видимо, за цвет формы, военные ласково называют сами себя. Мы поспешили успокоить его, сказав, что «саранча гуляет» в соседнем зале. Надо отметить, что наши встречи с военными в подобных заведениях далеко не всегда имеют воинственный оттенок, как это произошло однажды в Доме писателей. Чаще, наоборот, возлияния становятся общими, ведут к дружеским откровениям и последующему братанию. Так я услыхал и запомнил один из шедевров военного творчества: «Сойдемся на передовой, друг друга защищая, но лучше встретиться в пивной, друг друга угощая!».
Заканчивая военно-гастрономическую тему, должен вспомнить важный исторический эпизод. В Петербурге, а потом в Ленинграде, а потом снова в Петербурге жил Федор Никитин, актер еще немого кино, но успевший запечатлеть свои благородные седины и в кинематографе наших дней. Его сын, режиссер Миша Никитин, был моим другом и режиссером Ленфильма, снявшим по моей повести «Новая Шехерезада» двухсерийный фильм. А отец Федора Никитина был преподавателем Михайловского училища, куда принимали, как тогда говорилось, «только из лучших фамилий». Гвардейский военный шик имел много чего в себе. В частности, для знатных преподавателей училища считалось зазорным брать положенные им казенные обеды – нужно было обедать где-нибудь «у Кюба» или другого известного ресторатора. Никитин-старший был из знати. Иначе бы он не служил в училище. Но – из знати обедневшей, поэтому положенные преподавателям вполне официально казенные обеды он брал и даже относил их семье. За это он был вызван на «офицерский суд чести» и ему было предложено уйти из училища. Жесткие законы «офицерской чести» не оспаривались, и ему пришлось уйти. Сын его, обидевшись за отца, в гвардию уже не пошел и стал актером. Не так-то просто жилось в Петербурге даже представителям «лучших семей».
Чуть дальше по Литейному торчит «готическая башня» Дома офицеров. Такие башни видны в Петербурге здесь и там и весьма характерны для утвердившейся в начале века «архитектурной эклектики», черпающей выразительные элементы в ушедших эпохах. Нередко именно в этом здании представители «лучших семей» устраивали свои офицерские «суды чести», вынося свои жесткие приговоры. Порой смысл в них был. Излишняя вольность нравов, свойственная красавцам-гвардейцам, как правило, кутилам и богачам, как-то здесь регулировалась ими же. Среди гвардейцев, например, было принято иметь на содержании «прима-балерин». Это позволяли себе великие князья, и даже Николай II, влюбленный в балерину Кшесинскую, чей знаменитый дворец на Петроградской есть, пожалуй, лучший памятник эпохи модерна в нашем городе. Но гвардейца, женившегося на балерине, «суд чести» никогда бы не оставил в полку. Как горько, со слезами прощался со своей возлюбленной гвардеец Николай II – об этом пишет в своих мемуарах Кшесинская, женщина сильная, и без царя сумевшая сделать блистательную карьеру. Но другого хода, как ради правильной женитьбы на немецкой принцессе оставить балерину, у Николая не было: терять честь и авторитет царь не мог. «Лучшие фамилии» должны были сочетаться браком только с другими «лучшими фамилиями» – за этим следили строго. Но что удивительно – «суд чести» не менее сурово осуждал гвардейцев, оставивших своих возлюбленных балерин грубо, без достаточных объяснений и без какого-либо финансового обеспечения. За такое «суд чести» тоже требовал «выйти из полка», дабы не позорить его.
В другие времена нравы несколько изменились. Именно тут, в Доме офицеров, по «Ленинградскому делу» в 1947 году судили руководителей Ленинграда – Попкова, Кузнецова и их помощников. Многое сплелось в «Ленинградском деле», и одна из составляющих – постоянная ненависть Сталина к «слишком независимому» нашему городу. Что важно – именно подсудимые сделали так много в блокаду, руководили обороной, потом восстанавливали город. Судить таких людей было весьма неблагородно – но об этом понятии в те времена вспоминали лишь как о «пережитке». Много было ужасного в этом процессе. Так, в момент совершения приписываемых им преступлений смертная казнь была отменена. Разрешена она была специальным указом в конце суда и преподнесена обвиняемым как страшный «подарок». Известно, что к прошлому новые законы применяться не могут – но тут «сделали исключение». Осужденных расстреляли буквально через несколько часов, совсем недалеко, в Большом Доме.
Но хватит об этом! Удаляемся по Литейному от Невы, ближе к Невскому. Идут обычные доходные дома XIX века. Но какие тут жили люди!
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ПОЛКУ
В этом районе, как говорилось прежде, в Преображенском полку, недалеко от Преображенского собора, я познакомился с Бродским и Довлатовым и многими другими. Почему-то все мы оказались почти что «ребятами с одного двора». Бродский жил на Пестеля, а я долго учился в школе напротив. Довлатов жил на улице Рубинштейна, перейдя Невский. Не было тогда ничего увлекательней, чем путь в новую жизнь и в новую литературу. И хотя подслеповатая власть плохо в нас разбиралась, и даже речи пока не было, чтобы признать хоть кого-то из нас, чувствовали мы себя победителями – мол, трофеи всегда успеем собрать. Статус победителей подтвердился гораздо позже. И далеко не для всех. Но восторг того времени испытали многие. Может, потому поколение шестидесятников и стало таким нахальным и так много сделало, что юность наша прошла, где надо.
ИОСИФ БРОДСКИЙ
На углу Литейного и улицы Пестеля поднимается роскошный, выстроенный в пышном восточном стиле, дом Мурузи. Его литературная слава сложилась уже задолго до нашего рождения.
Удивительно, что Бродский, сын военного журналиста, никак вроде бы непричастного к высшим сферам искусства, вдруг еще в детстве оказался жителем легендарного дома Мурузи, знаменитого пышного «чуда эклектики» на углу Литейного и улицы Пестеля. Тут не может не возникнуть опять тема какой-то предопределенности, высшего промысла и т. п. Перед революцией, оказывается, домом этим владел генерал в отставке Оскар Рейн. Знал ли об этом наш знаменитый современник, поэт Евгений Рейн, друг и, как он скромно признается, учитель Бродского, неоднократно посещавший его в этом доме?
Также из жильцов этого дома был широко известен купец Абрамов, прославлявший свою продукцию в стихах собственного сочинения. Так что литераторы в этом доме жили давно. В дворовом флигеле, на четвертом этаже, жил писатель Н. Лесков. В этом доме был знаменитый литературный салон Д. Мережковского и З. Гиппиус. Здесь бывали Блок, Белый. В 1918 году сюда, в заброшенную квартиру князя Мурузи, случайно забрели писатели К. Чуковский и А. Тихонов (Серебров) и решили здесь учредить литературную студию. Преподавали в ней К. Чуковский, Н. Гумилев, М. Лозинский, В. Шкловский. Среди студийцев были М. Зощенко, М. Слонимский, И. Одоевцева. Н. Гумилев учредил здесь в 1921 году «Дом поэтов». Н. Берберова, тогда начинающий молодой поэт, вспоминала о Гумилеве: «Он взглянул на меня светлыми косыми глазами с высоты своего роста. Череп его, уходивший куполом вверх, делал его еще длиннее. Он был некрасив, я бы сказала – немного страшен своей непривлекательностью: длинные руки, дефект речи, надменный взгляд, причем один глаз все время отсутствовал, оставаясь в стороне. Он смерил меня взглядом, секунду задержался на груди и ногах». После он сказал ей: «Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь делаю Оцупа. Я могу, если захочу, сделать вас».
Иосиф Бродский прожил здесь с 1949 по1972 год и стал тут великим великим поэтом. Здесь он выходил на балкон, смотрел на часы Преображенской церкви, отсюда уезжал – в геологические экспедиции («С высоты ледника я озирал полмира»), потом – в ссылку в Норинское, потом – навсегда в Америку. Много замечательных людей жили в доме Мурузи. Но мемориальная доска – только одна: «Здесь с 1949 по 1972 год жил поэт Бродский».
Оказавшись в одной компании, в молодости мы часто встречались с ним. Хорошо помню его мучительную стеснительность, переходящую в высокомерие и дерзость – уже тогда он начал четко выстраивать свою великую судьбу. Говорил он сбивчиво, невнятно, заикаясь, отводя глаза. Зато когда начинал читать стихи, побеждал нас всех небывалым напором, страстностью, шаманским завыванием, но главное – длиной и мощью, образной роскошью своих стихов, их горечью и надрывом, а также необузданностью бескрайней эрудиции, сразу ставящей его стихи в самый высокий ряд.
Потом, после судов и ссылок, он уехал. Тогда казалось, что уезжают навсегда, в небытие – или мы в небытии остаемся. То, что мы никогда больше не увидимся, было ясно всем.
Потом железный занавес приподнялся, и пришли его книги. Мы услышали о его мировой славе и Нобелевской премии. Вот так «кореш с нашей улицы»! Как же я волновался, когда вдруг выпала возможность полететь в Америку и увидеть его! Организуя семинар по русской литературе в Коннектикат-колледже, он пригласил своих старых знакомых – переводчика Виктора Голышева и меня. С нами летела и замечательная московская поэтесса Таня Бек.
Помню утро в маленьком домике в Коннектикат-колледже, в светлой гостиной на первом этаже. Шла беседа со студентами-русистами, и вдруг переводчик Голышев, закадычный друг Иосифа, сидевший в гостиной лицом к окну, воскликнул:
– О! Его зеленый «мерседес»! Приехал!
И вот в прихожей, невидимой нам, скрип его шагов, быстрая, картавая, чуть захлебывающаяся от волнения речь – «на слух» Иосиф почти не изменился. А «на вид»? Ну что он там застрял? Кофе с дороги? Я понимал, что волнение не только от предстоящей встречи с бывшим приятелем, таким же нищим и безвестным, как все мы, сделавшимся вдруг гением, известным всему миру, нобелевским лауреатом – главное волнение от предстоящей сейчас встречи со Временем. Прошло двадцать пять лет, все плавно шло, и ничего вроде не изменилось – но вот сейчас предстоит глянуть Времени прямо в лицо. И вот он входит.
– Валег,а п, гивет! Ты изменился только в диамет,ге.
– Ты тоже.
Хотя это совсем не так! На нем отпечаталось все до грамма – чего ему стоила вторая жизнь и Нобелевская награда. Не меньше, уверен, изменился и я – хотя поводов меньше.
– В первый раз выступал в этом калладже за двадцать долларов! – улыбается Иосиф.
Чувствуется, что он всеми силами старается убрать отчуждение, возникшую дистанцию – словно ничего не изменилась меж нами за эти пустяковые двадцать пять лет, все как прежде, приятели-друзья. Хотя добродушие его, как мне уже объяснили, распространяется лишь на прежних друзей, приехавших ненадолго (в этот раз он сам пригласил нас). Но если кто тут надолго окопался и пытается проложить себе путь, используя Иосифа, – того ждет совсем другой прием. «В багрец и золото одетая лиса» – как сказал об Иосифе один из известных московских поэтов и остроумцев, которому лучше знать эти дела.
Да, изменился лауреат – теперь в нем уверенность и твердость, прежней дрожи почти не видать. Одет он абсолютно небрежно (пусть те, кто еще пробиваются, одеваются аккуратно!) – на нем какая-то мятая размахайка цвета хаки, в каких у нас ездят на рыбалку, такие же штаны. Продуманность видна разве что в том, что одет он демонстративно небрежно. Его высокая породистая жена из старой русской эмиграции, ставшая уже почти совсем итальянкой, здоровается сдержанно (или отчужденно) и усаживается в сторонке. Ну ясно – она любит Бродского теперешнего – и зачем ей эти смутные, нервные, тяжелые воспоминания из прежней жизни, которые я привез сюда?
Вот воспоминание-вспышка. Встреча на углу Кирочной и Чернышевского, в шестьдесят каком-то году. Он с первой своей женой, тоже высокой и красивой, Мариной Басмановой.
– Вале,га п, гивет! Мне очень понравились твои гассказики в «Молодом Ленинг, гаде».
«Рассказики»! Величие свое он строил уже тогда! Мне тоже хотелось сказать, что мне тоже понравился его «стишок» – странный, непонятно почему отобранный равнодушными составителями (и кстати, единственный, напечатанный здесь). Господи – как, что и почему тогда печатали? Тяжелые, нервные годы. Но заквасились мы там и тогда, в нашем «Преображенском полку» – а дальше уже только реализовались, кто где и как смог.
Инициатива разговора с русистами переходит, естественно, к нему. Да – он по-новому научился говорить – настоящий международный профессор. Интересная находка – заканчивать каждое свое утверждение вопросительной интонацией, как бы требующей немедленного общего подтверждения. «Так развивалась русская история, да?» «И этот стих был очень плохой, да?»… Что-то наполовину английское слышится в этой интонации. И действие ее неотразимо.
Потом я наблюдал, как десятки наших продвинутых филологов копировали эту интонацию, становясь тем самым в ряд «непререкаемых».
После беседы мы идем на выступление, проходим через замечательный кампус – белые домики студентов, привольные лужайки с раскидистыми дубами, запах скошенной травы.
В большом зале сначала что-то говорим мы с Голышевым, я читаю свой рассказ «Случай на молочном заводе», о шпионе, залезшем в творог, который пришлось съесть. Американцы «врубаются», смеются, аплодируют. Потом на трибуну выходит Бродский. Прокашлявшись, он, чуть картавя, начинает читать – и мое сердце обрывается, падает. Что так действует – голос? или – слова?
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
Жил у моря, играл в рулетку,
Обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
Трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
Надевал на себя, что сызнова входит в моду,
Сеял рожь, покрывал черной толью гумна
И не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
Жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
Перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него будет раздаваться лишь благодарность.
Была тишина. Потом – овация. Он стал читать этот стих уже по-английски.
Потом мы сидели на краю огромного зеленого поля. Спортсмены двух колледжей – в желтом и зеленом – играли в американский футбол. Было несколько странно, что проходящий футбол вызывал у них ажиотаж ничуть не меньший, чем прошедшее выступление…
Через полчаса было новое выступление – и не хотелось плестись в наш домик и сразу – обратно, поэтому мы пережидали на лужайке… Разговор шел о пустяках. Назавтра он уезжал, и надо бы было сказать важное: что он значит теперь для нас. Но для старых приятелей, выросших в эпоху анекдотов, пафос не проходил.
– Нет, не пойдем! Тут поошиваемся! – запросто проговорил Иосиф.
– «Хата есть, но лень тащиться!» – процитировал я одно из любимых моих его стихотворений.
Иосиф усмехнулся. Пусть хотя бы видит, что мы знаем его наизусть.
Ночью мы долго сидели в нашем домике, вспоминали общих приятелей – горемык, пили водку. Наверно, это было неправильно после недавней сердечной операции Бродского – Голышев перед каждой новой рюмкой вопросительно глядел на Иосифа, и тот кивал. Жена его кидала гневные взгляды – но мастер гулял! Когда же еще и погулять, как не при встрече с земляками!
– Мудак! – вдруг явственно проговорила она и, поднявшись во весь свой прелестный рост, ушла наверх в комнату. Оказывается, она неплохо знает русский!
Иосиф не прореагировал, увлеченный беседой…
Прерывистой ночной сон, случившийся где-то уже под утро, состоял из отрывков, вспышек-кадров. Пронзенный солнцем угол школьного коридора. И рыжий картавый мальчик что-то возбужденно кричит, машет руками. Это не школа против дома Мурузи. У советской власти среди многих странностей была и такая – ни в коем случае не записывать учеников в школу около дома, а посылать вдаль, и каждый год переводить каждого в другую школу, – видимо, для того, чтобы не образовывались заговоры. Этот солнечный кадр – в школе № 196 на Моховой улице, напротив теперешнего журнала «Звезда». В пятьдесят каком году?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































