Текст книги "Горькая жизнь"
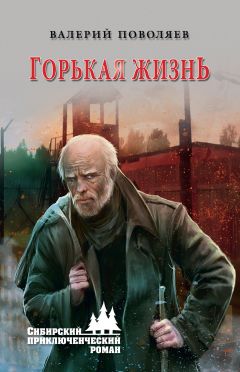
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Если комар кусается, пьет кровь, на месте прокуса потом возникает вздутость, волдырь, то гнус выедает из тела кусочек мяса. Челюсти у него, как у собаки, и не смотрите, что зверь этот крохотный – он может доставить любому крупному существу кучу неприятностей.
Из тайги, из полутундры здешней зеки, помогающие геодезистам в съемках местности, сложных участков, проработок разных развязок и поворотов, приходят окровавленные, смотреть на них страшно, – с вытаращенными белыми глазами, смятые, как тряпки. Эти люди бывают на ближайшую неделю ни на что не годны, им надо отлеживаться в санитарном бараке, и добрую половину их направляют туда.
А в санбараке и лечат, и калечат – пятьдесят на пятьдесят, в такой пропорции. Пятьдесят процентов вернется на стройку, пятьдесят – унесут ногами вперед в могильный ров.
– Брыль, какие лагеря страшнее – наши или магаданские? – спросил Китаев у бывшего «кума», когда они, закончив укладку нескольких тяжелых шпал, курили, пуская по кругу слепленный из старой бухгалтерской ведомости бычок.
– Магаданские, – не задумываясь ответил бывший «кум». Лицо у него даже дернулось невольно, сделалось худым и узким – видать, вспомнил Колыму, колючую проволоку, лопающуюся гнило от морозов; злобных вохровцев, лишенных всего человеческого, больше похожих на собак, чем на людей; налеты страшных волчьих стай, с голодухи пытавшихся жрать зеков.
Нападения волков были наглыми и умными в то же время, серые были сообразительными зверюгами.
– А чего там насчет лагерных браков зечек с зечками?
– Если зечка считает, что она на ком-то жената, то обязательно берет себе мужское имя…
– Это ты уже говорил.
– А жене дает уменьшительное женское. Может быть, то, которое стоит у той в лагерном деле на обложке, но может дать и новое… Если, конечно, старое имя не нравится. Наташенька, Ксюшенька, Мурочка… Да мало ли хороших имен существует на свете? А сама станет Ванечкой, Петюшей, Мишаней.
Китаев внимательным ощупывающим взором прошелся по тундре, по насыпи, на которой было полно людей, покачал головой.
– Чего ищешь? – спросил Егорунин.
– Долго мы не протянем, – пожаловался Китаев. – Жрать хочется. Зайца бы какого-нибудь в силок поймать… Или куропатку.
– Зайцы ушли отсюда километров на пятьдесят, не меньше. Такая уйма народа…
– И такой грохот, – добавил Христинин.
– А вообще-то зеки умирают молча, – Егорунин усмехнулся неожиданно печально, – ни один не кричит, прощаясь с жизнью. А если кого-то надо придушить, то это тоже происходит тихо – на шею приговоренному накидывают удавку и стягивают ее. Если удавка эта – сталька, то вообще нет забот – могут даже отделить голову.
Сталькой в лагере называлась тонкая стальная проволока, к концам которой были привязаны деревянные ручки.
– Кончай перекур! – скомандовал бригадир. – Подъем!
Бычок был уже спален до конца, ничего не осталось, даже бумаги. Курильщики закряхтели, нехотя поднялись, всадили крючья в очередную шпалу.
Господи, какие счастливые минуты они сейчас прожили – ни «кума» на горизонте не было видно, ни вертухая Житнухина, который когда к чему-то присматривается, обязательно распахивает свой налимий рот, и тогда бывают видны желтые зубы, нездоровый, в белесом налете язык и пузырьки слюны, возникающие в уголках рта.
Так и хочется этому вертухаю свернуть набок шею.
В обед привезли внеплановую порцию шпал. По недавно проложенным, пока еще кривым, прыгающим вверх-вниз рельсам пригнали едва живую, робко плетущуюся по полотну дрезину: дрезина приволокла платформу со свежим, дурно пахнущим креозотом материалом. Материала было много.
С дрезины спрыгнул зачумленный зек – приволок он платформу с большим трудом, – исполнил роль паровоза, осаждающего свежие рельсы, подобрался к самому краю их, – если бы что-нибудь случилось, валяться бы зеку в могильной яме, но ему повезло – доставил в целости. Черным рукавом телогрейки зек-машинист провел по лбу, оставил на коже широкий масляный след.
– Принимайте товар, – прохрипел он, – жаль, что несъедобный.
На разгрузку бросили две бригады – «политиков» и уголовников.
Вообще-то «кумовья», которые командовали бараками, старались не смешивать зеков пятьдесят восьмой статьи и уголовников – опасались делать это. Ведь здесь, на пятьсот первой стройке, находились не просто «политики» – работали фронтовики, люди, умевшие воевать. Такие любого уголовника загонят в болото, накроют кочкой, а на кочку посадят квакающую ворону. Опасные, в общем, люди.
Но здесь платформу надо было как можно быстрее разгрузить и отправить назад – стройка наращивала темпы.
Главным у уголовников был зек с затейливой татуировкой, хорошо видной в распахе телогрейки. На груди у зека был выколот скелет с большим черепом и недоброй улыбкой на зубах, наполовину выбитых. Скелет, наряженный в дорогой, с орнаментом, халат, играл на скрипке, изящно держа смычок костяшками пальцев. Надпись под татуировкой заставляла задуматься: «Жил грешно, умру смешно».
– Что это значит? – спросил Китаев у Брыля. Тот чувствовал себя плохо, ходил согнувшись. Впрочем, Китаев чувствовал себя не лучше – болели обожженные руки, но он старался о них не думать, иначе боль никогда не пройдет.
Брыль выгнул голову, отер пальцами рот. Ответил тихо, стараясь, чтобы не услышали уголовники:
– Наколка очень крутых рецидивистов. С такими лучше не связываться.
Значит, наколка на груди этого уголовника была что высокая звездочка на генеральском погоне, и вел он себя по-генеральски: больше командовал, чем работал.
Разгружать шпалы с платформы – штука более тяжелая, чем укладка их в насыпь. Железный крюк, используемый при укладке – помощник, к сожалению, плохой. Хотя Егорунин, например, приспособился – изобрел собственный способ аккуратного спуска шпал на землю, – это у него получалось, – обучил этому новшеству и свою бригаду.
Плохо было, когда в бригаде не хватало рукавиц, а те рукавицы, которые зеки шили сами, быстро снашивались – трудно было достать крепкий, подходящий для рукавиц материал. Лучшим материалом был, конечно, брезент, но на стройке его было мало, – а он и прочный был, и плотный, и жесткий – иногда попадался такой, что мало чем отличался от фанеры, но руки не калечил, не натирал волдыри, оберегал пальцы и ладони. Китаев твердо зарубил себе на носу: если где-то попадется кусок брезента, пусть даже грязного, заляпанного маслом, битумом, дегтем, – чем угодно, словом, – надо хватать его и тащить к Егорунину: Егорунин разберется и стачает из этого куска первоклассные рукавицы…
На этот раз егорунинская бригада разгружала шпалы в рукавицах, пошитых бывшим старлеем, уголовники – кто в чем. Один из уголовников – лысый, ни одного волоса на голове, суетливый, постоянно хихикающий, будто вместе с пайкой хлеба проглотил что-то смешное, натянул на ладони обрезки ватного рукава – получилась очень неплохая защита от увечий. Голова у этого лысого пряника кумекала неплохо.
Пахан с наколкой глаз имел вострый – быстро узрел, что «политики» неплохо чувствуют себя, работают чуть ли не в перчатках, руки себе не уродуют. Лицо его перекосилось недобро, и он подозвал к себе бригадира «политиков». Тот, понимая, что с уголовниками лучше не ссориться, – это опасно, те тут же возьмутся за заточки и пики, – поспешно подошел к нему.
– Чего?
– Не чегокай, иначе утренней булочки с кофеем лишу, – выдал ему пахан, и пока бригадир «политиков» пережевывал это, осмыслял, что к чему, пахан сказал:
– Ты, фашист, чего жируешь так нагло? – Тут татуированный ухватил бригадира «политиков» за воротник. – И не делай вид, что ничего не понимаешь!
– Отпусти, – мирным голосом попросил бригадир «политиков», – задушишь.
– Если надо – задушу, – пообещал пахан, ослабил малость хватку. – Значит, так… Поделись своими славными рукавичками с моими орлами, не жмись. Понятно? – пахан сделал резкое движение и сдернул с правой руки бригадира рукавицу. Протянул руку: – Давай вторую рукавицу.
– Зачем? – тихим дрогнувшим голосом спросил бригадир «политиков».
Пахан рассмеялся, оглянулся на свою бригаду.
– Не пойму, кореша мои дорогие, то ли он издевается над нами, то ли в зоб получить хочет?
Бригада уголовников, поддерживая шефа, захихикала – авторитет пахана был среди этих людей непререкаем.
Егорунин, наблюдая за этой сценой, поднял с земли свой крюк, перехватил его поудачнее, затем подкинул в руке, пробуя его на вес, и через мгновение очутился около пахана. Вырвал у него рукавицу, отдал бригадиру.
– Держи. И вещи свои, товарищ гвардии майор, старайся не разбрасывать.
Как недавно выяснилось, у бригадира – военного интенданта в прошлом – было звание майора, а не подполковника, как считала молва, и он действительно служил в гвардейском полку.
– Ну вот ты, фашист, и нарвался, – опасным свистящим голосом проговорил пахан, – добровольно нарвался. Никто тебя на это не подталкивал.
Бригада уголовников всколыхнулась и мигом сбилась в плотную стенку. Это незамедлительно засекли вохровцы, заорали издали:
– Доходяги, кончай бузить! Иначе всех разведем по карцерам!
Хуже карцера в лагере бывает только могильная траншея, в карцер лучше не попадать… В могильную траншею – тем более.
Пахан оглянулся зло, перевел взгляд на Егорунина, – в глазах его, в глубине зрачков уже полыхал огонь, на щеках вздулись два твердых бугра – зубы зек сжал так, что запросто перекусил бы ножку у дубового стола, стоявшего в кабинете полковника Успенского.
– Ну смотри, гитлеровец, не промахнись, – предупредил он Егорунина свистящим железным голосом. – Имей в виду: лично я промахиваться не привык.
Свистящий голос и злые глаза не испугали Егорунина. Он усмехнулся – сделал это показательно, чтобы пахан все понял. Проговорил холодно, едва слышно:
– Я тоже промахиваюсь редко.
– Разойдись! – что было мочи проорал появившийся едва ли не из-под земли Житнухин – он вообще обладал способностью возникать из ничего, из пространства, как черт из табакерки. Сдернул с шеи автомат и огрел прикладом первого, кто стоял к нему ближе всех – Христинина.
Христинин охнул и сморщился – удар достал до костей.
– Разойдись! – глаза у сержанта сделались белыми, широкий рот распахнулся, обнажая светлый, словно бы обмахренный какой-то накипью язык.
Второй удар достался Егорунину. Рядом с сержантом неожиданно возник Сташевский. Вооружен он был старой винтовкой с вытершимся до основания прикладом и длинным стволом. Егорунин удар стерпел, не проронил ни звука, Житнухин ощерил зубы и ударил его еще раз, прохрипел, подгоняя Сташевского:
– Помогай, чего стоишь?
Сташевский все понял, так же, как и Житнухин, сцепил зубы и опечатал Егорунина прикладом винтовки. Рядом с ним уже пыхтели, работая прикладами, еще несколько охранников. Китаев заметил, что уголовного пахана ни один из караульщиков не задел.
Более того – не только пахана, но и рядовых уголовников – вертухаи-охранники их не трогали. Вполне возможно, боялись… Били только «политиков». При этом орали что было мочи:
– Фашисты! Гитлеровцы!
Заметил Китаев и то, что Сташевский старался едва ли не больше всех – во всяком случае, орудовал так же люто, как и сержант Житнухин. Вот тебе и преподаватель марксизма-ленинизма, призванный нести молодым людям разумное, доброе, вечное, светлое, высокое… Какая еще может быть нравственность?
В следующий миг Китаеву сделалось не до размышлений – его огрел прикладом сам Житнухин, с жаром выхаркнул из себя ругательство, замахнулся еще раз, но Китаев опередил его, проворно откатился в сторону. Житнухин выматерился и, извернувшись ловко, опустил приклад на сгорбленную спину магаданского «кума». Прорычал, с трудом продавливая слова сквозь плотно сцепленные зубы:
– Развелись тут… Фашисты! Давить, давить вас надо!
Брыль посерел лицом, застонал, ткнулся головой в шпалу.
– Вста-ать! – заорал Житнухин, перекинул автомат из одной руки в другую, взял ППШ наизготовку. Лицо у него сделалось такое, что без всяких слов было понятно – на спусковой крючок нажмет, не задумываясь. Уложит и глазом не моргнет.
Китаев поспешно подскочил к «куму», подсунулся под него, ухватил рукой покрепче, что было силы потянул его наверх, помог себе плечом.
– Вставай, Брыль! Ну! – просипел он.
Брыль выплюнул сгусток крови, возникший у него во рту – неужели образовался от удара прикладом по хребту? – помотал тяжелой головой, снова отплюнулся кровью. Младший сержант глядел на него заинтересованно: поднимется фашист или нет? Если не поднимется – ничего страшного, пятьсот первая стройка все спишет, в том числе и этого гитлеровца. Одним больше, одним меньше – тьфу! Житнухин раздвинул губы в победной улыбке.
Каждый день в земле здешней остаются люди. Много людей. Пересчитывать их не стоит, это отбросы общества, стране они уже никогда не понадобятся, – так полагал Житнухин. Гитлеровец этого не знает, а сержант знает… Очень хорошо знает.
– Отойди от него, – тихо, зловеще проговорил сержант, ткнул стволом автомата в Китаева. – Ну! Иначе положу обоих!
«Сейчас пальнет! – мелькнуло в голове у Китаева. – За ним не заржавеет…» «Кума» Китаев не бросил, засипел дыряво, стиснул зубы так, что из десен пошла кровь, и будто на жестком штангистском помосте рванул всем телом вверх, подбрасывая и тело Брыля, неожиданно сделавшееся неувертливым. Поднял «кума».
Брыль качнулся в одну сторону, в другую, чуть не завалился, но на ногах удержался. Китаев сунул ему в руку железный крюк, похожий на клюку, прошептал сипло:
– Обопрись, Брыль… Давай, миленький.
Охранники развели бригады – уголовники сосредоточились у одного края платформы, «политики» у другого с гиканьем и уханьем начали стаскивать на землю шпалы.
Пахан недобро косился на Егорунина, вытряхивал изо рта матерные слова и демонстративно плевал себе под ноги. Плевки были точными, как выстрелы из нарезного оружия, плевком он, наверное, мог перешибить муху. Такое внимание пахана означало, что у случившейся стычки будет продолжение.
С неба посыпал мелкий серый дождь. Колючий, холодный… Казалось, что из низкой тяжелой тучи на землю падала железная стружка, застревала за воротником, проникала под одежду, растворялась там.
Стылый морок пробивал тело до костей.
В два часа ночи дверь наскоро сколоченного дощаника, который занимали «политики», с тихим скрипом растворилась. На пороге возникла серая, облепленная комарами тень.
Принадлежала тень мужику грузному, косолапому, с длинными мощными руками. Обезьяна, а не человек. Среди «политиков» людей с такими фигурами не было, значит, понятно без всякого подробного рассмотрения, кто явился к обитателям дощаника. Немного оглядевшись, незваный гость махнул рукой – подал знак людям, остававшимся на улице.
Первым из темноты выдвинулся пахан, приклеил к губе едва приметно тлеющий окурок, пыхнул дымом, чтобы комары особо не разевали рты на предводителя уголовников, – спросил неслышно:
– Ну?
– Все на месте. Дрыхнут «политики», сладкие сны про Гитлера смотрят.
– Пошли! – пахан шагнул в душное, дурно пахнущее помещение, в котором ночевали «политики». – Досмотреть свои сладкие сны мы им не дадим.
Не ведал пахан, кто такие фронтовики, не знал их, никогда не нюхал воздуха, остающегося на поле боя после атаки, поэтому даже предположить не мог, что может произойти в следующую минуту, – был уверен в своей правоте, в своем могуществе… Ведь если понадобится, он заколет даже самого полковника Успенского.
У пахана имелся и проводник-уголовник, который часто наведывался к «политикам», чтобы повидаться со своим землячком, – даже более, чем просто землячком, земляк этот доводился ему троюродным братом и жил в его родном городе Абакане на соседней улице. Проводник точно знал, где находятся нары Егорунина, Китаева, Христинина, вообще всей этой шайки-лейки, которая решила мочиться против ветра… А мочиться против ветра не рекомендуют лагерные паханы – ох, не рекомендуют. Их морали, к слову, придерживаются все зеки без исключения.
Пахан поднял руку, и тут же под мышкой у него нарисовался проводник – невысокий, похожий на школьника зек, прошептал едва слышно:
– За мной, пожалуйста.
Вежливый, слово «пожалуйста» знает. Подойдя к нарам, где лежал Егорунин, проводник ткнул рукой в нижний настил, занятый человеком, укрытым телогрейкой. Пахан вытащил из-за голенища финку, поплевал на нее. Это последнее, что он сумел сделать – поплевать на нож. Телогрейка неожиданно большим черным комком отлетела в сторону, а пахан икнул надорванно, насаживаясь на собственное лезвие. Он даже не понял, что произошло – вывалил наружу язык и закатил глаза под лоб.
Со второго яруса свесились ноги Китаева, ловко подцепили проводника под голову и рванули вверх.
Подвешенный проводник застучал ботинками, но стучал недолго – Китаев ударил его кулаком по темени; проводник, промычав что-то невнятно, улетел под нары.
Всего несколько минут понадобилось на то, чтобы группа, пришедшая с паханом, оказалась лежащей на земляном полу. Кто-то валялся, захлебнувшись в собственной блевотине, кто-то головой развернулся на сто восемьдесят градусов – носом назад, – и не дышал, кто-то влетел головой под нары, будто под днище танка, и застыл там кучей бесформенного тряпья. Непонятно было, что лежит под нарами – то ли человек, припавший к замусоренному полу физиономией, чтобы отдохнуть, то ли старое одеяло, которое шофер набрасывает в зимнюю пору на капот родной машины, чтобы поменьше остывал мотор.
– «Кум», давай-ка на стрему, – скомандовал Егорунин Брылю, – постой малость. Оставлять эту публику в нашем бараке нельзя.
Брыль проворно свалился с верхнего яруса вниз, трусцой пробежал к двери. Выглянул наружу, всмотрелся в серую предутреннюю наволочь, недобро шевелящуюся, – было такое впечатление, что неподалеку кто-то ходит, раздвигает руками туман, – но за дверями никого не было, и «кум» махнул рукой – чисто, мол.
– Володя, вытаскивай первого отдыхающего, – велел Егорунин Китаеву, – нечего ему изображать из себя ватный матрас для автомобильного мотора.
Интересно умеет выражаться бывший старлей, – и явно постигал эту науку не на фронте.
Вцепившись обеими руками в лодыжки, Китаев выволок убитого из-под нар, потом перехватил его за воротник и, кряхтя, потащил к выходу. Не спал уже весь барак, кто-то соскочил с постели, помог Китаеву. На улице Китаев рассмотрел своего помощника – такой же брат-фронтовик, выжатый здешней стройкой, с синюшной кожей на лице и щеками, насквозь пробитыми пулей. Одной, навылет.
– Спасибо, друг, – поблагодарил его Китаев, когда труп заволокли за дощаник и разместили его в умиротворенной позе на межбарачной поляне. – Отвоевался.
На то, чтобы вытащить всех жмуров-уголовников из «политического» барака, понадобилось пять минут. Еще пять минут потратили на то, чтобы замести следы, затереть кровь, подобрать разбросанные налетчиками ножи и заточки, присылать землей кровяные лужицы… Через пятнадцать минут все «политики» лежали на нарах – вся команда Егорунина – и как ни в чем не бывало, похрапывала.
Такого слаженного боя, успешных резких действий контингент барака номер четыре не видел никогда. Сам Егорунин, едва закрыв глаза, провалился в сон, – устал очень, – а вот Китаев долго ворочался, перебрасывал свое тело с боку на бок, вздыхал, постанывал, – в общем, чувствовал себя неважно и до самого утра так и не уснул.
Утром «кум» четвертого барака выстроил своих подопечных, прошелся вдоль ровной, будто бы к параду приготовившейся колонны, тщательно вглядываясь в лица и немо шевеля губами, потом проследовал в обратном направлении, также тщательно вглядываясь в лица…
«Политики» полагали – сейчас будет разборка, нагрянут другие «кумы», специалисты по расследованиям, будут мять людей, выуживать из них сведения, но ничего этого не было: «кум», надзирающий за четвертым бараком, неожиданно махнул рукой и проговорил буднично, совсем не лагерным тоном:
– Можете идти на работу.
Колонна послушно развернулась и потопала к воротам – к выходу из-за колючей проволоки.
Никакой разборки не было. Только по лагерю слушок пошел, прокатился этаким слабеньким ветром, – мол, урки чего-то не рассчитали и не на тех нарвались, в результате продули свою игру вчистую.
Потерю эту отнесли к общим потерям пятьсот первой стройки, списали налетчиков, даже не вдаваясь в детали, не желая знать, что конкретно случилось с уголовниками… Пахана с его мертвыми приспешниками погрузили на несколько телег и отвезли в могильный ров, под лемех бульдозера.
Работа продолжалась.
– Жизнь человеческая здесь много дешевле этой вот горбушки хлеба, – Егорунин показал кусок черного невкусного хлеба, завернутый в темную немаркую холстину, распеленал кусок и всадился в него зубами – сохранил хлеб от завтрака.
Христинин и Китаев с завистью поглядели на него – свой хлеб они съели утром. Теперь оставалось только подтягивать штаны и застегивать ремень потуже, а тем, у кого ремня нет – завязывать веревку на пару лишних узлов, – других способов бороться с нудным желудочным нытьем не было.
– Да-а, – понимающе протянул Китаев, стрельнул одним глазом вверх, в небо – показалось, что там должно появиться солнце.
Ничего подобного, солнце появляться не думало, хотя и посветлело.
– То, что «кум» ничего не сказал, совсем не означает, что нас оставят в покое, – неожиданно произнес Егорунин и снова вгрызся в черный, быстро черствеющий хлеб.
– Что ты имеешь в виду? – насторожился Христинин. Глаза у него сжались, будто он смотрел в прорезь винтовочного прицела.
– Пока ничего, – Егорунин оглядел свою горбушку вновь, потом, поразмышляв немного, отломил кусок, дал Китаеву, второй кусок отдал Христинину. Опять вгрызся зубами в черняшку. – Пока ничего, а дальше видно будет.
– Что, на морде «кума» была нарисована какая-то пакость?
Егорунин усмехнулся.
– Как народ и партия едины, так и «кум» с подлостью, – неторопливо произнес он, глянул на приближающегося бригадира. – Эх-хе, – в голосе Егорунина возникли и тут же исчезли скорбные нотки, – пожрать совсем не дают.
Он завернул остатки горбушки в тряпицу, спрятал пайку в карман.
Несмотря на тяготы, на голод и гнус, который во второй половине лета стал лютовать меньше, пошел на спад, на атаки комарья, чьи полчища не могли отогнать ни дымокуры, ни костры из свежих веток, ни тлеющие головешки старых берез, на мор, навалившийся на зеков, – под каждую шпалу можно было положить по трупу – дорога продолжала двигаться вперед.
Добираться до острия стройки от летних зековских лагерей нужно было все дальше и дальше. По всем законам покорения пространства надо было строить новый лагерь, ибо даже ежу понятно: чем дольше пеший путь у колонн, тем больше возможностей у зеков убежать.
– Подъем! – издали прокричал бригадир. И как он только с таким голоском умудрился отсидеться в интендантах, непонятно, – с таким голосом он должен был как минимум командовать дивизией, а то и корпусом…
С другой стороны, бригада в претензии к нему не была – в конце концов зверем он не считался, чужие жилы на руку не наматывал, так же, как и остальные, подставлял под шпалы плечо, кряхтел, задыхался, но зековскую лямку тянул.
– Конец перекуру, – объявил Егорунин и, опершись на крюк, поднялся.
Тяжелый, наполненный потом, болью, скрипом натруженных суставов и костей, стонами, треском стиснутых зубов день потащился дальше. Егорунин ожидал, что бригаду их окружат автоматчики и погонят на разборку к начальству – не может быть, чтобы те, кто сидит над «кумами», не захотели узнать, кто прикончил уголовников и уложил рядком на видном месте, но что было – то было: расследование никто не собирался вести.
Впрочем, расследования Егорунин не боялся, поскольку давно усвоил правило: двум смертям не бывать, а одной не миновать, и был готов к этому; опасался он другого – вдруг кто-нибудь из «политиков» не выдержит и расколется?
Жалко будет человека, который это сделает, как будет жаль и самого себя – ошибся… В лагере, как на фронте, ошибок допускать нельзя.
Почти весь день около Егорунина, около Китаева с Христининым отирался Житнухин. Он словно бы взял их на мушку и теперь ожидал повода, чтобы нажать на спусковой крючок и обратить этих людей в кладбищенский дым, но повода так и не дождался. Поглядывал озлобленно на бригадира, подгонял его там, где не надо было подгонять – при ходьбе в гору. Что-то он вынюхивал, к чему-то готовился, что-то прикидывал про себя – может, хотел раскрыть тайну, как «политики» положили уголовников.
С вопросом этим младший сержант приставал и к бригадиру, но тот лишь беспомощно разводил руки в стороны:
– Ничего не знаю, ничего не слышал… Я спал.
– Спал, спал… – зло передразнил бригадира вертухай, хотел садануть бывшего подполковника кулаком по физиономии, но передумал. Произнес только с неким опасным спокойствием в голосе:
– Смотри, гитлеровец, пущу тебя в расход, будешь жариться в аду на чугунной сковороде. – Житнухин подумал немного и продолжил, ему нравилось ощущать себя среди зеков хозяином: – Была бы моя воля, я бы со всеми вами, фашистами, вот что сделал, – он наложил кулак на кулак, крутанул один кулак в одну сторону, второй – в другую. – Со всеми. Никого бы не помиловал. Понятно?
Сейчас Житнухин не отходил от их бригады, вынюхивал что-то, высматривал. Скорее всего, получил «боевое задание» от «кума» и теперь выглядывал, на каком кусту сидит ворона, которая может сожрать пару гаек, предназначенных для крепления рельсов. О том, что рельсы гайками не крепятся, особенно на севере, Житнухин не знал, а подсмотреть это у работяг, монтирующих пути, у бравого вертухая ума не хватило.
Дорога медленно уходила на восток, каждый день прирастал новым куском полотна. Иногда приращенный кусок был большой, иногда малый, случалось, что и очень малый – все зависело от того, на какую основу клали насыпь – на твердую, болотистую, или же под слоем гальки и песка оказывалась мерзлотная линза. А где-то на востоке такие же доходяги-зеки, как и они, тянули ветку на запад, навстречу им, считали свои дни. И у них, на пятьсот третьей стройке, были такие же «кумы», житнухины, сташевские, свои паханы и урки – все было такое же. И цель у них была одна, общая, одна на всех – построить дорогу…
Житнухин поманил пальцем их бригадира и уволок за штабель шпал, будто собаку. Бригадир пошел за вохровцем покорно.
– Потащил отпечатки пальцев снимать, – проговорил Егорунин угрюмо, сплюнул под ноги.
Христинин отозвался на это злой усмешкой, оскалил зубы.
– Может, отобрать у вертухая автомат и сделать в заднице дырку?
– Во-первых, шума много будет, во-вторых, вони.
– Верно. Желудки свои эти ребята любят набивать деревенским салом, чесноком да поддымниками.
– Что такое – поддымники?
– Вкусная штука. Горячие лепешки, испеченные на дыму. Вот эту вот вкусную штуку они и перерабатывают в вонючее вещество.
– Иначе говоря, в говно, – Егорунин вновь со злостью сплюнул себе под ноги.
Поскольку бригадир работал с ними в одной сцепке, то нехватка одного человека ощущалась сильно, да и вкалывать за бригадира, которого уволок конвоир, не хотелось.
– Сходить за ним, что ли? – привычно цыкнул зубами Христинин. – Притащить обратно?
– Хочешь проверить реакцию упыря с двумя лычками на погонах?
– А почему бы и нет? – Христинин преобразился в несколько мгновений, вновь стал фронтовиком: и фигура его сделалась меньше, проворнее, а значит, и неуязвимее, и лицо сузилось, приобрело опасное выражение, и шаг обрел невесомость, стал неслышимым.
Он быстро, летучей походкой добрался до штабелей, за одним из которых скрылся Житнухин с бригадиром, выглянул аккуратно и тут же отпрянул назад.
Житнухин привалил бригадира к штабелю, ухватился за его физиономию обеими руками, с силой сжал ладони – так сжал, что у несчастного бригадира открылся рот и вывернулся наизнанку, – и теперь плевал прямо в этот рот.
– Я же тебе говорил, чтобы обо всем, что происходит в вашем сраном бараке, ты докладывал мне лично? – шипел, будто Змей Горыныч, Житнухин. – Говорил? Почему ничего не доложил?
Последовали два жирных метких плевка в рот. И откуда он столько слюны брал, этот бесцветный вологодский сверчок? Ишь, как верещит. Бывший фронтовой интендант пытался ездить головой из стороны в сторону, но вохровец держал его крепко.
Явно Житнухин действовал по указке «кума», – похоже, велось внутреннее расследование, только велось оно не лобовым путем, а дорожками окольными, исподтишка. Иначе бы вряд ли Житнухин так усердствовал.
– Не выполняешь ты своих обязательств, фашист, – неожиданно устало проговорил Житнухин, плюнул напоследок в рот интенданта и отнял руки от его физиономии.
Брезгливо отер пальцы о плотные диагоналевые брюки, которые не одолевали комары, не могли ее прокусить: хорошую ткань готовили на фабриках для вертухаевых штанов.
– Тьфу! – Житнухин поправил висевший на плече автомат и перед тем, как уйти, произнес назидательно: – Обо всем, что происходит в бараке, докладывай мне, а я уж сообщу товарищу младшему лейтенанту, понял? Не будешь докладывать – снова наплюю в твой гнилой рот, а потом отправлю в карцер. Причем, учти, – постараюсь сделать так, чтобы оттуда ты уже не вышел.
Бригадира трясло, по лицу его катились слезы. Вертухай не оставил на его физиономии ни одного следа, ни царапины, ни синяка, но унизить умудрился так глубоко, что унижение это было равносильно, наверное, только смерти. Шатаясь, отплевываясь, бригадир вернулся к своим подчиненным. Лицо его было мокрым. Непонятно, отчего было мокрым – то ли от слез, то ли от едкой, очень холодной водяной пыли, падающей на землю из тяжелых плотных облаков, ползущих так низко, что там, где в рельефе имелись бугры и возвышения, они цеплялись за них, лили простудную мокредь, – то ли бригадир просто плакал.
Егорунин, все хорошо понимавший, достал из кармана остатки горбушки, завернутые в тряпицу, протянул бригадиру.
– На, съешь. Полегчает.
Бригадир, морщась страдальчески, брезгливо, с силой отплюнулся – он готов был сейчас вывернуть самого себя наизнанку. Отрицательно покачал головой:
– Не надо, Саня. Береги хлеб.
– Чего этот недоделанный требовал?
– А чего он может требовать? Только одно – чтобы я стучал на всех вас… На барак чтоб стучал.
– И каков результат у высоких дипломатических переговоров?
– Результат один: подохну тут, но стучать не буду.
– Жаль, мы не на «сухом расстреле», – Егорунин нервно дернул головой. – Мы бы живо завалили его кругляками. Даже собаки не нашли бы…
«Сухим расстрелом» в лагерях называли лесоповал. Самая тяжелая, самая голодная работа – лесоповал. Сделать норму и получить нормальный паек – штука недостижимая. Впрочем, дорога, которую они тянут на восток – штука не менее изнурительная, чем «сухой расстрел». Бригадир поднял тяжелый кованый крюк, которым он цеплял шпалы, стиснул зубы: а ведь крюк этот был оружием опасным – одним ударом можно было снести оленю половину головы… Не говоря уже о рогах – рога можно сбрить, как косой куст полыни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































