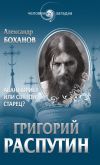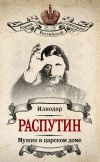Текст книги "Царский угодник"
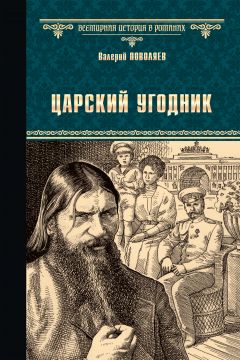
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Фрейлина Вырубова, которая, если верить газетам, отправилась в Тюмень к Распутину, до места назначения не добралась; в мире происходили какие-то очень тревожные превращения, расположение звезд было недобрым, отцы начали отказываться от детей, мужья от жен, друзья от друзей, соседи от соседей, пахло порохом и свежим пеплом, отблески пламени появились в разных углах земли Российской – то тут, то там загорались дома; вполне возможно, что и Вырубова отреклась от Распутина и кляла его где-нибудь в екатеринбургском соборе, склонившись к ногам очередного святого.
В Санкт-Петербург отправился покровский крестьянин Старчев, свидетель покушения. По мнению «Московской газеты», Старчев должен стать «самой популярной личностью» – его затаскают по салонам, по квартирам и дворцам, не говоря уже о том, что газетчики выжмут из покровского чалдона все соки.
Полиция начала тщательно проверять письма – по всей России, не только в Москве и в Петербурге, не только в городах, связанных с Распутиным. Из Туркестана поступило сообщение, что бдительный полицейский цензор-нюхач засек крамолу в одном из писем.
Письмо то было адресовано Вере Николаевне Рубах. Бдительный нюхач увидел опасность в следующих словах: «Дорогая тетя Верочка! Только что узнала об убийстве Распутина, это хорошо, а то была бы революция, он делал невероятные вещи. Твоя Оля».
Полицейских не испугали слова «убийство Распутина» и то, что ото хорошо», – испугало слово «революция».
Пошла разработка письма: кто такая тетя Верочка, то есть Вера Николаевна Рубах, чем она дышит и занимается, уж не связана ли с социал-демократами и бомбистами, и кто такая Оля? Может быть, курьер из города Берна или Стокгольма?
Перемен было много. Санкт-Петербург получил новое имя – Петроград. Антигерманские настроения в народе росли необычайно быстро, антиромановские – тоже: Россия больше не хотела терпеть царя Николая, хотела видеть царя другого.
По поводу находки туркестанского нюхача начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Петрограде (слово «С.-Петербург» было зачеркнуто, вместо него на машинке отбито «Петроград») сообщил: «…автором документа за подписью “Твоя Оля” является временно проживавшая в г. Петрограде, в доме 2, кв. 8, по Манежному пер., жена штабс-капитана лейб-гвардии Павловского полка Ольга Николаевна Туторская – 32 лет. Туторская проживала в означенном доме вместе со своими детьми в квартире своего тестя, генерала от артиллерии, почетного опекуна Ник. Ник. Трегубова, дочь которого, адресатка документа, Вера Николаевна, находится в замужестве за полковником, комиссаром поземельно-податной комиссии Николаем Бронеславовичем Рубах, 51 года, проживающим в Ташкенте».
Вроде бы ничего опасного, все названные лица – достопочтенные граждане государства Российского, но полицию сейчас пугало все, она реагировала даже на уличный свист, не говоря уже о свисте полковничьем или генеральском.
В Тюмени за газетами выстраивались очереди не меньшие, чем за дешевыми восточными сладостями, которые хотелось отведать всем, да карман не позволял покупать дорогие, за дешевыми же выстраивались «хвосты» длиною в километр. За газетами, где сообщалось о состоянии здоровья «старца», стояло столько же людей.
Появились спекулянты, которые покупали газеты по обычной цене – оптом, пачками, а продавали по рублевке за штуку. Барыш на этом имели немалый.
Народ бурлил. Тюменцы пили и плакали, размазывая пьяные слезы:
– За что же нашего Ефимыча-то?
Наиболее буйные орали:
– Смерть этой самой… как ее? Убивице! Давайте зарежем ее! А «убивица» на события никак не реагировала, на вопросы больничного персонала не отзывалась – возможно, снова ожидала вызова к следователю.
Еще тюменцы на все лады ругали председателя Союза – Михаила Архангела Пуришкевича, который позволил себе обидеть «их Ефимыча».
– Ух, гад! Ну, Пуришкевич! Лысину сапожной ваксой начистим и обольем горячим варом! – грозились буйные чалдоны, собираясь в трактире под предводительством владельца сундучно-ящичной торговли Юдина.
В газетах уже пошли материалы о сараевских погромах, но эти материалы мало волновали сибиряков, их волновали сообщения о Распутине. Сараево – это далеко, за морями, за долами, а Распутин рядом.
Войной запахло еще сильнее.
Едва Распутина перевезли в Тюмень и сделали перевязку, как ему стало хуже, «старец» приподнялся на своей постели и упал. Врачи кинулись к Распутину, он был недвижим и вроде бы уже не дышал.
– Сердце отказало! – констатировал один из врачей. Распутин, реагируя на его слова, открыл глаза. Столичная газета «Речь» в тот же день поместила сообщение, что Распутин был перевезен в больницу в Тюмень, где ему произвели операцию, «после операции раненый потерял сознание и в 6 часов вечера скончался».
Великосветский Санкт-Петербург – извините, великосветский Петроград – снова завыл от горя (впрочем, некоторые от радости).
Тюменский врач Владимиров сделал Распутину вскрытие брюшной полости и обнаружил, что воспалилась задетая тесаком брыжейка.
Через день великосветский Петроград узнал, что Распутин жив, и перестал выть. Но… «Опасность рокового исхода не устранена» – такую телеграмму поместил на своих страницах «Петербургский курьер».
Буквально следом «Петербургский курьер» поместил еще одну телеграмму, срочную:
«Ночью повысилась температура. Как передают лица, находящиеся у постели больного, Распутин крайне подавлен полученной им телеграммой из Петербурга о сербско-австрийском столкновении».
Когда Распутину прочитали эту телеграмму, он вяло пожевал ртом, попросил промокнуть ему мокрый лоб.
– Все равно не верю, что мы с германцем схлестнемся! – сказал он.
– Так развивается же сюжет! Развивается! – резким голосом произнес Гагенторн. – Кто ему может помешать? Я? Вы? Вряд ли, батенька! Не дано.
– Я должен помешать. – Распутин перестал жевать ртом, Гагенторн в ответ только хмыкнул. – Если хватит сил, – сказал Распутин.
– Вот именно! – Гагенторн снова хмыкнул. – Если хватит сил!
– И если буду жив!
– Угу, по знаменитой толстовской формуле: ЕБЖ – если будем живы! Но события раскрутятся так, что никто никого даже спрашивать не станет. Кашу эту варят не люди – государства. А для государств все мы – маленькие мошки.
– Верно, – произнес Распутин и закрыл глаза.
Следующие телеграммы «Курьера» были тревожными: «Жар повысился. Распутин все время находится в бреду. Опасаются последствий. Родные в отчаянии».
«Состояние плохое. К Распутину не допускают никого, даже родственников. Распутин снова обратился к властям с просьбой прекратить дело против Феонии Гусевой, которая сейчас лежит больная в тюремной больнице».
Что ощущал Распутин к Феонии? Ненависть, обиду, раздражение, злость, желание унизить, раздавить ее – хотя бы этим ходатайством, с которым он обратился к губернскому начальству. Или досаду, что вот так просто, ни за что ни про что попался, дал заколоть себя? Ну будто чушку перед рождественскими праздниками! Или в Распутине, когда он думал о Феонии, шевелилась тоска, откуда-то издалека накатывало прошлое, из прозрачной темноты возникало красивое, точеное лицо молоденькой монахини, которую он бил по щекам, требуя покориться, и дважды, не выдержав, ткнул кулаком под грудь, в разъем ребер, и злорадно усмехнулся, услышав, как у монахини перехватило дыхание и хрустнули кости.
Да, прошлое сжимало его клещами, Распутину многое хотелось переделать в нем, да, к сожалению, не дано было: оком он все видел, да зубом укусить не мог.
– Не могу, – страдальчески вздохнул Распутин, не открывая глаз, и повозил головой по подушке, – и грешен, и жалок, и слаб… кто я? Обычный человек!
Обычный человек часто бывает и грешен, и жалок, и слаб, но случается иногда такое, что жалость, слабость, душевная квелость, пороки и грехи, собранные вместе, производят гремучую реакцию – и слабый человек превращается в зверя, в гиганта, способного оглоблей сокрушить или хотя бы перевернуть мир. Распутин подозревал, что он принадлежит именно к этому разряду людей, и если бы ему дали оглоблю подлинней, он точно бы перевернул землю. Впрочем, он и так многое перевернул. Ну кто бы в его Покровском мог предположить, что простой мужик Гришка, сын Ефимов, будет сидеть за одним столом с самим самодержцем?
А Распутин сидит. И рассказывает, как угрюмые бородатые чалдоны бьют белку одной дробиной. Дело это тонкое, надо, чтобы дробина попала белке точно в глаз.
И заметьте, белку бьют не пулей, а обычной дробью, полным патроном, в котором дробинок этих, может быть, целая сотня, и если весь заряд попадет в маленького зверька, то в худшем случае рыжая шелковистая шкурка его превратится в сплошную дыру, а в лучшем – в решето. Но чалдоны стараются стрелять так метко, что из сотни дробин только одна попадает в белку и поражает ее точно в глаз – дырок лишних не делает, а там, где глаза, там уже есть дырки естественные, и это допустимо.
Царь любит такие рассказы. И царица Александра Федоровна любит. И царенок Алексей, к которому Распутин питает слабость – как увидит его, так в груди рождается невольное тепло и в висках возникает тепло, вызывает жалость: за что же природа так неласково обошлась с этим милым пареньком? То он хромает, то ни с того ни с сего у него подскакивает температура, то вдруг царапина никак не хочет заживать – все сочится, не засыхает, то голову начинает сжимать железным обручем…
Сам Распутин чувствует в себе силу, которую дал ему Симеон Верхотурский, силы этой у Григория раньше не было, а сейчас есть, он начал ее ощущать: проведет руками по голове Алексея – и у того болей как не бывало, улыбается паренек, сияет глазами. Боль Григорий может утихомиривать и на расстоянии, и не по телефону…
Распутин снова впал в больную одурь – видел себя сидящим на сундуке с грехами, чистенькую скатерть перед собой и Симеона Верхотурского, Симеон требовал, чтобы Григорий выложил свои грехи на скатерку, пересчитал, а Распутин сопротивлялся. Тогда Симеон пригрозил, что лишит его святого дара, и Распутин, не выдержав, заплакал, что нужен царю с царицей до тех пор, пока умеет делать то, чего не умеют другие, как только лишится этого дара, то лишится и их благосклонности. Впрочем, царя он и в грош не ставил, но главным для него был не царь, а царица, – мужик и командир в романовском доме… Когда Распутин отплакался, Симеона уже не было – святой человек исчез!
– Где я? – слабо прошептал Распутин и ничего не услышал в ответ. Плавали только перед ним красные и зеленые воздушные круги, совершенно невесомые, как облака, цеплялись друг за друга, среди кругов этих Распутин увидел людей, пригляделся к ним – знакомых лиц не было, люди были чинные, приветливые, над головами у них плавали небольшие золотые колечки. Распутин понял – святые. И еще понял, что он умирает. – Разве я умираю? – неверующе прошептал он и по-настоящему испугался: а ведь действительно умирает!
Неожиданно он услышал тихий, ясный голос и не сразу понял, что говорит Симеон Верхотурский:
– Прости всех, на кого имеешь зло, Григорий!
– Прощу, – пообещал Распутин.
– И молись, молись, молись все то время, что тебе осталось жить!
– Будет исполнено!
Наверное, поэтому он ходатайствовал перед губернскими властями, чтобы смилостивились над Феонией. Илиодорку тоже надо было простить. Очнувшись в очередной раз, Распутин спросил:
– А что Илиодорка?
– Пока в бегах. Не поймали.
– Охо-хо. Где хоть бегает-то?
– Одни говорят – на Кавказе, другие – в Крыму.
– Ладно. – Распутин вздохнул.
В Департаменте полиции появился секретный агентурный документ, добытый сотрудником, внедренным в редакцию «Волго-Донского края» – газеты, издававшейся в Царицыне. В редакцию неожиданно пришло письмо от Илиодора – собственно, это не письмо было, а статья, хоть и наспех написанная, но пространная, с подробностями, со своей сюжетной линией – все-таки у Илиодора имелся литературный дар.
Секретному агенту удалось снять копию не только со статьи, но и с записки, положенной в конверт. «По написании статья за спехом не прочтена. Могут быть всякого рода ошибки, описки. Прошу исправить. Илиодор».
В записке было указано место, где сейчас пребывал Илиодор: Норвегия, город Христиания <cм. Комментарии, – Стр. 163…Норвегия, город Христиания…>. Вон куда занесло беглого монаха! Его ищут на Кавказе, в Одессе, говорят, чуть не поймали – еле удрал проповедник, привычно переодевшись в дамское платье, буквально из рук полиции выскользнул, и то благодаря полоротости какого-то унтера, а он – в Норвегии!
Статья называлась: «Мытарства злополучного беглеца». «Почему, когда, как и куда совершилось бегство?» – спрашивал сам себя Илиодор и пространно отвечал на этот вопрос. Сотрудники в редакции схватились за головы – это какая же удача подвалила! Всех в России обыскали, даже блистательных петербургских репортеров! Всех заставили умыться! Редактор на радостях заказал в ресторане стол для всех сотрудников, хотя еще не предполагал, что с публикацией у него возникнут трудности и он не раз обругает Илиодора – лучше бы монах не присылал свою статью! Илиодор писал:
«За границей, в иной земле, когда нет около тебя человека, с которым ты мог бы побеседовать час-другой на родном языке, как охотно перо просится в руки и быстрее и ладнее скользит по бумаге…
Я воображаю, сколько разной разности, порой причудливой и странной, напечатали газеты разного направления по поводу моего бегства.
Воображаю только, но не знаю, потому что я с 4 июля, то есть с того дня, в который полиция открыла мой побег из “Новой Галилеи”, и до сегодня не читал ни одной газеты. Не читал отчасти из тактических соображений – был в дороге, а потому не желал обращать на себя чтением газет лишнего внимания публики. Не читал еще и в силу сложившихся неблагоприятных условий: мне пришлось более путешествовать по иным землям – Финляндия, Швеция и Норвегия, где русских газет и днем с огнем не сыщешь, а иностранных газет я, по незнанию мною иных языков, читать не мог».
Кстати, именно в это время «Петербургская газета» опубликовала заметку «По пятам за Илиодором»: «Илиодоровцы получили известие, что Илиодора в Одессе едва не поймали. Илиодор поспешно выехал на Кавказ».
А в Царицыне в те дни появился мрачный вислоусый человек в лаковых туфлях и узких, в яркую полоску брюках. Он зашел в церковь, где молились илиодоровцы, впустую поцыкал зубом, выражая свое отношение к молитве, толкнул локтем пышную старуху Никитину – вдову купца:
– За кого, бабка, молишься?
– За хорошего человека, чистого и святого – за Илиодора.
– За монаха, что ль?
– Ну!
– Молись, молись! Его скоро на виселицу поведут.
– Окстись! За что?
– Аль не знаешь?
– Его что, поймали?
– Два дня, как уже словили!
– Ах-ха! – Бабка в ужасе вскинула накрахмаленные юбки и чуть не повалилась на пол.
– Повесят, бабка, это уже решено! Один вопрос только открытый остался: за ноги или за шею?
– Ах-ха! – У старухи Никитиной перехватило дыхание. Народ, собравшийся в церкви, заволновался – в собор словно ветер ворвался; сообщение, принесенное вислоусым одесситом, повергло богомольцев в уныние.
А Илиодор, оказывается…
«Я убежал за границу, – сообщал Илиодор, – сейчас живу в столице Норвегии, Христиании, в гостинице «Internationale».
Далее Илиодор признавался: «Скажу откровенно, что к покушению на убийство “старца” Распутина я совершенно не причастен.
Одно время мне было даже известно, в какой форме мои почитатели хотели наказать этого гада: именно они собирались просто-напросто отрезать у “старца” детородный член, отрезать за то, что “старец” кощунственно проповедовал и проповедует, что он-де своим членом снимает у женщин блудные страсти и изгоняет у них блудных бесов. Собирались, но не сделали потому, что их намерения открыл “старцу” некий предатель-бродяга И. Синицын; недавно, как бы в наказание за это, он отравился тухлой рыбой.
Кощунственное и отвратительное учение о снятии с женщин блудных страстей через плотское совокупление “старец” неоднократно приводил в дело, что доподлинно известно мне, и с моих слов, а может быть, и со слов других, и притом пострадавших от старческих ухищрений, известно было и многим моим почитателям».
Я представляю, как это покоробило редактора «Волго-Донского края» – газеты той поры были целомудренными, и напечатать слово «член» было так же неприлично и кощунственно, как и громко выругаться матом на званом балу, в присутствии света и государя. Как ежился редактор и втягивал голову в плечи, подслеповато щурился и промокал платком глаза – все это было, было! – сомневался в публикации и подсчитывал собственные капиталы на тот случай, если придется уйти со службы, – хватит ли денег на жизнь?
Это была задача не только для трусоватого редактора «Волго-Донского края», которого мог съесть даже попечитель городской гимназии, это была задача для редактора крупной газеты – столичной либо московской. Трудно было решиться на такую публикацию, и я не знаю, решился редактор или нет – во всяком случае, эту статью в «Волго-Донском крае» я не нашел.
Далее Илиодор завел речь о Феонии Гусевой: «Я давно видел Гусеву, кажется, что еще в прошлом году, в октябре месяце. О том, что она могла наказать Гришку и наказала изрядным образом, я ничего не знал, не мог предполагать.
Ф.К. Гусева как истинный герой, вполне самостоятельно, без всякого науськивания с моей или с чьей бы то ни было стороны решилась сделать то, о чем мечтала и что в глубине души собиралась сделать.
Она дала Гришке решку. Она хотя и не убила его – это к лучшему, которое откроется после, – но она своим делом обратила внимание России и всего цивилизованного мира на эту грязную, черную, но великую историческую личность. Великой исторической личностью считаю Гришку не я один, но такие авторитеты мыслящего мира, как писатели Пругавин, Чириков <cм. Комментарии, – Стр. 166…писатели…>, Горький. Я об этом с ними недавно обстоятельно беседовал».
Далее Илиодор оправдывал Феонию, более того – благословлял, говоря, что покушение на Распутина – вещь не уголовная, она – совершенно иного толка, это поступок нравственный, дело это правое. Илиодор в послании специально подчеркивал, что готовит Феонии в защитники лучшего в России адвоката – об этом он уже договорился с «одним славным русским писателем» и не только со «славным русским…» – Илиодор был уверен, что его поддержат в России многие: не должен царем командовать мужик, не должен навоз решать, быть войне или не быть, закрыть медные шахты на Урале или, напротив, ткнуть в них пальцем, нажать на рычаги и увеличить выработки втрое, не должен раб советовать, как есть лягушек и устриц аристократу, и сам он не должен есть лягушек – царю царево, а мужику мужиково.
Илиодор завидовал Распутину. До стона, до слез, до крика. Не было бы Распутина – Илиодору жилось бы лучше.
Говоря о причинах, которые заставили его броситься в бега, Илиодор написал, что первым толчком было вручение ему обвинительного акта. «По этому акту я предавался суду Новочеркасской судебной палаты как погрешивший по 73-й статье Уголовного уложения (кощунство), по 74-й статье (богохульство), по 103-й статье (произнесение оскорбительных о Государе Императоре и Особах Царского Дома выражений с целью возбудить к ним неуважение среди служащих), и с угрозой предать меня суду по 102-й статье за образование преступного сообщества, поставившего себе целью учинение террористических актов».
Уж что-что, а такую вещь, как терроризм, бывший революционер Илиодор никак не мог применить к самому себе. Он вообще не мог представить себя в роли громилы, швыряющего под колеса кареты бомбу и расстреливающего из револьвера жандармов, как курей. Илиодор мог выругать наглеца, мог проклясть отступника, мог закрыть дверь перед бывшим десятником Синицыным, мог не подать милостыню настырному нищему, но бомба, револьвер и черная наглазная повязка – это уж слишком! Он давным-давно от этого отказался.
Илиодор жаловался также, что полицейские мешали ему работать. Он решил написать книгу о Распутине, рассказать всем, что это за проходимец, а писать ему не давали – в каждой канаве, под каждым кустом, под плетнями и заборами сидели шпики. «Маленький донской хуторок по количеству полицейских чинов напоминал пограничную заставу», – подчеркнул Илиодор.
Как-то к Илиодору приехали из Царицына две чинные старушки. Он усадил их за стол, выставил еду – что было, то и выставил, но накормить не успел – явился надзиратель Забураев – толстый, краснолицый, потный «коллежский генерал». Забураев себя величал «коллежским генералом», нравилось ему сочетание слов «коллежский» и «генерал»!
– Ты чего тут, Илиодор, учредительное собрание развел? – заорал надзиратель.
– Прошу мне не «тыкать»!
– Большевицкая агитация! Пропаганда! Публичное собрание! Запрещаю! – Забураев выдернул из ножен саблю и с обнаженным клинком застыл у стола.
Бедные старушенции затряслись от страха. Тогда Илиодор, едва владея собой, взял со стола мясо и хлеб, крынку с молоком и переместился в другую комнату – подальше от Забураева, пусть стоит себе с шашкой! Забураев переместился следом и выкрикнул что было силы:
– Большевицкие крысы! Маевки здесь проводите!
Старушки от этих слов позеленели:
– Свят, свят, свят!
– Ма-алчать! – Забураев взревел, стекла в «Новой Гали-лее» жалобно задзинькали, а с ближайшего дерева кувырком махнула вниз слабонервная ворона – от крика у нее остановилось сердце. – Документ! – прокричал Забураев и ткнул пальцем в старушку, сидевшую к нему ближе всех. – Говори, как твоя фамилия!
Хоть и хрупок был Илиодор – кость тонкая, нежная, как у девицы, кожа прозрачная, – а силы у него хватило, чтобы схватить Забураева за воротник и вытолкать взашей из хаты. Начищенную шашку – личное оружие полицейского, которое Забураев не раз целовал, клянясь в верности российскому самодержцу, Илиодор выбросил следом. Отметил, что от Забураева сильно попахивало – выпил в станичной харчевне самогонки. В отместку за унижение Забураев составил на Илиодора протокол, после которого поднадзорного надо было сажать в тюрьму. Илиодор, защищаясь, отправил забураевскому начальству письмо. «На смену Забураеву прислали другого, потом – третьего, четвертого, пятого… И все они, за немногими исключениями, оставались теми же Забураевыми», – писал Илиодор.
«Должность очернителей донским епископом была отдана двум местным попам: Никанору и Алексею. Первый – старый, слепой, здоровый, учивший меня в приходском училище Закону Божьему и серьезно толковавший, что Бог творил Землю, Луну, Солнце, звезды и прочее точно так же, как маленькие дети, играя, пускают сладко через трубочку мыльные пузыри. Второй – зять первого, молодой, чахоточный, злой. Никанор всегда рвал на себе рубашки, когда речь заходила обо мне», – жаловался Илиодор. Два священника следили за Илиодором люто – даже ночью подкрадывались к «Новой Галилее» и слушали из-за забора, что там творится, а если видели кого-нибудь из надзирателей спящим, то немедленно слали донос в канцелярию Войска Донского.
В конце июня, уже после покушения на Распутина, Илиодор отправил жену к родственникам копать картошку-скороспелку – как раз подоспела знаменитая «розовая», рассыпчатая, с фиолетовыми глазками – говорят, этот сорт казаки привезли из Германии, из боевого похода, – и остался один.
Вначале Илиодор хотел скрыться в окрестностях дней на пятнадцать, выждать, когда все утихнет, для этого он в одном из садов сплел себе из лозины домик, замаскировал его, соорудил и запасное жилье – в бахчах, среди арбузов, выкопал землянку. Сделал это заранее, еще в начале июня.
Здесь ослепленный Илиодор выдал себя, конечно, с головой. Если бы он не знал о покушении, то зачем бы ему готовиться к бегству? Вроде бы кольцо вокруг него не сжималось, сверху дождь не капал, не мочил голову – крыша у Илиодора была, – и все-таки он заранее приготовил две запасные позиции.
Когда покушение произошло и к Илиодору на хутор наведался полицейский чин – очень неприятный, как показалось Илиодору, раньше он его не видел, сонный, с вялым выражением в белесых глазах и, судя по всему, беспощадный, – бывший монах почувствовал, как шею его проколол холод, хотя по лицу тек горячий пот, а сердце вроде бы начало останавливаться. Чин вручил подписку о невыезде. Испуганный Илиодор добыл женскую одежду, подогнал ее – практика в этом деле у него была, у отца взял бредень и, сказав, что будет ловить рыбу на озерах и жить на займище, развесил бредень на заборе, около дома поставил кадку, замочил ее, чтобы набухла и не текла, на видном месте определил котел и куб для воды – словом, дал всем понять, что на озерах проведет не менее полумесяца, готовится к лову серьезно, с толком, но вот только сейчас ненадолго отошел по делам с хутора – вполне возможно, на станичный рынок, кое-чего из продуктов приобрести, солонины и гороха, еще сухого кваса – хрустящего, как крахмал, порошка, который хорошо разводить в родниковой воде, квас получается не хуже шампанского, даже в нос шибает, еще купить дроби и пороха к старому тяжелому ружью, из которого стрелял еще Илиодоров прадед, – и действительно, люди видели Илиодора в тот день на базаре, он все это покупал, в полиции потом были показания свидетелей…
Каждой вещи, оставленной на дворе, Илиодор постарался придать предельную смысловую нагрузку и расположить так, чтобы глаз мигом тормозился на ней и отмечал, что к чему, и очередной Забураев, войдя на хутор, несмотря на тупость, лень и винные пары, замутившие голову, все бы сразу понял.
Потом долго крутился перед старым запыленным зеркалом, повешенным в хате в рост, – надо было отработать плавные, мягкие движения, не допускать мужицкой резкости, ведь женщина никогда не сделает мужского движения, и Илиодор, понимая, что может быть раскрыт только на одних движениях, на поступи, на том, как он будет поддерживать юбку, когда подадут трап и пригласят на пароход, как станет поправлять шаль и вообще как завяжет ее, постарался отработать в себе «женщину».
Насчет того, что его может выдать внешность, Илиодор не боялся – лицо у него было красивым, утонченным, женским, глазастым, глаза вообще были какие-то лешачьи, лесные, загадочные, глаза Илиодору достались девчоночьи, кожа гладкая, напудрить, наштукатурить ее, превратить в женскую ничего не стоило, брови черные, атласные, волос густой, ухоженный, не посеченный временем, седых прядей и ниток – ни одной.
Ночью перед уходом Илиодор зажег лучину – даже лампу не стал запаливать, только одну лучину, как это делали когда-то язычники, присел на край лавки, услышал внутри задавленный стон – в груди скопились слезы, плач, что-то стиснуло душу, и Илиодор не удержался, всхлипнул, понимая, что, быть может, прощается со всем этим навсегда, – былое никогда уже не вернется, – всхлипнул снова.
– Простите меня. – Губы у него задрожали, неровный свет лучины заметался на потолке. – Простите меня, отец с матерью, простите, люди, которым я верил, земля, по которой ходил, – простите все!
Минут двадцать он сидел молча, не двигаясь, жег одну лучину за другой, слушал тишину, слушал себя, фиксировал тугие удары сердца в ушах, сипение простуженных легких – чтобы поправить их, надо было ехать в Крым, – смаргивал слезы и ощущал в себе слабость. Страшную слабость – ему мнилось, что он не сможет даже подняться со скамьи, в нем, похоже, все отказывало, все было сношено, мышцы одрябли, кости мозжило, от тупой ревматической боли можно было совсем ошалеть, живот втянулся и прилип к позвоночнику, в желудке поселилась боль.
Что же с ним происходило?
А происходила вещь обычная, которой подвержен каждый человек, родившийся в России, – внутреннее щемление, тоска, зажатость, однажды поселившиеся (наверное, еще в материнском чреве, до рождения) и потом всю жизнь сидящие в человеке, все годы – все это ожило, допекало, вызывало слезы и боль. Одни считают, что ностальгия – это болезнь, другие – что ностальгия хуже болезни.
Когда сгорела седьмая лучина – бывший монах сжег семь лучин, поскольку считал это число святым, приносящим удачу, – Илиодор всхлипнул, перекрестился на прощание, в последний раз втянул в ноздри сухой, пахнущий чабрецом и пеплом воздух и вышел на улицу.
На улице его ослепили звезды. Их роилось больше обычного – от звезд было светло, как днем; звезды перемигивались друг с другом, разговаривали, звенели – звон стоял тонкий, стеклянный, а когда Илиодор очутился на улице, звезды замигали. Им было интересно смотреть на беглеца. Илиодор поднял голову, снова всхлипнул.
Звезды расплылись в глазах, сделались мокрыми, многослойными.
Недалеко всхрапнула лошадь – Илиодора ждали. Он вытер глаза пальцами, высморкался и тихо выскользнул за дверцу, врезанную в забор «Новой Галилеи».
Через час Илиодор уже был далеко – лошади шли ходко, сзади клубилась пыль. Илиодор направлялся в станицу Константиновскую, к реке. По дороге сделал остановку в подворье одного богатого казака. Илиодор его фамилию не сообщал, опасался, что казака прижмет полиция, заставит отвечать за то, в чем он не был виновен, – перекусил, отдохнул, умылся и переоделся в женское платье.
Казак даже руками всплеснул, увидев переодетого Илиодора.
– Баба, вылитая баба! – Велел: – А ну, пройдись по одной половице!
Это раньше, чтобы проверить, пьян человек или нет, его заставляли пройтись по одной половице и не наступить на другую.
Но Илиодор не воспринял эту команду как «пьяную», спокойно прошел по половице, стараясь это сделать как можно грациознее, по-женски.
– Молодец! – восхитился казак, подбил рукой усы. – Натрене… натреньи… тьфу! Слово какое, а? Не выговоришь, к зубам пристает! Насобачился, в общем!
В провожатые Илиодору казак дал свою дочку – так было безопаснее: когда богатую матрону, которую должен был изображать из себя Илиодор, провожает дочка, то сам факт, что они вместе, трогательно заботятся друг о друге, уже должен был убеждать посторонних, что они имеют дело с любящей матерью, красивой, еще свежей женщиной… И пусть платье она носит несколько скованно – это, наверное, после болезни, остаточное, и цвет лица у нее бледноватый, какой всегда бывает после хвори – это пройдет, это блекнет перед тем, что мать, так же как и дочь, красива. Надо заметить, что на мать заглядывались не меньше, чем на дочь. Вот таким был Илиодор.
Они находились уже на берегу, на пристани, и купили билеты на пароход, когда увидели, что с горы, поскрипывая рессорами, на рысях спускается пролетка, запряженная парой сильных почтовых лошадей. Дочь казака прогуливалась по узкому деревянному тротуарчику, проложенному у самой воды, и, поднимая голыши, швыряла их в воду, заинтересованно глядя на круги, а Илиодор стоял в тени старой густой ивы, подобрав юбку, томно обмахивался веером: июнь на Дону выдался жестокий – огонь был, а не месяц, июль же, кажется, обещал быть еще хуже, и тем не менее Илиодор в эту жару кашлял – легкие он мог себе подремонтировать только в Крыму, в тамошнем сухом, напоенном запахом трав, хвои и морского йода тепле, донской же жар на пользу ему не шел…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?