Текст книги "История зарубежной литературы XIX века: Романтизм"
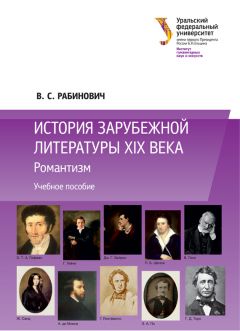
Автор книги: Валерий Рабинович
Жанр: Учебная литература, Детские книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Поэтическое творчество Гейне (начиная с первого поэтического сборника «Книга песен» (1827) и заканчивая финальным «Романсеро» (1848) – с этого года и до самой смерти тяжелобольной Гейне был прикован к постели, которую он сам называл «матрацной могилой») определяется сочетанием потребности в вере, идеале, даже поклонении и снижающей «рационализации» потенциального предмета поклонения, часто выходящей за рамки «умеренной» романтической иронии, порой уничтожающе саркастической.
С одной стороны, почти гейдельбергский пиетет перед таинственностью и метафизической насыщенностью немецкого народного фольклора, с другой – откровенное пародирование фольклорных клише (пародийная баллада «Зловещий грезился мне сон»). С одной стороны, романтический восторг перед революционной стихией (Гейне сам принимал участие в революционном движении, активно сотрудничал с Карлом Марксом, с 1831 года был политэмигрантом, не имевшим права въезда на территорию Германии), антифилистерский революционный пафос, доходящий до
Нет, лучше мерзостный порок,
Разбой, насилие, грабеж,
Чем счетоводная мораль
И добродетель сытых рож.
С другой стороны, ироническое (и даже отчасти саркастическое) пересоздание уже революционных (конкретно социалистических) клише в сатирической поэме «Атта Тролль», в центре которой – танцующий медведь-революционер (а именно социалист), «пещерный санкюлот», чье надгробие увенчали слова:
Плохо танцевал, но доблесть
Гордо нес в груди косматой.
Иногда зело вонял он, –
Не талант, зато характер.
С одной стороны, богоискательство; с другой – уничтожающее «богоборчество», между которыми наметился своеобразный компромисс в его парадоксальном предсмертном высказывании: «Когда лежишь на смертном одре, становишься очень чувствительным и мягким, и хочется заключить мир с Богом и миром… Как с его созданиями, так и с самим творцом я заключил мир к великому неудовольствию моих просвещенных друзей…» В это же самое время Гейне полушутя сравнивает религию с опиумом – не для народа, для самого себя, причем именно тогда, когда для облегчения его предсмертных страданий врачи прописывали ему морфий и опий.
Точно так же парадоксально «полюсным», вмещающим в себя противоположности, было отношение Гейне к своей родной Германии. С одной стороны, романтический патриотизм в духе гейдельбергских традиций, вполне искреннее и добросовестное стремление увидеть в Германии метафизическое величие; с другой стороны, критическая рефлексия по отношению к Германии и «немецкому», доходящая до безусловно антинемецких мотивов и смыслов, дававших основание для обвинение Гейне в германофобии. Очевидно, можно говорить о сложном чувстве Гейне по отношению к Германии, которое можно определить как любовьненависть, сложный синтез германофилии и германофобии (а также «промежуточных» чувств, среди которых и тоска по родине, и ностальгия, и душевная теплота, и комическое снижение в рамках романтической иронии, и выходящий за ее пределы едкий и злой сарказм). Своеобразный синтез и одновременно компромисс полюсных чувств Гейне по отношению к родной стране отразился в строках поэмы «Германия» (1843):
Хотелось поплакать мне там, где я
Горчайшими плакал слезами.
Не эта ль смешная тоска названа
Любовью к родине нами.
Ведь это только болезнь, и о ней
Я людям болтать не стану.
С невольным стыдом я скрываю всегда
От публики эту рану.
Одни негодяи, чтоб вызывать
В сердцах умиленья порывы,
Стараются выставить напоказ
Патриотизма нарывы.
Перед смертью лицо Гейне, по свидетельствам очевидцев, было похоже на лицо Христа, на котором вдруг обозначилась усмешка Мефистофеля.
Английский романтизм
Английский романтизм формировался в иных исторических обстоятельствах, нежели романтизм немецкий. Великобритания рубежа XVIII–XIX веков была уже сложившимся буржуазным государством с достаточно высокими степенями свободы отдельной личности. Обратной стороной этой свободы было одиночество отдельного человека как перед лицом общества, так и перед лицом мироздания, одиночество универсальное, космическое. Отсюда, с одной стороны, фиксация этого космического одиночества человека в богооставленном мире (творчество П. Б. Шелли), с другой – поиск новых метафизических основ преодоления этого одиночества, своего рода «реабилитация Бога» (творчество поэтов «озерной школы»), наконец, воспевание свободной и одинокой личности, способной встать на один уровень с первоосновами бытия, может быть, с Богом и в то же время несущей тягостное бремя своей свободы и своего одиночества (творчество Дж. Г. Байрона). Эти разнородные линии и определяли в своем единстве основные тенденции развития английского романтизма.
Предвестником английского романтизма, своего рода английским «предромантиком» принято считать Вильяма Блейка (1757–1827), поэта странной и необычной судьбы, за которым закрепилась репутация «безумного поэта» (отсюда многочисленные легенды об его многолетнем пребывании в Бедламе). Впрочем, по характеристике Ж. Батая, «Блейк не был сумасшедшим, но всегда ходил по краю безумия».
Сущностной чертой блейковской поэзии является ее визионерский характер. Блейк – поэт видений, иррациональных метафизических откровений. Он слышал голоса с небес, перед ним возникали образы Моисея, Гомера, Вергилия, Данте и Мильтона. Сам Блейк вспоминал: «Однажды увидел я объятого пламенем Дьявола, который предстоял Ангелу, восседавшему на облаке; и говорил Дьявол».
Все, что открывалось воображению Блейка, непременно представало в его поэзии на фоне высшего Добра и высшего Зла, которые в его мире постоянно присутствуют, они зримы, слышимы, ощутимы.
Опыт погружения в пространства высшего Добра и высшего Зла, опыт мистических откровений и видений воплотился в блейковском «парном» цикле «Песни невинности и опыта, показывающие два противоположных состояния человеческой души». Эти циклы тесно связаны между собой: иногда даже названия стихотворений повторяются («Маленький трубочист», «Нянюшкина песня»), иногда они подчеркнуто антонимичны («Дитя-радость» в «Песнях невинности» // «Дитя-горе» в «Песнях опыта»). Но смыслы противоположные. В «Песнях невинности» воплощено концентрированное добро, которое освещает все невзгоды бытия. Сквозной образ в «Песнях невинности» – образ просветленного младенца. Но уже в «Песнях опыта» появляется мотив оскверненного добра, появляется образ оскверненного младенца.


Вообще весьма необычен интерес Блейка к Злу как важному атрибуту бытия, неотделимому от Добра. Для Блейка характерно тяготение к восприятию Добра и Зла, Неба и Ада, Бога и Дьявола как необходимых частей единого, целостного мироздания. Отсюда интерес Блейка к Злу, к его метафизической сущности, отсюда «Пословицы Ада»:
«Прокладывай путь и веди борозду над костями мертвых».
«Червь, рассеченный плугом, не должен винить плуг» и другие.
Отсюда блейковское стихотворение «Тигр». Тигр у Блейка отнюдь не принадлежит к пространству добра, он хищен и, таким образом, безусловно противопоставлен архетипическому ягненку из пространства Добра. Но
Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила,
И тебя, ночной огонь?
Случай Блейка – случай исключительной метафизической насыщенности. В блейковском мире нет земного, ограниченного, причинно обусловленного; здесь все на фоне Вечности.
Особое место в литературе английского романтизма занимает «озерная школа», названная так по месту, где жил В. Вордсворт, которого «лейкисты» считали своим учителем, а жил он в так называемой «Стране озер». Наиболее значительные фигуры среди поэтов «озерной школы» – В. Вордсворт (1770–1850), С. Т. Кольридж (1772–1834) и Р. Саути (1774–1843). Объединяет «лейкистов» особая форма присутствия в их мире потустороннего, метафизического, относящегося к пространствам абсолютного Добра и абсолютного Зла. Человек в поэзии «лейкистов» не стремится преодолеть рамки земного – Высшее настигает его на Земле, напоминая о существовании Бога. Для поэзии «лейкистов» характерны примирение с мирозданием, своеобразное прочувствование того Высшего, которое управляет миром (именно поэтому поэзию «лейкистов» презирал Байрон с его поэзией бунта, вызова, несогласия).
Особой метафизической насыщенностью, открытостью Потустороннему отличается поэзия Сэмюэля Тейлора Кольриджа (1772–1834). С точки зрения Н. Берковского, английский романтизм вообще создан двумя поэмами Кольриджа, написанными почти одновременно, – это «Сказание о Старом Мореходе» (1798) и «Кристабель» (1798–1799). В «Кристабели» описано вхождение Зла в изначально добрый и светлый мир. Спасенная доброй и набожной Кристабелью девушка, внесенная на руках в замок, оказывается олицетворением Зла (в поэме присутствуют «змеиные» ассоциации) – и отныне замок как олицетворение изолированного от остального мира доброго пространства тоже поражен Злом.
В «Сказании о Старом Мореходе» также в изначально прекрасный мир входит Зло. Зло, изначально внесенное Старым Мореходом, который убил Божью птицу – Альбатроса (мотивы в поэме не «вычитывются», просто убил). Впрочем, в «Сказании о Старом Мореходе» несчастья, обрушившиеся на корабль (когда на глазах Старого Морехода в муках умирает от голода и жажды вся команда), предстают как справедливое воздаяние сверху, как знак Божьего суда. Суд людей, находящихся в земном пространстве, в кольриджевом мире случаен: они могут давать поступку Старого Морехода противоположные оценки, исходя из сиюминутных случайностей. Здесь – аллегория земного суда:
Когда убийство я свершил,
Был взор друзей суров:
Мол, проклят тот, кто птицу бьет,
Владычицу ветров.
О, как нам быть, как воскресить
Владычицу ветров?
Когда ж светило дня взошло,
Светло, как Божие чело,
Посыпались хвалы:
Мол, счастлив тот, кто птицу бьет,
Дурную птицу мглы.
Он судно спас, он вывел нас,
Убил он птицу мглы.
А Высший Суд оказывается неотвратимым и неоспоримым. Но этот Суд приводит душу Старого Морехода к спасению. И в конечном счете странный, с общепринятой точки зрения, текст кольриджевой поэмы, текст по своему содержанию визионерский, вписывается в художественное пространство поэзии «лейкистов»: мир по существу своему правилен, Высший Суд есть, остается лишь со смирением принять Данность.
Своим литературным мэтром «лейкисты» считали Вильяма Вордсворта (1770–1850). Ему был, очевидно, в наибольшей степени присущ свойственный всем «лейкистам» взгляд на мир, основанный на безоговорочном приятии Бога и созданного им мира, на всепримирении с этим миром. Взгляд на мир Вордсворта глубоко пантеистичен: Бог – во всем, и потому все в мире изначально разумно и справедливо.
Для вордсвортовской поэзии характерен образ ребенка, принимающего мир безусловно, с безгрешной беззаботностью, с детской непосредственностью. Детство оказывается для Вордсворта высшим мерилом, которым проверяется бытие. Именно глазами чистого, неиспорченного ребенка видится мир в вордсвортовской балладе «Нас семеро». В изложении Н. Берковского: «Поэт спрашивает у девчонки, сколько у них в семье детей. А она все твердит: семеро, семеро. А потом оказывается, что семеро-то семеро, но с матерью живет только она одна. Двое ушли жить в деревню, двое служат во флоте, а двое умерли. Он говорит: “Как же: выходит, пятеро вас. А она – семеро”». Оказывается, что в рамках простодушного детского сознания, говоря словами Н. Берковского, «нет смерти и на кладбище жизнь продолжается», и потому умершие брат и сестра на самом деле не умерли, «это у них другая жизнь».
Разумеется, вордсвортовский мир вбирает в себя и трагизм человеческого удела, также связанный с неким высшим и непостижимым источником (что воплотилось в вордсвортовской балладе «Последний из стада»). И все же мир для Вордсворта во всем своем трагизме изначально правилен, ибо он – от Бога.
Для баллад Роберта Саути (1774–1843), в отличие от поэзии Кольриджа и Вордсворта с их сложной, многомерной метафизикой, характерна достаточно прямолинейная схема «преступления и наказания». Отсюда даже композиционная схожесть ряда баллад Саути: обязательные составляющие здесь – однажды совершенное злодеяние, первый знак грядущего возмездия, попытки виновного скрыться от возмездия за множеством преград, медленное и постепенное преодоление карающими силами этих преград, наконец, свершившееся возмездие с обозначением несказанности, невыразимости состояния виновного в последний момент или же посмертной судьбы его души.
Такая композиция у баллады Р. Саути «Суд божий над епископом». В основу баллады Саути положена легенда (возможно, имеющая исторические истоки) о епископе Гаттоне, который в голодный год заманил жаждущих хлеба бедняков в сарай и сжег их там, а после был съеден мышами. В балладе Саути после совершенного им злодеяния
Глядя епископ на пепел пожарный,
Думает: «Будут мне все благодарны.
Разом избавил я шуткой моей
Край наш голодный от жадных мышей».
Ключевое слово произнесено. Наутро портрет епископа вместе с запасами его зерна оказались съедены мышами. Увидев в этом знак грядущего божественного возмездия, епископ пытается скрыться от него в надежной крепости на острове посреди Рейна, но если есть на то божественная воля – мыши переплывают Рейн, прогрызают стены башни, «Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери, // Спереди, сзади, с боков, с высоты… // Что тут, епископ, почувствовал ты?» Финал предсказуем: «Весь по суставам раздернут был он».
У другой баллады Саути – «Предостережение хирурга» (1798) – такая же композиция. Здесь в роли злодея оказывается хирург, похищавший с кладбищ мертвые тела для экспериментов, и возмездия – посмертного – в виде похищения его собственного тела для экспериментов ему предстоит ждать от собственных учеников:
Ученики мой труп расчленят,
Растащат мой жалкий скелет,
И мне, осквернителю стольких могил,
Покоя в собственной нет.
В этой балладе, как и в «Суде божьем над епископом», появляется предвестие возмездия: в одном случае это съеденный мышами портрет, в другом – появление учеников во главе с «первейшим плутом» у смертного ложа хирурга. Подобно епископу, хирург пытается избежать возмездия, поручив своим братьям – священнику и гробовщику, – надежнейшим образом спрятать тело. И здесь и там карающая Божья десница преодолевает все преграды. И здесь и там до грешника в итоге добираются, а далее
Что тут, епископ, почувствовал ты?
Ну а что с душой хирурга стряслось, // Не узнает никто никогда.
Прямолинейность «восстановления справедливости» в балладах Саути, очевидно, осознавалась самим поэтом. По крайней мере, в его творчестве присутствует ярко выраженный элемент автопародии. Например, его баллада «Король крокодилов», безусловно, автопародийна. Ее композиция совпадает с композицией ранее рассмотренных «серьезных» баллад Саути. Только в роли злодея оказывается… крокодил, а невыразимости предсмертных мук епископа Гаттона, непостижимости посмертной судьбы души несчастного хирурга в балладе Саути соответствует… посмертная судьба крокодильих детей.
И все соглашались, что месть – хоть куда;
Юные принцы – на славу еда.
Во многом в полемике с поэтами «озерной школы», в отрицании их образа мира и их поэзии создал свой поэтический мир Джордж Гордон Байрон (1788–1824). Своему роману в стихах «Дон Жуан» Байрон предпослал ядовито-ироническое посвящение поэтам «озерной школы», то есть лично Вордсворту, Кольриджу и в первую очередь Саути и «озерной школе» вообще («Но все-таки пора бы перестать // За океан озера принимать»).
В одной из последующих частей «Дон Жуана» Барон пародийно пересоздает сюжет кольриджева «Сказания о Старом Мореходе». В байроновском романе в стихах также возникает ситуация штиля и соответственно голода на судне, везущем Дон Жуана вместе с его любимой собачкой и любимым наставником. Однако байроновские матросы, в отличие от кольриджевых, покорно ожидающих смерти и с укором смотрящих на метафизического виновника их несчастья – Старого Морехода, просто борются за жизнь. Они съедают собачку Дон Жуана, потом его наставника, и описано это декларативно иронически. Как известно, вина кольриджева Старого Морехода состояла в убийстве божьей птицы – Альбатроса. У Байрона:
Когда же случай им послал нырков
И пару альбатросов на жаркое,
Покойника оставили в покое.
Подобный декларативный «антилейкизм» Байрона объясняется в первую очередь его неприятием объединяющего «лейкистов» примирения с жизнью, поиска во всем существующем высшего промысла. Жизнь и творчество Байрона, напротив, проникнуты энергией сопротивления, неприятия, бунта (и потому отнюдь не случайно именно байроновское творчество оказало столь существенное влияние на творчество М. Ю. Лермонтова, поэта «последнего бунта», по характеристике Д. Мережковского). Случай Байрона – это случай объединения жизни и творчества в нерасторжимое целое, выстраивания собственной судьбы как судьбы «романтической личности», сильной и независимой, не признающей никаких границ, живущей в мире как в игрушечном пространстве, бесконечно малом на ее фоне. Отсюда демонстративно скандальное поведение Байрона в окружающей его аристократической среде (и в семейном кругу, и в светском обществе, и в парламенте), в результате чего Байрону в 1816 г. пришлось покинуть Англию. Отсюда – его «игра с историей» в качестве одного из лидеров национально-освободительной борьбы греков против турецкого владычества (по случаю его смерти в Греции был объявлен национальный траур).
Романтическая личность в байроновском творчестве – это, как правило, личность бунтующая, не признающая рамок и пределов, порой бросающая вызов основам мироздания. Даже лишенный внешней свободы, как герой байроновского «Шильонского узника», много лет прикованный к колонне невольник, на глазах которого медленно умирали прикованные к соседним колоннам два его брата, байроновский герой сохраняет свободу внутреннюю:
Давно
Считать привык я за одно:
Без цепи ль я, в цепи ль я был.
Странствия романтической личности – Чайльд-Гарольда – легли в основу байроновской поэмы «Паломничество ЧайльдГарольда» (1812). Структурно поэма выстроена как свободное поэтическое эссе; описанные в поэме события ничем не связаны, кроме того, что их свидетелем оказывается путешествующий герой, а значительную (если не основную) часть текста поэмы составляют авторские раздумья и комментарии, порой комические, относящиеся к разным предметам (в частности, по поводу разных национальных характеров и нравов, мужских и женских типажей и др.).
Сам образ Чайльд-Гарольда отчасти автобиографичен; в поэме происходит своего рода «рассечение» автором собственного образа: путешествующий герой, чей путь в основном повторяет путь самого Байрона во время его путешествия по Южной Европе и Азии, а над ним – носитель несколько отстраненного «внешнего», но тоже авторского голоса, который дает всему, что видит Чайльд-Гарольд, свои комментарии, порой язвительно едкие.
Сам Чайльд-Гарольд – романтическая личность; для него не существует земных связей и привязанностей, ему ничего не дорого, он всем пресыщен. Именно байроновский Чайльд-Гарольд положил начало галерее родственных романтических героев, особенно в русской литературе. В частности, налицо «чайльдгарольдовские» мотивы в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина. В самом тексте «Евгения Онегина» встречаются прямые или косвенные уподобления Евгения Онегина Чайльд-Гарольду – от непосредственного «Как Child-Harold, угрюмый, томный // В гостиных появлялся он» до косвенного уподобления Онегина Чайльд-Гарольду Татьяной (может быть, он всего лишь «москвич в Гарольдовом плаще»). Более того, первичные «экспозиционные» описания характеров Чайльд-Гарольда у Байрона и Евгения Онегина у Пушкина родственны. Судя по многим признакам, первичным замыслом Пушкина было создание именно русского «ЧайльдГарольда»; впрочем, по мере работы Пушкина над «Евгением Онегиным» постепенно происходит дистанцирование пушкинского героя от байроновского прототипа.
Странствия романтической личности легли в основу незаконченного романа в стихах «Дон Жуан», начатого Байроном в 1818 г. (канонический перевод «Дон Жуана» на русский язык был сделан Татьяной Гнедич во 2-й половине 1940-х гг. в ленинградской тюрьме).
Байрон обратился в своем романе в стихах к известному «бродячему» сюжету, но байроновский Дон Жуан – это романтический герой, преодолевающий все границы. Одержимый страстью, объединяющей всех прочих фольклорных и литературных Дон Жуанов, байроновский Дон Жуан оказывается втянутым в великие исторические события, но все они, равно как и соприкасающиеся с Дон Жуаном исторические личности (Суворов, Екатерина II), оказываются достойными лишь насмешки на фоне романтической личности Дон Жуана.
По мнению Н. Берковского, в последовательности перемещений Дон Жуана «закодирована» история человечества: «детский рай» в Испании, его утрата в силу «первородного греха», потом варварская Турция, где Дон Жуан в женской одежде оказывается в гареме султана, затем наполовину варварская, но с некоторыми атрибутами цивилизации Россия времен Екатерины II, наконец, претендующая на роль оплота цивилизации Англия. Но совершенства в байроновском мире нет нигде; Байрон «пробует на вкус» разные формы жизни, разные страны, разные культуры, «испытывает» их Дон Жуаном.
Для литературы эпохи романтизма характерен образ романтического злодея, то есть злодея метафизического, злодея перед лицом высших сил мироздания. Такой романтический злодей выведен в мистерии Байрона «Каин». Примечательно, что библейский сюжет реконструирован в байроновской мистерии полно и точно вплоть до почти дословных совпадений с библейским текстом. Однако в мистерии «Каин» присутствует в сущностное смысловое «наращение» по отношению к библейскому тексту: байроновский Каин не только первый на Земле убийца, но и первый на Земле бунтарь. Он не способен, подобно своим родителям, безропотно смириться с вечной карой, обрушившейся на человечество за первородный грех Адама и Евы, он уже задает вопросы, причем вопросы, относящиеся к пространству теодицеи, оправдания Бога, по-разному решавшиеся в разные времена разными мыслителями. Вопросов этих по существу два. Первый:
…Древо
Росло в раю и было так прекрасно:
Кто ж должен был им пользоваться? Если
Не он [Адам. – В. Р.], так для чего оно росло
Вблизи его?
Второй:
Зачем же благость эта наказует
Меня за грех родителей?
Другие вопросы – их порождения. Каин до самого конца желает сохранить верность Богу, он не идет и за Люцифером, у которого есть свои, враждебные Богу, ответы на вопросы Каина. Каину нужен не новый хозяин – ему нужна Истина. И Бог в байроновской мистерии позволил свершиться первому на Земле злодеянию.
Одновременно в байроновской мистерии присутствует и мотив изначального трагизма романтического «благородного бунта»: Байроновский Каин лишь усомнился в Боге и положенном им законе и, не ведая, что творит, в помрачении свершил неведомое прежде на Земле злодеяние, истинный смысл которого осознал лишь после его совершения:
И это я, который ненавидел
Так страстно смерть, что даже мысль о смерти
Всю жизнь мне отравила, – это я
Смерть в мир призвал, чтоб собственного брата
Толкнуть в ее холодные объятия!
Байроновский Каин стал злодеем на мгновение – и стал им навсегда.
Особое место в литературе английского романтизма занимает Перси Биши Шелли (1792–1822). Для его творчества характерна исключительная метафизическая открытость. Даже его демонстративное, почти экстатическое безбожие (из университета он был исключен после публикации его брошюры «Необходимость атеизма») есть обратная сторона его экстатической религиозности. Даже бросая вызов Богу, Шелли постоянно чувствует его присутствие (его драма «Освобожденный Прометей» – это драма подобного бунта). В художественном мире Шелли все происходит на фоне высшего Добра и высшего Зла.
В своей драме «Ченчи» Шелли вывел фигуру романтического злодея, которого можно считать полной противоположностью байроновскому Каину – тоже романтическому злодею. Байроновский Каин только перешел черту и стал злодеем, злодеем перед лицом Бога – навсегда. Граф Ченчи из драмы Шелли (действие происходит в Италии XVI века) также творит злодеяния перед лицом Бога – его главный «адресат» именно Бог, и он в своих злодеяниях идет до предела, словно бы ищет такого злодеяния, кощунственнее которого быть не может, но предела здесь нет. Получив известие о гибели своих сыновей после его проклятия, он под другим предлогом созывает гостей и провозглашает своего рода тост за «поистине счастливое событье» – смерть своих сыновей и, словно бы призывая в сообщники Бога, заявляет: «Я вижу тут особенную милость // Небес ко мне…» А завершает свой «тост» Ченчи кощунственной травестией образа причастия:
Играй, вино, багряною струею,
Вскипай весельем в кубке золотом…
Когда б я знал,
Что ты их [сыновей. – В. Р.] кровь густая,
Я б выпил, как причастие, тебя
Во имя Дьявола, владыки ада.
Вскоре после чего объявляет о своем решении обесчестить собственную дочь.
И никто не препятствует Ченчи. Ни люди, ни Бог. По крайней мере, сам Ченчи верит в свою миссию – испытывать собой мир, а может быть, и самого Бога:
Душа моя – бич божий; все свершив,
Отдам ее всевышнему владыке.
Будь это в наказанье мне иль присным,
Ее он у меня не спросит прежде,
Чем я не нанесу последней раны
И не иссякнет ненависть моя.
И словно бы само Небо позволяет возмездию свершиться через новое злодеяние – отцеубийство, в котором обесчещенной отцом Беатриче помогают все оставшиеся в живых близкие. Теперь их ждут пытки и казнь.
А богооставленный мир, равнодушный к добру и злу, остается.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































