Текст книги "Логопед"
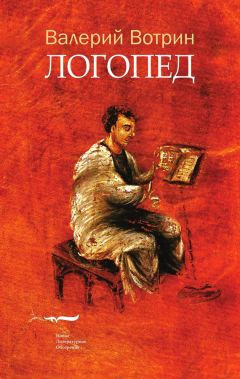
Автор книги: Валерий Вотрин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Ну-ка, скажи, – потребовал Рожнов, пошатываясь: – Скажи «полядок»!
– Порррядок! Порррядок! – с готовностью завопил попугай.
– У! – замахнулся на него Рожнов. – Колмлю тебя еще! Скажи «Ломуальд холоший»!
– Ррромуальд хоррроший, хоррроший! – заорала в ответ упрямая птица.
– Эх! – вздохнул Юрий Петрович и тут же, вспомнив о прошедшем дне, довольно улыбнулся. Так-то, господа-товарищи. А то все – параграф 211. Нет-нет, реформы нужны, реформы. Ну да пускай лучше Молостнов на сон грядущий об этом думает.
И Юрий Петрович погрузился в теплую постель.
Глава вторая
Еженедельник «Прави́ло» был одним из самых популярных и влиятельных изданий в среде эмиграции. Общеизвестно было, что выпускает его один-единственный человек – Лев Павлович Заблукаев, публицист, фельетонист, поэт, драматург. От недели к неделе неуемный Заблукаев в одиночку наполнял свою газету острыми статьями, колонками на животрепещущие темы, фельетонами, сатирическими стихами и пародиями, подписываясь как своей фамилией, так и разнообразными псевдонимами. Кто-то однажды подсчитал все псевдонимы Заблукаева за всю историю газеты – их оказалось более двухсот.
Тема у Заблукаева была одна – порча языка. На эту тему он писал с неисчерпаемой энергией. Порча языка занимала Заблукаева с ранних лет. Происходил Лев Павлович из семьи учителей и в детстве мечтал стать учителем родного языка, как родители. Читать он научился так рано, что даже не помнил, когда именно и с чего началось для него чтение – ему казалось, что читал он с самого своего рождения. Дошло до того, что, когда он был в третьем классе, отец стал сажать его за проверку школьных сочинений – и это получалось у маленького Левы великолепно. Он был пристрастным, внимательным и строгим учителем, хотя отцовские ученики, разумеется, и не предполагали, что оценки им давно уже ставит учителев сынок. И никто из них даже и не подозревал, каким ужасом, каким праведным негодованием проникался Левушка, читая их опусы. Стоило глазу его наткнуться на что-то вроде «В своей повести “Барыфня-крестьянка” А.С. Пуфкин показал…», как гнев и досада наполняли ученика третьего класса Льва Заблукаева. Ему казалось, что каждую минуту, каждый миг над языком совершается постыднейшее надругательство и что никто, кроме него, этого не замечает.
Его отец, Павел Львович Заблукаев, был добрый человек, совершенно запутавшийся в грамматических правилах. Что ни месяц, сверху, из министерства, спускался циркуляр с очередными поправками к грамматическим нормам, и через пятнадцать лет учительства старший Заблукаев уже не знал, как правильно написать – «жаворонок» или «заворонок». Не то чтобы писать «заворонок» предлагалось очередным циркуляром: вся беда была в том, что циркуляр не запрещал так писать, осторожно намекая на «варианты» написания. Видя такое, Павел Львович часто плакал в своем кабинете. Ему тоже казалось, что над родной речью совершается надругательство, но, в отличие от сына, он считал, что творится это непотребство исключительно с той целью, чтобы свести его, Павла Львовича, с ума, столкнуть в яму, лишить заработка, окончательно погубить. Иногда дома они с женой, учительствовавшей в соседней школе, схлестывались по поводу какого-нибудь правила. Поводом почти всегда служила ошибка диктора или газетная статья, где несколько раз повторялось какое-нибудь слово вроде «пелеломный». Павел Львович приходил в ужас, на что Наталья Михайловна, его жена, спокойно замечала, что язык не стоит на месте, он развивается и прекрасно, что правительство это понимает.
– Но как же быть с нормами, Наташа? – вскрикивал Павел Львович и начинал бегать по комнате, потрясая газетой. – Это просто немыслимо!
– Успокойся, Паша, – говорила Наталья Михайловна. – В газете просто так не напишут. Значит, следует ждать очередного циркуляра.
Это слово приводило Павла Львовича в умоисступление.
– Опять! – вскидывался он. – Это немыслимо, немыслимо! Это невозможно терпеть!
А через несколько дней в школу и впрямь спускался очередной министерский циркуляр, в котором предлагалось учитывать все «варианты» написания слова «переломный», а именно «пелеломный», «перевомный», «пегеломный», а также иные, не запрещенные законодательством.
Отец и сын никогда не разговаривали на эту тему. Младший Заблукаев сначала пытался высказать свою точку зрения на события, передать отцу слышанные в школьных коридорах слова, в которых уже не оставалось ничего от классической родной речи, но Павел Львович не хотел о них знать. С ужасом он начал осознавать, что эти слова, которые когда-то резали бы ему слух, теперь казались ему правильными. Он понял, что больше не различает грани между чистым языком и языком, на котором говорит улица. Он потерял опору. А ведь именно ему надлежало прививать ученикам любовь к родной речи, к ее нормам. Но он уже не мог, был не в состоянии. Жена смотрела на него со спокойным презрением. Сама она давно привыкла к этим нескончаемым циркулярам и быстро осваивала новые нормы. В школе ее любили, считали своей. «Усителка нафа нифего тетка, понимаюсяя», – говорили про нее. И она втайне гордилась приобретенным уважением.
– Наталья Михайловна, мозно выйти покулить? – спрашивали ее здоровенные лбы-десятиклассники на уроке, и она, либеральничая, разрешала:
– Мозно.
Поэтому метания мужа были ей непонятны. Язык не стоит на месте, нормы плавятся, текут под нажимом обстоятельств, слова видоизменяются, рождаются новые формы. Идет неустанная эволюция. Наталье Михайловне приходилось отстаивать свои принципы. На ее уроках часто бывали инспекторы-логопеды, после чего Наталью Михайловну вызывали на логопедическую комиссию. Там она говорила о размывании норм, рождении нового языка. Конечно, комиссии выдавали ей различные предписания – повышать уровень преподавания родной речи, неуклонно выполнять требования законодательных норм, неустанно внедрять грамматические правила. Она чувствовала, что к ней придираются, но на руках у нее был главный козырь – на всех проверках и комиссиях Наталья Михайловна настаивала на том, что выполняет требования всех циркуляров, выпущенных министерством. Это всегда срабатывало. Против циркуляров логопедическая комиссия была бессильна. Наталья Михайловна не знала, какая беспощадная война идет между логопедами и Министерством образования. Но, даже знай она об этой войне, она немедленно приняла бы сторону Министерства образования. Наталья Михайловна была убежденным сторонником реформ.
Павел Львович сторон не выбирал. Он уже не понимал, где какие есть стороны. Ему казалось, что все стороны, какие ни есть, ополчились на него. Оставалась лишь его любимая работа. Да, работу свою он любил. Он любил выискивать ошибки в сочинениях, ставить оценки, любил вызывать к доске. Ему казалось, что он – свет, а его ученики – тьма. Он любил рассеивать тьму в головах учеников своим светом. Павел Львович был убежден, что любое незнание – тьма, и даже ночь он был склонен считать не просто затемнением воздуха, а кромешным незнанием. Поэтому он любил солнце, луну, вообще небесные тела, проливающие либо отражающие свет. Но с недавнего времени тьма воцарилась в его голове. Он уже не чувствовал себя светильником в ночи. Он перестал понимать, чтó он несет своим ученикам. И они это знали. Ему даже казалось, что иногда они посмеиваются над ним. Кажется, они считали, что знают язык лучше его. Он ощущал себя зажатым в угол. По ночам ему снились циркуляры, которые окружали его, как охотничьи псы. Глаза циркуляров горели красным огнем.
Но однажды Павел Львович проснулся со странной светлой, легкой мыслью в голове. Эта мысль навсегда перевернула в его мозгу все вверх тормашками. Павел Львович придумал свою методу. Теперь он знал, как не ошибиться. Теперь один день он ставил всем двойки, всем ученикам без разбору. Другой день – только тройки. Третий день – пятерки. Четверок он не ставил, потому что не верил в их силу. Сочинения же он полностью отдал на откуп сыну. Теперь свои вечера ученик седьмого класса Заблукаев проводил за отцовским письменным столом, заваленным грудами школьных сочинений. Лева набрасывался на них и покрывал страницы замечаниями. Руки его были запятнаны красными чернилами, как кровью. Ученики Павла Львовича не могли понять, почему круглый неторопливый почерк учителя так изменился, превратившись в мелкую птичью побежку на полях и поперек сочинений. Мерзкой птицей было исклевано каждое слово, каждая буква сочинений. Это было так не похоже на Павла Львовича, что ученики единодушно пришли к выводу, что сочинения проверяет не он. К тому же оценки за сочинения были противоположны тем, что он ставил на уроках. Бывало, что весь класс получал пятерку на уроке – и сплошные двойки за сочинения на ту же тему.
Ученики были уже близки к разгадке, когда однажды Павла Львовича нашли в учительской – он увлеченно срывал развешанные на стендах циркуляры и рвал их в клочки. Когда его спросили, что он делает, он ответил, что циркуляры больше не нужны. Когда его спросили, почему это циркуляры больше не нужны, он ответил, что циркуляры не нужны потому, что Язык сам исправился. Когда его спросили, что это все значит, он ответил, что Язык вырвался на волю, встряхнулся, сбросил с себя нормы и циркуляры, как вцепившихся в него ловчих псов, и скоро придет ко всем, чтобы ухватить каждого за бочок.
Тогда Павла Львовича тихонько взяли, повели во двор, а он все вырывался, кричал что-то, а его негромко улещивали, продолжая вести, а у ворот уже ждала машина, из которой вышли дюжие люди в белых халатах, им-то его и передали, а он все кричал что-то про волкодавов, про циркуляры, про Язык-хищник, когда его втолкнули в машину, а та тронулась, и ни его ученики, ни другие учителя, ни соседи, ни Наталья Михайловна с Левой больше Павла Львовича не видели.
В тот вечер Наталья Михайловна попыталась рассказать сыну о том, что папа уехал в командировку и вернется не скоро. Однако Лева, который уже знал обо всем от одноклассников, не стал ее слушать. Ему было ясно, что отец пал жертвой борьбы за чистоту языка. Именно тогда ему открылось, что он, Лев Заблукаев, ввязался в кровавую и бесконечную рознь, в гражданскую войну, где враги не видны, а только слышны их слова, словно выстрелы, словно нескончаемые, уху противные канонады. Он понял, что словом ему и придется воевать, и придется воевать против всех. Это могло привести к самому трагическому финалу – тюрьме, сумасшествию, даже гибели. Он был на все готов. Годы проверки школьных сочинений сделали его самоотверженным и отважным бойцом. Он знал, на что идет.
Поначалу ему было тяжело без сочинений – он уже привык почти каждый вечер проводить за их проверкой. Он надеялся, что Наталья Михайловна тоже доверит ему проверку сочинений. Но в это время Наталью Михайловну неожиданно назначили директором школы, где она одиннадцать лет проработала учительницей родного языка, и он совсем перестал видеть ее дома. Приходя из школы, он делал уроки, готовил еду для себя и для матери и усаживался за чтение. Читал он много и все старые книги. Новые книги, пестрящие ошибками, он отметал. Чтение он воспринимал как наращивание мускулов, боевую подготовку, ибо чувствовал, как сила старых правильных слов вливается в него. Частенько он читал вслух, выговаривая каждое слово и наслаждаясь его звучанием. В школе так никто не говорил.
Учился он хорошо – не отлично, а хорошо. Учительница родной речи его недолюбливала, но ставить плохие оценки избегала – Лев Заблукаев, по ее мнению, был мальчик недалекий, но усидчивый. За свои сочинения Лева обычно получал тройки. Его это не расстраивало – зато сильно расстраивало Наталью Михайловну. Ее волновало, что у нее, специалиста по родной речи, такой сын.
– Лев! Отвечай, почему у тебя опять тройка!
– Не знаю.
– А кто знает?
– Мария Григорьевна.
– Ты что, не можешь нормально сочинение написать?
– Я пишу их нормально.
– А почему же ты тройки получаешь?
– Потому что она дура.
– Лев!
– Дура бестолковая.
– Лев, следи за языком!
– Мама, я только и делаю, что за ним слежу.
– Лев, скажи мне, когда это кончится? Когда ты перестанешь мотать мне нервы?
– Я их тебе не мотаю.
– Почему ты не слушаешь Марию Григорьевну? Она тебе добра желает.
– Потому, что она говорит «госудавство». Более того, она заставляет нас так писать.
– А как правильно?
– Вот видишь, мама.
– Что «вот видишь»? Что «вот видишь»?
– И ты туда же.
– Лев, когда-нибудь я сорвусь. Дрянной мальчишка!
– Мария Григорьевна сказала бы: «Двянной».
– Лев, ты обязан хорошо учиться. Ты обещал папе. Я не могу за тобой уследить, у меня просто нет времени. Но твое глупое упрямство, твое нежелание следовать за всеми меня очень огорчают. Язык не стоит на месте, понимаешь? Он изменяется. И мы изменяемся вместе с ним. Мы обязаны меняться. Это эволюция.
– Я не хочу говорить на таком языке. Он неправильный.
– Кто тебе это сказал?
– Просто знаю. Чувствую. Его портят.
– Кто? Что за глупые мысли!
– Все, вот кто. И ты тоже.
– Лев! Я одиннадцать лет…
– Ну да. И папа тоже. И Мария Григорьевна. Вы все одиннадцать лет, а кто и двадцать его портите. Язык портится, а никто ничего не видит.
– Лев! Прекрати сейчас же! Ты меня с ума сведешь!
– Значит, скоро встретишься с папой.
Эти разговоры всегда заканчивались крупными ссорами, и мать с сыном не разговаривали по несколько недель. Лев все яснее понимал, что его с матерью разделяет пропасть. И все больше задумывался о том, кем ему становиться.
Однажды вечером он зашел в комнату Натальи Михайловны. Та что-то писала за своим столом.
– Мама! – позвал он.
Она подняла нахмуренное лицо:
– Ты хочешь извиниться?
– Нет. Я хочу стать логопедом, мама.
– Что? Но ты из семьи служащих.
– Ну и что?
– Лев, ты понимаешь, что говолишь? Логопедами лождаются. Стать логопедом невозможно. И откуда у тебя взялась эта дулацкая мысль?
От волнения она сбилась на разговорный язык.
– Вот как, значит, ты разговариваешь со своими учениками.
– Да, так я с ними лазговариваю! И наши учителя тоже. Мы сталаемся…
– Я знаю. Вы стараетесь говорить с ними на одном языке. Ведь они его носители. От них зависит его развитие. Так?
– Лев! Как ты со мной лазговаливаешь?!
– Разговариваешь, мама. Так принято говорить. Видишь, почему я хочу стать логопедом? Потому что я хочу бороться с порчей языка, которое ты называешь его развитием.
– И как ты собилаешься это сделать?
– Я буду поступать на журналистику.
– Но жулналисты никогда не становятся логопедами!
– А я стану. Увидишь.
Она помолчала. Похоже, ей стало все равно.
– Делай как знаешь. Уходи, я не хочу тебя видеть.
Он ушел. Еще несколько месяцев, до окончания школы, Лева жил вместе с матерью, так же готовил еду для себя и для нее. Но больше они не перемолвились ни единым словом. Она приходила поздно вечером, молча ела и сразу ложилась спать. Он в это время читал в своей комнате. Прошло какое-то время. Он окончил школу, без труда поступил в университет и переехал в общежитие. Перед тем как съехать с квартиры, он приготовил для матери еду. Наталья Михайловна пришла поздно вечером, поела и сразу же легла спать. Отсутствие сына она заметила только на следующий вечер, не найдя готового ужина. Тогда, поняв, что сын ушел, она стала готовить для себя утром сама.
В университете Лева по успеваемости сразу выдвинулся в первые ряды. Немного отставал он только по истории общественных движений. В нем проснулся литературный дар, и он стал писать – так много, что однокурсники только диву давались. Заблукаев писал в общежитии, по вечерам и по ночам, а также по выходным, когда однокурсники его, люди молодые и несерьезные, проводили время в пирушках. Писал он также на лекциях. Его постоянно просили прочесть то, что он написал, и он читал – в коридорах, в аудиториях, на улице. Голос у него был довольно неприятный, высокий и резкий, но читал (и, главное, писал) Заблукаев с таким жаром, что все его слушатели немедленно проникались его идеями. Он мечтал донести свое слово до самых широких масс, но времени у него на это было мало – ведь надо было еще писать, и писать много. Он был переполнен идеями, которые искали выхода. Иногда его трясло от этих идей, и он срочно хватался за перо и принимался лихорадочно писать, рука прыгала, он удерживал ее другой рукой, бумага комкалась, он сыпал кляксами, которые разбрызгивались по бумаге, по столу, он размазывал их, не замечая, – ему было очень важно записать то, что лилось из него, сыпалось, валилось, рвалось.
Преподаватели относились к нему с опаской. Факультет журналистики был заведением довольно либеральным по сравнению с тем же филологическим факультетом, где деканом сидел логопед, назначенный туда с подачи центральной логопедической комиссии. Большинство преподавателей факультета журналистики исповедовали те же взгляды на язык, что и Наталья Михайловна, – здесь тоже были в моде разговоры об эволюционном развитии языка, о воле народа, выражающейся в ломке отживших орфографических правил и тому подобное. Факультет осмеливался даже изредка публиковать сборники трудов, озаглавленные «Народное произношение: проблемы, поиски, решения» и «Олфоглафия»: иной взгляд на проблему». Понятно, что конфликты с логопедической цензурой у факультета вспыхивали регулярно.
Савонаролой пришел молодой Заблукаев в это царство артикуляционного разврата. Его проповеди поражали. В многочисленных своих неопубликованных статьях он призывал неусыпно блюсти закрепленные законодательством орфоэпические нормы, немедленно отметать так называемое народное произношение и даже применять санкции к тем, кто поощряет порчу языка под видом поддержки языковой реформы.
Несмотря на то что у Заблукаева могло быть немало сторонников, его так и не решались поддержать публично. Возможно, этому мешала его яростность. В сущности, ему не были нужны сторонники, ему были нужны слушатели. Всех слушателей он считал своими сторонниками. Энергия его слов была такова, что в какой-то момент слушатели разлетались во все стороны и оставался он один, беснующийся в пустой аудитории. Ему это нравилось: ему казалось, что его слушатели, возгоревшись правдой его слов, отправлялись… тут ему не хватало воображения дорисовать, что же собирались делать его слушатели под влиянием его речей. Ему казалось, что они отправлялись менять мир, менять язык и что именно он благословил их на это.
Правда же была в том, что слушавшие Заблукаева люди плохо понимали его. Он говорил словами из старых книг, выговаривая их четко, наслаждаясь их звучанием, но мало кто мог по-настоящему уловить смысл заблукаевских речей. На бумаге еще куда ни шло – но его сочинений не печатали. Он пробовал дать несколько статей в университетскую газету, но там их не приняли. «Вогопедичевкая бвехня», – выразился редактор, лохматый чудик с биофака. Заблукаев ожидал этого. Чего еще ждать от пособников насилия над языком? Но он чувствовал необходимость найти печатный рупор для своих идей, поэтому через месяц принес редактору еще одну статью. Он и сам не знал, зачем он опять явился в редакцию. При всей чудаковатости редактор показался ему толковым. И Заблукаев принес ему очередную свою статью, присовокупив, что газета должна отражать диапазон мнений.
Непоправимость этого поступка открылась Заблукаеву слишком поздно. Долгое время ему казалось, что его не слышат, что он глаголет в пустыне. Он вспомнил, как еще в детстве считал, что лишь он один видит постыдное надругательство над языком. Все свое отчаяние излил он в новой статье. В ней он неистово обрушивался на школьные программы, попустительствующие размыванию языковых норм, искажающие законодательство. Программы, убивающие в учащихся любовь к правильной речи с ведома Министерства образования, которое целенаправленно назначает учителями и завучами сторонников пагубной языковой реформы. Статья называлась «Минобразный язык». Она занимала целых пятнадцать страниц машинописи. Чудик с биофака побледнел, пробежав ее глазами.
После этого Заблукаеву не удалось бы долее заявлять, что его никто не слышит, даже если бы он захотел. Ибо вопль получился оглушительным. Статью, конечно, не напечатали, но уже на следующий день она лежала на столе ректора. Еще через три дня студент второго курса Лев Заблукаев был отчислен из университета.
Заблукаев внутренне ликовал. У него получилось! Его отчислили из университета за политические взгляды. Разумеется, он не добивался этого – куда лучше окончить университет и получить диплом специалиста. Но это отчисление, оно лишний раз доказало, какое засилье противников правильной речи царит в стране. Они всюду – вредители пробрались в образовательные учреждения, в министерства, в газеты, они диктуют свои правила. Это они творят насилие над языком. Их одергивают, конечно, иногда особенно зарвавшихся снимают с работы. Но почему не жесткие меры? Почему не показательные процессы? К ликованию примешивалось горькое недоумение.
С недавних пор им завладела одна идея. Он начал работу над книгой рассказов. Это были не его рассказы – даром художественного слова он обладал в меньшей степени, чем даром публициста. Нет, Заблукаев решил собрать рассказы неудавшихся кандидатов в органы власти – жертв речеисправительных учреждений. На речеисправителей у Заблукаева давно уже был зуб. Ежегодно в их лапах сотни людей, решивших раз и навсегда покончить с неправильной речью, теряли ее навсегда, превращаясь в бесполезных калек – немтырей. Многие бесследно исчезали в специализированных исправительных домах. Другие, избежав этой жуткой участи, начинали мыкаться в поисках работы, постепенно скатываясь на самое дно. Злоупотребления и перегибы системы речеисправительных учреждений никто никогда не расследовал, имя этим преступлениям было легион. Заблукаев решил в одиночку взяться за это расследование.
Времени теперь у него было много. Заблукаева не смущало, что он уже не получит университетского образования. В конце концов, не оно было его конечной целью. Он хотел быть логопедом – назло сословным препонам, назло неписаным правилам. Он собирался завоевать право быть логопедом.
Заблукаев совершенно четко знал, где искать неудавшихся кандидатов. Всему городу было известно, что их во множестве можно найти в трактире Диколаева. В других заведениях их тоже было много, но трактир Диколаева они превратили в свой оплот, поэтому начинать следовало с него. Заблукаев так и не появился в других трактирах. Это было ни к чему. И без них в трактире Диколаева было вдоволь материала для исследования.
Заблукаев явился к Диколаеву и запросто попросился на место полового.
Диколаев нахмурился. Он не доверял людям, являющимся с улицы и просящимся на место полового. Диколаев предпочитал брать на эту работу людей проверенных – родственников или приходящих по рекомендации от знакомых. В ответ на его молчание Заблукаев принялся убеждать. Хотя убеждать он умел, ему было также известно, что Диколаев – человек недоверчивый и людей с улицы не любит. Поэтому он, зная историю Диколаева, решил надавить на чувствительное место и прямо сказал, что хочет внедриться в среду неудавшихся кандидатов, чтобы набрать материал для разгромной статьи о речеисправителях.
Хмурое лицо Диколаева разгладилось. Не дожидаясь ответа, Заблукаев вывалил перед собой на стол кипы бумаги – свои статьи. Диколаев протянул руку, взял стопку листов, стал читать. Заблукаев ждал. Он знал, что Диколаев не просто читает – он поверяет каждое слово статьи своим несчастным горьким опытом.
Минут через десять Диколаев поднял глаза. Еще минут пять он сидел неподвижно. Взгляд его где-то блуждал. Заблукаев устал ждать и стал рассматривать помещение. Комнатка была на задах трактира, в ней стоял нечистый стол, несколько табуретов, на стенах висели какие-то репродукции. Их-то он и взялся разглядывать – там были тракторы, веселые колхозницы, удалые комбайнеры, – но тут что-то его отвлекло.
Это на него смотрел Диколаев – неподвижно, сосредоточенно. Диколаев рассматривал Льва Заблукаева по частям – сначала лицо, потом одно плечо, затем другое, шею, грудь и так далее. Там, куда падал взгляд Диколаева, начинало чесаться, но чесаться, как моментально понял Заблукаев, было нельзя. Он было поднял руку, но взгляд Диколаева тут же поймал ее в фокус. Рука нестерпимо зачесалась. Заблукаев стиснул зубы, и тут зачесался живот, куда уперся неподвижный взгляд. Потом засвербел левый бок. Заблукаев молча извивался. Взгляд Диколаева продолжал его ощупывать и вдруг погас.
– Да, – глухо сказал Диколаев и поднялся.
Заблукаев понял, что его приняли. Диколаев куда-то сходил и принес длинный засаленный фартук, кинул на стол.
– Чтоб засветло, – молвил он.
– А во сколько? – решился уточнить Заблукаев.
Диколаев хмуро взглянул на него, но теперь от этого взгляда уже не чесалось.
– В час, когда в дутре дачинает гореть, – проговорил он.
И Заблукаев понял, что явиться на работу в трактир ему надлежит очень рано.
«Жил много лет назад в деревне Красная Лабуда один человек по фамилии Вовонин. Хороший был он человек. На птицефабрике забойщиком работал. Дом был – полная чаша. Икры куриной вдоволь. Жена красавица, детей трое, все сыновья. Дружно жили.
Да приключилось с ним вот что.
Вызывает его к себе председатель. Ну, говорит, Коштя, проштавляйся. Потому как тебя Партия выдвинула. Как Павтия? – говорит наш Вовонин. А его и правда весть эта изумила до самых глубин души. – Так, Коштик дорогой, – смеется председатель. – Жаметили тебя, значит. Вот бумагу пришлали, читай. Смотрит Вовонин – и впрямь бумага официальная. А в ней черным по белому написано: “Отрядить Воронина Константина для прохождения речеисправительных курсов в связи с неотложной надобностью”. А Вовонин-то честный был. Отложил он бумагу в сторону, вытянулся в струнку и говорит – не могу я, Иван Автемьич, в Павтию. Незвел еще. Нахмурился председатель, посуровел. Я те дам “не могу”, говорит. Мне тут из райкома жвонят, сам обер-шекретарь на проводе, а ты – не могу! Штоб утром был с вешшами!
Вот и весь разговор. Ну, собирается Вовонин и едет на курсы, как на казнь. Потому что слышал Вовонин, что люди про те курсы сказывают. Встречает его здоровенный верзила – речеисправитель главный. А, говорит явился, говорит. Ну, проходи-садись, – а сам рукава закатывает. Сейчас мы тебя, говорит, Воронин, лечить зачнем. Ну-ка, скажи: “Ровно-ровно рыли ров, рядно-рядно крыли ряд”. Аж сердце зашлось у Вовонина от этих слов. Попробовал он их произнести, но, кроме “вовно-вовно выли вов”, ничего у него не вышло. Ага, говорит главный речеисправитель, да ты никуда не годишься. И где калек таких Партия находит? Ну-ка, скажи: “Шкворень произвел разор, скройка скрыта от взора”. И опять ничего не вышло у Вовонина. Говорить-то говорит, но ничего из этого сказанного главному речеисправителю не нравится.
Так и почали лечить Вовонина. Чего только с ним не творили! И заставляли книжки толстые вслух читать, и языком щелкать, и камешки в рот совали, и посреди ночи будили-пугали. Добились только, что некоторые слова стал Вовонин правильно произносить. “Разбой”, например. Узнав об этом, главный речеисправитель был так доволен, что стал Вовонина разным комиссиям показывать – глядите, мол, каких успехов в речеисправлении мы добились.
Да только стали замечать эти самые комиссии, что слово-то Вовонин говорит правильно, но повторяет его слишком часто. И впрямь – стоит попросить Вовонина нашего произнести слово “разбой”, как он и заводит его на полчаса – разбой, разбой, разбой! – пока главный речеисправитель его по затылку легонько не шмякнет. А потом и вовсе перестал Вовонин другие слова произносить. Сидит себе тихонько в уголочке и бормочет – разбой, разбой! Скоро его в исправдом и свезли.
Вот как пропал человек».
О несчастном Воронине, как, впрочем, и о других жертвах речеисправителей, Заблукаев узнал от Юбина. Впоследствии Заблукаев не раз благодарил Провидение за то, что оно свело его с Юбиным. Ведь Заблукаев мог с ним и не встретиться, хотя Юбин был постоянным обитателем трактира Диколаева. К тому времени Заблукаев прослужил в трактире уже месяц. Три раза уже он поскальзывался на полу, падал и сильно ушибался; как-то раз здорово обварился кипятком из самовара; а однажды его съездил по уху в дымину пьяный посетитель. Все это Заблукаев сносил безропотно, даже не замечая. Повязав обваренную руку какой-то тряпкой, он шустро носился меж столами, разносил, подливал, убирал. А как выдавалась свободная минутка, заскакивал в ту комнату, которую выбрали своим убежищем неудачливые кандидаты. Никто не знал, сколько их здесь ютится в этой комнате. Большую часть ее занимала невероятных размеров печь, давно не топившаяся. Кандидаты жили на ней, с боков и внутри нее. Днем они разбредались из трактира: кто – просить милостыню, а кто – подворовывать. Однако к ночи в комнате становилось шумно. Здесь пили, пели, играли, плакали и даже, случалось, кончали с собой.
Заблукаев изо всех сил пытался сблизиться хоть с одним из кандидатов, но его подводила правильная речь. Стоило кандидатам услышать ее, как вой и брань наполняли комнату. Заблукаева гнали вон пинками и обидными словами. Кандидаты считали, что он подослан, причем они не разбирались, кем именно. Одни считали, что его подослало правительство, другие, – что логопеды, третьи были уверены, что его прислал Диколаев взимать с них старые долги за выпитое. Так или иначе, но Заблукаева в этой комнате не жаловали.
Не любили его и другие половые. Это был простой народ, разговаривавший на ужасающем, по мнению Заблукаева, языке. В первый же вечер Заблукаев, улучив момент, пришел на кухню и попытался доступно рассказать о благах и привлекательных сторонах правильной речи, но его подняли на смех и чуть не побили. Среди половых за ним тут же закрепилась кличка Лева-Болтолог. Заблукаев стал излюбленной мишенью шуток и дурацких розыгрышей. Его передразнивали, ставили ему подножки, мазали всякой дрянью. Заблукаев переносил все это стоически. У него была миссия. Он хотел раскрыть миру масштабы злодеяний речеисправителей.
Прошел месяц, как Заблукаев нанялся в трактир Диколаева половым. Он уже привык к своей ежедневной работе. Его стали узнавать посетители. Потекли тонким, пока еще не щедрым ручейком чаевые. Однажды Заблукаева послали в комнату неудачливых кандидатов убрать со стола. Был почти полдень, комната была пуста, только возле печки сидел на табуретке человек и тренькал на балалайке. Заблукаев собирал гремящую посуду на поднос, и его вдруг поразило странное поведение человека: тот время от времени переставал играть и что-то отрывисто и зло говорил куда-то в угол, за печку, точно огрызался. Заблукаев приблизился к нему и заглянул за печку, чтобы понять, с кем человек разговаривает. Балалаечник не обратил на Заблукаева ровно никакого внимания: он был вусмерть пьян.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































