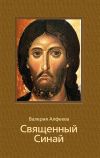Текст книги "Призванные, избранные и верные"
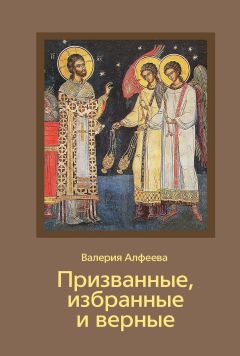
Автор книги: Валерия Алфеева
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Разум, данный нам, чтобы мы познали Единое, погружается в тысячи мелочей, мир дробится на осколки, как разбитое зеркало, и оно уже ничего не отражает. Человек изучает давно прошедшее и мечтает о том, чего никогда не будет, но не умеет жить сегодня. Он знает что-то о конформациях молекул и температуре на Луне, но не знает смысла собственной жизни и не может понять, отчего он страдал, страдает и будет страдать, пока бьется сердце…
Мы не успели позавтракать, и отец Антоний подкрепился в электричке куском лаваша.
Он рассказывал, что было дальше, после того как он увидел изображение на ладони.
– Я стал думать: это образ святого, а баптисты святых не признают, – значит, у них нет истины.

– А дедушка верил в Бога?
– Конечно, он же вырос до революции… И я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так собирался на молитву, как мой дедушка. Старательно умоется, ладонями пригладит волосы, подтянет под ремень рубашку… Даже приосанится, расправит плечи, потом уже встанет перед иконой…
Отец Антоний будто еще видел своего умершего дедушку и улыбался ему. Сидел он напротив меня, говорил неспешно, негромко, и мне приходилось наклоняться вперед, чтобы расслышать все сквозь дребезжание вагона и стук колес. Подрясник, закатанный снизу до пояса и аккуратно заправленный под ремень, издали казался черной рубашкой со стоячим воротником – принадлежность Годердзи к иному миру не бросалась в глаза. Немногочисленные пассажиры не обращали на нас внимания – мы были вдвоем, как вчера.
– Не сразу можно было вырвать все живые корни… Грузия недавно праздновала полторы тысячи лет христианства, помните? Деревня твердо хранила весь христианский уклад, посты держали строго. Я с детства усвоил: в среду и пятницу к скоромному не прикасаться. Дедушка в субботу посмотрит на часы: «Пора кончать работу, уже полдень…» Один раз я в воскресенье полез собирать черешню, упал с дерева и сломал ключицу. Тоже навсегда запомнил, что в воскресенье работать нельзя…
Он потрогал ладонью ключицу, будто проверяя, хорошо ли она срослась с тех пор.
– Нравы в деревне до сих пор чище, чем в городах, особенно больших. Хотя развращение проникает всюду, но такой потерянности в селе нет – там сохраняется страх Божий, совесть… Этим еще и живы. А когда убивают в человеке веру, отмирает и все святое. Душа опустошается, брак, семья – все разваливается под собственной тяжестью.
Я спрашиваю, где он учился.
– В вечерней школе, после работы. Думал поступать в институт иностранных языков. В школе учил немецкий, но нравился мне французский, я и его усвоил быстро, мне языки легко давались. Но в этот институт принимали за большие взятки, детей чиновников, когда я узнал об этом, не стал и пытаться… Так Бог меня уберег от всякой карьеры.
Народу в вагоне почти не осталось. Старый крестьянин прилег на соседней скамье, прислонив голову к корзине.
– Но больше всего лет с одиннадцати я любил танцевать. Учитель в балетной школе говорил: «Ты прирожденный танцовщик».
В его походке сохранилась эта летучая легкость.
– Так что в церковь я попал не сразу после того, как перестал посещать баптистов. Я ходил в театр, на балеты… Самое странное, до сих пор не могу понять, как я вообще впервые оказался в церкви. Я шел совсем в другое место. И вдруг обнаружил себя перед иконами… Стою весь в слезах и молюсь. Будто кто-то помимо моей воли меня там поставил.
Я подумала: вот и я еду в Гударехи будто помимо своей воли, будто Господь взял меня за руку и повел. А надолго ли и зачем? Он это знает Сам.
Отец Антоний постоял на платформе, глядя в сторону гор:
– Там, на вершине горы – монастырь… Отсюда кипарис видно.
На скамейке под вязом прилаживал багаж: рюкзак – за спину, сумку с хлебом – на грудь, привязав ее к лямкам рюкзака, еще по сумке в каждую руку…
Тронулись в путь.
За мостом открылось село, подобное тем, какие я видела из окна вагона. Шоссе кончилось, дорога между оградами садов топорщилась колеями засохшей грязи. Навстречу шли гуси, вытягивая шеи, шипя и гогоча. Из раскрытой дверцы в воротах, выкрашенных серебряной краской, на нас глядел крепкий старик в сванской шапочке.
– В этом селе – самые дикие жители. Сколько я ни ездил по Грузии, нигде таких не встречал… – Отец Антоний понизил голос, словно старик, стоявший уже на три дома сзади, мог нас слышать. – Один раз в монастырь шел отец Гавриил, – знаете? На него напали здешние женщины: зачем он священник, православный, когда они – мусульмане? Бросали в него камнями, даже рясу порвали… Больше он не приходил. Лучше и нам не останавливаться.
Я с опаской оглянулась. Старик все так же стоял в воротах, провожая нас взглядом. Больше никого не было между домами, только гуси уходили от нас и собака, высунув язык, бежала за нами.
– Это аджарское село, мусульмане не помогают монастырю ничем, разве что за большие деньги. Я здесь даже хлеб не покупаю, хотя все пекут сами…
Солнце прожигало насквозь, воздух обдавал сухим жаром. Отец Антоний не ждал, между нами было метров пятнадцать, и это расстояние уже не увеличивалось и не сокращалось, как будто он считал, что порознь мы представляем менее удобные мишени для воинственных иноверцев.
Перешли деревянный мостик через речку. В ущелье остались последние дома. Дорога поднималась все круче.
Губы пересохли, колотилось и начинало побаливать сердце. Чемодан становился все тяжелее. За поворотом, в разреженной тени, я с облегчением выпустила его из руки.
– Пойдемте, в монастыре работы много. Мы еще два километра не прошли.
И опять вверх по солнцепеку, тщетно стараясь уловить лоскуток тени. Хотелось рассмотреть лес по склонам, широколиственный и высокий, но в голове стоял жар, как при большой температуре. Коричневый набитый рюкзак моего спутника покачивался далеко впереди.
Подождав меня, он снова указал в небо:
– За этой горой – монастырь. Скоро будет тень, а потом родник…
До родника я добралась на последнем горячечном дыхании. Отец Антоний снял рюкзак и наклонился к струе воды. Она била из среза горы, выложенного камнем.
Я долго не могла утолить жажду.
На повороте тарахтел трактор и курили рабочие в оранжевых жилетах.
– Дорогу в Гударехи строят. Во все наши монастыри теперь проложат дорогу… – в голосе отца Антония сквозила досада.
– Разве это плохо?
– По новой дороге покатят к нам на машинах компании на пикники, пойдут экскурсанты. Покоя не будет – костры, шашлыки, транзисторы… Я бы совсем завалил дороги: так святой Серафим Саровский помолился, и на тропинку упал дуб.
– Но ведь и верующие приходят?
– Верующий и через лес дойдет. Кто-то говорил, что если человек искренне ищет истину, то по каким бы дорогам он ни шел, рано или поздно он придет к Богу… Но и по асфальтированной дороге в машине с нетрезвой компанией не доедешь к Творцу.

Мы остановились посреди зеленой поляны за воротами монастыря. Вокруг сомкнулось пространство, залитое светом и звоном цикад, таким высоким и ровным, будто звенел сам этот золотой свет. Столетний кипарис был вознесен над храмом, как пирамидальная колокольня. В тени его ветвей вросли в землю могильные плиты. Чернели стволы лип в несколько обхватов, густо зеленели их кроны с четко прорисованной листвой на световом фоне. За липами на краю поляны стояли три домика, будто слепленные из одних заплат, жестяных или фанерных, под пегими черепичными крышами.
Не шелохнется лист, не вскрикнет птица – все погружено в послеполуденную дремоту. Только рыжий теленок на привязи посреди поляны переступает тонкими ногами и щиплет сочную траву.
Я обошла храм. Построенный на месте разрушенного древнего храма, он представлял собой темный куб с непропорционально узким барабаном и пирамидальным куполом. В примитивных формах не осталось ничего ни от гармонической простоты и мощности ранних базилик, ни от изысканной роскоши средних веков грузинского зодчества с аркатурой многогранных барабанов, с богатым декором, неповторимой резьбой по камню в крестах на восточном фасаде.

Куда ушла красота?..
Мы входим в прохладный полумрак с одной горящей лампадой перед образом Богоматери. Отец Антоний положил земные поклоны и ушел в алтарь.
Я стою посреди храма, смотрю, и убожество его убранства отзывается во мне глухой тоской. Иконы прописаны с провинциальной умилительностью, выцвел полотняный иконостас с едва различимыми пятнами ликов.
Какой контраст являет это унижение нищетой с роскошью окружающего Божьего мира… С какой привычной и уже потускневшей от привычности болью я видела это оскудение повсюду на некогда святой Руси – после тысячелетия христианства, после преподобного Андрея Рублева, кремлевских, владимирских, суздальских, северных храмов и древних монастырей. Проезжаешь от деревни к деревне – и в каждой церковь с отбитым крестом, с облупленной штукатуркой и проломленным куполом, заколоченная, с мертвыми глазницами окон. И мерзость запустения внутри, оскверненный алтарь. А вокруг – обезлюдевшие деревни, заколоченные дома…

Вот символ времени: разрушенный и оскверненный храм и сердце человеческое, подобное этому храму.
– Столпы и стены покрасим в белый цвет – увидите, какой будет красивый храм… Но когда это будет? В монастыре три старухи, даже не монахини, и одна псаломщица, на ней держится и служба, и хозяйство. Прихожан нет, в воскресенье забредут две-три случайные пары, поставят пять свечек. Кормимся от коровы и огородов. Хорошо, что у нас какие-то иконы есть. А сейчас в Грузии открывают двадцать храмов и монастырей, там ни икон, ни церковной утвари, ни облачений. Пустыри и руины… будто антихрист уже прошел по земле. Наш Патриарх говорит: если сжать горсть грузинской земли, из нее выступит кровь мучеников…
– А если горсть русской?
«Возьму ли крылья зари…»
Обедаем втроем – священник, я и псаломщица Нонна, грузинка лет тридцати восьми, почти не говорящая по-русски. Она небольшого роста, с плотной фигурой под выгоревшим вельветовым халатом. Под черным платком лицо местной крестьянки, густые брови сходятся у переносицы, черные блестящие глаза, широкие скулы. И громкий голос, почти без пауз что-то восклицающий, вопрошающий у священника.
Она скороговоркой начинает молитву, я заканчиваю ее по-русски.
Отец Антоний наполняет стакан, и я пью родниковую воду, какой, и правда, не пила никогда. Она прозрачна, холодна, как будто сладковата, но это не сладость, а тот богатый вкус живой воды, которому нет названия. И утолив жажду, хочется пить ее по глотку, нёбом и гортанью ощущать ее чистоту и свежесть.
Отец Антоний удовлетворенно наблюдает, как я пью:
– А вы говорите: «чай»…
– Я уже не говорю: «чай». Можно еще воды?
Нонна в упор рассматривает меня с доброжелательной заинтересованностью, оживленно говорит что-то иеромонаху.
– Она спрашивает, есть ли у вас семья?
И дальше о Мите, с восклицаниями, с двусторонним синхронным переводом. – Она говорит, чтобы вы оставались у нас насовсем.
– Я согласна…
– О, она согласна! Посмотрим! – Нонна громко смеется, размахивает вилкой.
На столе молодая картошка, крупно нарезанные помидоры и огурцы, разломленный лаваш. Псаломщица ест поспешно, хватая то с одной тарелки, то с другой, роняя крошки и не прекращая при этом разговора.
– Не спеши так… – стесняясь, говорит ей священник. – И помолчи хоть немножко.
И обращаясь ко мне:
– Она спрашивает: вы умеете доить корову? Она научит.
– Но лучше не так сразу.
После трапезы отец Антоний показывает комнату, в которой я буду жить, – она выходит в прихожую, где мы обедали, рядом дверь Нонны. Это комната для гостей: две кровати изголовьем к окну, столик и шкаф. Под столом – репчатый лук, банки с фасолью и оплетенная бутыль с яблочным уксусом.
Я распахиваю окно, отодвигаю ветку виноградной лозы – раскрывается зеленая и голубая даль. Теперь видно, как мы высоко поднялись. Долину внизу пересекает река со многими излучинами. За ней разбросан белый макет городка, дальше, по горизонту – синие хребты. Все прорисовано отчетливо, с тщательной проработкой каждого деревца в долине и линий крыш.
Окно – на уровне второго этажа, под ним огород, сетчатая ограда и заросший склон. Другое окно открывается тоже в навес из винограда, отсюда виден соседний домик – его глухая, облепленная кусками толя и жести стена и пегая крыша.
Мне нравится Гударехи и этот светлый приют с виноградными листьями вдоль оконных рам, с далью за ними, с соседством маленькой возбужденной псаломщицы, говорящей, к счастью, только по-грузински. Все здесь я принимаю покорно и доверчиво, как инобытие, в котором Господу угодно сейчас меня разместить.

Вечером я достаю Псалтирь и, полистав, раскрываю:
…Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно… Дивно для меня ведение Твое, – высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря – и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя… И тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день…

…Просыпаюсь я рано от солнечного света и птичьего многоголосья. Посвистывание, пощелкивание, щебет, чириканье и нежное воркованье. Я слышу отдельно каждый вскрик и краткий возглас, одинокий тоненький голосок, выводящий ликующее «Уи! Уи!», и переливы, переклички вдали и совсем рядом, под нашей крышей.
А было прошлым летом… Стояли под солнцем хвойные леса, краснела земляника на опушках, холмы были покрыты россыпями черники, зарастали ряской озера. Но уже день на третий я ощутила странную тревогу, как будто некая угроза была растворена в воздухе этого природного лесопарка. И вдруг ужаснулась – лес онемел… Никаких голосов, будто я оглохла или заколдованно обеззвучился мир. Его покинули птицы! Километрах в тридцати несколько лет работала атомная электростанция. Уже действовали две ее очереди, а на третьей все что-то не ладилось и утекало, хотя об этом не сообщали. И дети собирали землянику, несли корзинки с грибами… Но даже воробьи исчезли совсем. И других птиц почти не осталось, только одиноко, с печальными вскриками, летали ласточки над водой. И жутко стало в этом немом лесу, как будто смерть уже пронизала его насквозь и дышала в затылок…
И вот этот ранний и райский гомон, свисты, щебетание и переливы…
Я беру ведра и иду на родник за водой. Мимо дома отца Антония, вдоль кукурузного поля, по тропе под гору.
Родничок укрыт тенью наклонившегося вяза. Вода льется в углубление, выстланное камнем, оттуда вытекает тихим ручьем. Я обливаю холодной водой лицо, пью из пригоршни.
Потом прихожу еще с двумя ведрами. Подниматься по крутой тропе трудно, поэтому вверх я ношу их поочередно, задевая крапиву и расплескивая воду.
День наливается жаром. Отец Антоний в вишневом подряснике, осыпанном опилками, строит баню над обрывом. Он вырубил шесть стволов, срезает топором кору, роет для столбов ямы. Из склада – прямо под полом моей комнаты – выносим листы шифера для стен и крыши. Отец Антоний прибивает их к столбам, я поддерживаю лист на нужной высоте или подаю топор, молоток, гвозди.
Нонна сбрасывала лопатой землю с обрыва. А теперь стоит, прислонившись к свежеоструганному стволу, только что вкопанному, смотрит, как священник работает. Косынка ее сбилась на плечи, но халат заколот на шее булавкой, на ногах шерстяные носки и галоши. Она что-то с жаром говорит, отец Антоний посмеивается и качает головой:
– Как-то я чинил крышу, а она кричит: «Ой, что я вспомнила!» – «Что ты вспомнила?» – Она говорит: лет пять назад, когда мы еще не были знакомы, она видела меня во сне. И вот подошла и узнала – как раз так я ей снился. Это она уже несколько раз рассказывала, теперь опять говорит. Еще ей снилось большое хлебное поле, и мы на нем работаем – всегда вдвоем.
Остальные обитательницы монастыря не участвуют в наших трудах по возрасту. Домне и Гликерии за восемьдесят, обе они рясофорные послушницы, вместе работали на кухне в патриархии, а теперь их отправили сюда на покой, и они занимают соседние домики. За ними живет Мелания, лет на пять моложе их. Домна – грузинка, Мелания и Гликерия – русские. Вот и весь состав нашей заброшенной обители.
Мы втроем сидим возле кипариса на могильных плитах. Над нами черная тень ветвей и низкое иссиня-черное небо в несметных россыпях звезд. Тьму вокруг то и дело прорезает мгновенный полет светлячков. Их много, снующих и разные стороны, и кажется, что они оставляют в черноте изогнутые световые ленты. Ночь расчерчена ими, высвечена изнутри.
На соседней плите – темный силуэт сидящего монаха, обхватившего колено руками.
Нонна взволнованно разговаривает.
Запрокинув голову, я ищу знакомые созвездия. Улучив паузу, отец Антоний оборачивается ко мне – я узнаю это только по голосу:
– Когда я был ребенком, я любил молиться в саду или в лесу…
– А разве вы… молились еще до церкви?
– Конечно… В детстве я всегда молился, потому что очень страдал. Уходил вот в такую ночь в лес, молился на коленях и плакал. Я говорил: «Господи, Ты знаешь, какая у меня судьба… Другие дети бегают, играют. А меня Ты лишил всего. Возьми меня лучше к Себе…»
Нонна, уставшая за день, вдруг положила мне голову на колени и затихла.
– Деревня тоже была в горах, как здесь. И лиственный лес, сосны. Я не мог быть с ребятами своего возраста. Я был другой… Я любил ночь и звезды и любил быть один. А когда кто-нибудь подходил ко мне слишком близко, я очень мучился, даже плакал. Я просил: «Господи, отведи его, он мне мешает…»
Другой, иной: инок. Человек живет среди людей, но он иной. Он еще сам не знает об этом, хочет быть как все, но ничего не выходит.
– Родители мои, крестьяне, с рассвета до ночи работали. Я с детства не мог спать на заре, когда все просыпается и радуется свету. Родители всегда старались жить хорошо: чтобы был дом, скот, свой хлеб… Да, жили, как другие люди… Иногда праздновали, иногда ругались. Но мне казалось, что так нельзя жить, и сам я так жить никогда не буду. Так и вышло потом. С юности ни дома у меня не было, ни имущества. Жил где придется, питался чем попало… до самых этих пор.
Нонна уснула. Я сидела, не шевелясь, боялась, что она проснется и заговорит, и тогда замолчит Годердзи.
– Семь лет мне было – что я тогда понимал? Но однажды я поклонился до земли Иисусу Христу и сказал: «Я никогда не буду пить, курить и ругаться… никогда не буду есть мясо, если… если Ты не оставишь меня».
– И вы исполнили этот обет?
– Я старался…
Бесшумно возникла из тьмы собака, покружилась, со вздохом свернулась у ног священника.
Длинными искрами все так же носились в темноте светлячки, вспыхивали вдруг рядом и пропадали.
– Еще я просил Бога в детстве: «У меня ничего нет – дай мне видеть, что в человеке». И я стал видеть, что в нем. Подходил человек на базаре, а я уже знал, кто он такой, что скажет… Знал даже, какую он назовет цену. От этого я стал страдать еще больше: лучше не видеть, что в человеке. Теперь я боюсь смотреть прямо в лицо, потому что вижу намерения, вижу грехи людей.
– А не оттого ли вас выгнали из церкви? – догадалась я. – Не всякий хочет, чтобы его видели насквозь… Может, потому и не платили: ждали, что вы сами уйдете?
Он усмехнулся:
– Всего нельзя говорить…
Ну да, ведь не от нечего же делать он повторял: «чистота, чистота!»
– Теперь я знаю: монахами не становятся – монахами рождаются. В те годы я всегда чувствовал такое тепло в сердце, будто Господь прижимает меня к груди и держит. Я желал одиночества. Потому что когда я оставался один, я соединялся с Господом.
Один – одинокий – монос – монах. Монах – это тот, для кого в мире существует только он и Бог.
– И тогда вы видели свет…
– Да, да, постоянно! Все эти годы… Откуда вы знаете? Об этом нельзя рассказывать. Я никому не говорил до сих пор: Господу это не угодно. Только отец Гавриил узнал нечаянно. И вы простите, что я не смог всегда носить это в себе молча.
Где-то в лесу ухнула сова. И потому, что в этой пронизанной большими и малыми светами тьме шла незримая жизнь, ночь казалась еще таинственней и глуше.
У самой монастырской ограды залаяли собаки. Наш пес сорвался, кинулся на голоса.
Поднялась Нонна, спросила, который час.
– Посмотрю, что там случилось…
Священник исчез в темноте.
Псаломщица неподвижно смотрела вслед. Собаки заливались, захлебывались лаем. Я ощутила вдруг незащищенность наших домиков в горах и лесах.
– Страшно? – выговорила Нонна по-русски. – Не бойся… Господь смотрит.
Отец Антоний вернулся:
– На маленького ежика напали… из-за него такая война. Я его в лес отнес.
Вернулась и собака. Лай затих.
– Спать, – распорядилась Нонна. – Завтра работа.
В своей комнате я еще долго стояла у окна, не зажигая керосиновую лампу. Долина внизу искрилась, сверкала, переливалась горстками и цепями огней. Черно поблескивала река, чернели по горизонту горы.
Клубились за оградой тени деревьев. Под окном на огороде светилась головешка, разместившая скопление светлячков, тлела холодным огнем.
И необъятное звездное небо замыкало собой все эти тьмы и светы, все наши жизни, укрывало молчанием.
Просыпаюсь я каждое утро от солнца и птичьего многоголосия и иду на родник. Приношу по семь-восемь ведер воды на кухню, отсюда Нонна относит ведро через поляну к Домне, Гликерия – ведра два к себе, и вечером я иду за водой снова.
Гликерия в апостольнике, длинной вязаной кофте и черной юбке до пят появляется на кухне с утра и весь день что-то поспешно чистит, режет, толчет, варит на газовой плите, носит с кухни сковородки к себе домой и обратно.
– И хватит, хватит, родная моя, не утомляйтесь… – приговаривает она сладким голосом каждый раз, когда я ставлю последнее ведро на полку.
Но время от времени на кухне поднимается пронзительный крик – это Гликерия с Нонной объясняются по поводу текущих дел. Гликерия знает некоторые обиходные грузинские слова, усвоенные за время работы на кухне, и этими словами уснащает речь, Нонна приблизительно те же простые слова понимает по-русски. Но основной поток слов каждая из них выкрикивает на родном языке, так что они почти не понимают друг друга, всуе раскаляясь и кипя.
– Обе такие маленькие и такие крикливые… – удивляется отец Антоний.
– Почему не могут жить мирно? Гликерия и с Домной пятнадцать лет вместе работали и каждый день ругались, – за это их обеих и отправили сюда – в ссылку. Теперь живут рядом, но почти не разговаривают и питаются отдельно…
А с Нонной у Гликерии так же внезапно наступает примирение, и тогда я слышу через дверь, как сладкий голос уговаривает псаломщицу что-нибудь попробовать. Или перед литургией священник посылает их просить друг у друга прощения, они с поклоном произносят: «Прости меня» – и отвечают: «Бог простит. И я прощаю…» Потом наступает более длительное затишье.
Но каждой из насельниц монастыря явно не хватает дружеского общения. И Гликерия, по-видимому, возлагает тщетные надежды на меня.
Отец Антоний сидит на крыше, вколачивает в шифер последние гвозди. Нонна стоит, опираясь на лопату, и смотрит вверх.
Под навесом белеет новая ванна, священник со сторожем устанавливали ее, осталось провести воду из источника.
Отец Антоний спускается на землю и отпирает дверь рядом со складом: за ней полуподвальное помещение, до потолка заваленное дровами.
– Если вам это не трудно, нужно вынести все дрова и уложить в поленницу. Потом разровнять лопатой земляной пол и перенести сюда все со склада. Тогда склад можно приспособить под летнюю кухню, а в нашей прихожей поставить еще три кровати.
– Ожидаете наплыва гостей?
– Не теперь… – смущается он. – Но ведь будут приезжать в Гударехи люди.
Я принимаюсь выбрасывать березовые дрова сквозь дверной проем. По первому впечатлению кажется, что на это понадобится дня два. Но работа идет легко. Не жарко, пахнет сыростью и прелой корой.
К середине дня я освободила подвал, и разбросанные дрова подсыхали на солнце.
– Нонна говорит: «Вот городская женщина, а работает, как крестьянка», – поощряет меня священник, навешивая дверь бани. – Однажды Антоний Великий молился, чтобы Господь указал путь к спасению. И ему в видении явился человек, который то истово трудился, то молился с такой же ревностью. Если и мы будем поступать так, то спасемся.
– Это легче сказать, чем сделать.
– Конечно. Преподобный Антоний восемьдесят пять лет провел в пустыне – в отшельничестве и великих подвигах… Теперь по нерадению люди считают, что можно и без подвигов обойтись, и даже без трудов. Молитва без трудов – это достояние будущего века: душа освободится от тела и будет пребывать в непрестанной радости общения с Богом. А пока она на земле, дух должен бороться с плотью, иначе она его поглотит.
Потом я складываю дрова в поленницу.
– Вы сегодня очень много сделали, – говорит отец Антоний под вечер.
– Если считать на поленья… А если на молитвы – ровным счетом ничего, день прошел напрасно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?