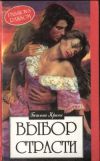Читать книгу "Раздумья ездового пса"

Автор книги: Василий Ершов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Я через очки поглядываю. Краем глаза.
Набрали 11600… эх, еще бы метров сто-сто пятьдесят – и выскочили бы сверху; но идем как раз в верхней, размытой, слоями, вуалью, облачности. Чуть потряхивает.
Улучив момент, когда Витя наклонился к своему портфелю, заглядываю в локатор: мне надо видеть общую картину. Понятно: проходы есть, но Филаретычу придется повертеться. Коля разогнал машину и дает команду Алексеичу сдернуть газы.
Я читаю книгу.
– Василий, вот тут, сорок километров, две стоят: одна правее…
– Угу.
– Да брось ты эту книжку! Тут вертеться надо, а он читает.
– Ну, обходи.
Коля потянул раструб локатора к себе, глянул, отодвинул. Сидит, руки на штурвале. Филаретыч автопилотом вводит машину в разворот, следит по локатору, докладывает Тобольску, записывает, настраивает…сигарета догорела, сейчас пепел упа… Все. Ему не до пепла. Он весь в деле.
Я вижу все. Но зачем мешать людям работать, если они сами хотят. Внешне флегматичный Коля, с реакцией горнолыжника, готов парировать любой бросок. Алексеич подобрался и готов выполнить любую команду. Филаретыч бегает по потолку. Хороший экипаж. Моя роль – сохранить спокойную обстановку. Ребята, я – читаю. Все в порядке.
Прошли. Вот видите. Перекур.
Потом Филаретыч доверительно объясняет мне:
– Знаешь, Василий, что-то к старости стал я этих гроз бояться. Так все ничего, а вот грозы эти…Старею. Суетюсь.
Кто ж их не боится. Боимся, а летаем.
Страшнее грозы для самолета ничего нет. Грозе ничего не стоит сломать самолету крылья и швырнуть его на землю. Даже не ударом молнии страшна гроза – попадало нашему брату не раз, – а именно страшной, несовместимой с жизнью болтанкой.
В верхней части грозового облака, которое пухнет на глазах, вертикальные потоки достигают 30 м/сек; самолет, летящий со скоростью 250 м/сек, напоровшись на такой порыв, испытывает разрушающую перегрузку, как если бы по нему выстрелили снизу из пушки.
Грозу нельзя победить. Она тебя и не заметит. Ее можно обойти, лучше подальше (есть нормативы), но боже упаси играть с нею, бравируя и выказывая ложное мужество. Ей на твое мужество плевать. И не мужество это – войти в грозу, а вариант самоубийства, с картинками.
Поэтому, обходя грозы, особенно в наборе высоты и на снижении, надо учитывать их развитие, знать законы короткой бурной жизни грозы, соотносить всю эту информацию с возможностями машины… и не лезть на рожон. Если на эшелоне еще сравнительно легко обойти засветки, то вблизи аэродрома, если нет дырки, нечего лезть: надо уходить на запасной.
Конечно, это искусство – красиво ныряя в облачных ущельях, вывести машину в спокойный солнечный мир – но когда принимаешь решение лезть, надо помнить, что сзади может и закрыться, и вернуться будет некуда.
Разрушающаяся гроза, под вечер, тоже может преподнести сюрприз, откуда и не ждешь.
Вылетели из Богучан на Красноярск на Ил-14. С запада подходил теплый фронт, на нем к вечеру стали развиваться грозы. Лету было полтора часа, но уже через 30 минут перед нами встала громада черных, клубящихся и периодически подсвечивающихся изнутри облаков. Это была сплошная стена, надвигавшаяся спереди справа, и лезть в нее на ночь глядя не решился бы и самоубийца.
С траверза Мотыгина мы свернули под 90 влево, вышли на Тасеево, норовя обойти грозу южнее. Не тут-то было: облачность чуть не подковой охватила нас, оставив путь только на Дзержинское и запасной – Канск.
Повернули еще левее, уже на восток, обошли Дзержинское и помчались на всех парах в Канск, потому что очень уж страшная была громада, очнеь уж ворочалось и светилось внутри ее багровое зарево.
Сумерки только начинались: за фронтом на западе еще светило над горизонтом солнце; земля пока хорошо просматривалась.
Пассажирам, должно быть, картина была очень развлекательная: вышедший в салон радист рассказал, что все прилипли к окнам и очень удивились, что он их всех пристегнул.
На заднем ряду одного ремня не оказалось; парень с девушкой сидели в обнимку, девушка была пристегнута, а парень так.
На юге посветлело. Фронт кончался, проглянула полоска вечерней зари, и мы приняли решение идти домой по трассе Канск – Красноярск.
Где-то в районе Заозерного дорогу нам еще преграждал небольшой хвост, как раз на нашей высоте, и мы запросили снижение с 1200 до 900 м, норовя поднырнуть. Уже прямо по курсу виден был закат, и только этот хвост, южная оконечность фронта, вуаль, вроде бы ничем не угрожающая нам, тянулась на юг еще километров на полсотни.
Мы снизились; получалось, что пройдем как раз под нижней кромкой. Командир из осторожности снизился еще на пятьдесят метров, хотя в этом и не виделось особой нужды.
Какой-нибудь километр пути. Десять секунд – и мы на свободе: дальше чисто, оранжевый закат на полнеба; а на севере…но мы уже убежали.
Хорошо, что мы выработали привычку в полете быть всегда пристегнутыми. Самолет выдернуло из-под нас так резко, что мелочь из незастегнутого кармана рубашки фонтаном брызнула в потолок и разлетелась по кабине. Грузный командир пушинкой взлетел под потолок, выпустив штурвал, но удержался не слишком затянутым ремнем; я пристегнулся потуже и усидел, а вот слабо затянувший ремень бортмеханик от рывка растянул поясницу. Вдобавок еще два амбарных замка – от входной двери и двери пилотской кабины, – болтающиеся на трубке его сиденья, сгуляли в потолок и оттуда рикошетом проехались ему по лысине. Радист не пострадал, упершись ногами в перегородку своей тесной каморки.
Самолет провалился всего-то метров на пятьдесят. Акселерометра на нем не было, и не известно, какую отрицательную перегрузку выдержало его толстое крыло.
И все. Радист сходил в салон. Пассажиры сидели очень смирно. Глаза у всех были круглые, а лица мокрые от пота и очень грязные: от броска сорвало и перевернуло панели пола, и вся грязь и пыль, взлетевшая с них, медленно оседала на лица разом взмокших людей. Парень на последнем кресле засунул руку под ремень своей подруги и до посадки не отпускал.
Этим уже ничего насчет ремней объяснять не надо.
В доверительных беседах с другими летчиками иногда проскакивает: «вот, в вашем экипаже так спокойно работать…» А иные капитаны, ну, задалбливают экипаж. И ладно бы там второго пилота порол – иной раз и надо, но бортинженера-то зачем.
Я тоже удивляюсь. Но, видать, люди очень разные. Есть такие личности, что и сами-то себе не доверяют, а уж другим-то, тем более, подчиненным…
Это вечная проблема единоначалия. Но на транспорте, да и везде, где неизбежны экстремальные ситуации, демократия недопустима. Всегда нужен Капитан, человек, оценивающий обстановку и принимающий быстрое и единственно верное решение. И тут уж младшие по званию обязаны подчиняться, даже имея свое, отличное от капитанского мнение.
В долгом полете обстановка не экстремальная, людей одолевает зевота… и тут иной капитан, буквально от скуки, начинает озадачивать членов экипажа. Тому – а рассчитай-ка мне… Тому – а вот ты неправильно выдерживаешь… Ну, и иной раз обернется к бортинженеру и затеет с ним спор о том, о чем обычно капитаны имеют весьма скромное представление… как вот, к примеру, Ваш покорный слуга.
Нет, нам, конечно же, дают основы знаний по всем системам самолета, по принципам их работы, по взаимосвязи и влиянию их друг на друга, по отказам и их связью с безопасностью полета.
Я, как капитан, выделяю для себя главное: принцип, взаимовлияние, что чем можно заменить для восстановления утраченной функции, немедленные и точные действия при отказах.
Ей-богу, я знаю, что у двигателя, этой железной громадины, замотанной в кокон из трубок, есть перед и зад; я могу с уверенностью показать, где именно перед – и все.
Я знаю, что эти три штуки установлены в хвосте моего самолета таким образом, что отказ одной из них практически не изменит поведения машины, только скорость начнет падать, и надо добавить газу остальным двум, чтобы ее сохранить.
Принцип работы двигателей для меня как капитана заключается в том, что если я двину рычаг, то прибор покажет какие-то проценты, а самолет потащит вперед какая-то сила. Ориентируясь на эти проценты и седалищем ощущая эту могучую силу, я ее использую.
И – все. Вот все, что достаточно знать капитану. Нет, при желании можно изучить строение турбины и камеры сгорания, с привлечением науки термодинамики… но умения использовать тридцатитонную тягу эти знания не прибавят ни на йоту. Только седалище.
Есть ограничения, они расписаны в Руководстве по летной эксплуатации самолета Ту-154Б с двигателями НК8-2У. В части, меня касающейся, они выучены назубок. Там и немного.
А уж подробно – сзади меня, спиной к спине, сидит специально обученный всем тонкостям эксплуатации этого железа человек, Алексеич. Случись что – я и «мама» крикнуть не успею, он все сделает, доложит и выдаст рекомендации. Такая у него работа. И я ему доверяю.
А он, сидя спиной ко мне, доверяет мне за штурвалом. И я уж постараюсь это доверие оправдать.
Тусклый свет кабины растворяется в зеленеющем, розовеющем, алеющем сиянии востока. Юпитер ушел за правое плечо; тускнеет в свете зари голубая Венера. Скоро родится новый день.
В кабине тишина. Самое собачье время, когда сон, до того давивший и обволакивавший, внезапно отключает сознание, и человек роняет голову, дергается, выпрямляется… и снова веки свинцовой тяжестью наползают на глаза.
Летняя бессонная, из ночи в ночь, работа высасывает соки, притупляет мышление, ослабляет волю, и все это проявляется именно перед утром, когда мы в три тысячи семьсот восемьдесят пятый раз встречаем в воздухе зарю. Как в той старой пионерской песне:
«Ты всегда пионерским салютом
Утром солнце встречай…»
Да уж. Салютом. Один чертит головой правильные круги, другой уронил голову, наушники свалились, тонкая нить сонной слюны сочится из угла рта…
Ребята, поспите, я послежу.
Мне не хочется спать. Я стар и свое уже отмучил. Я задремываю днем. А сейчас вот сижу, думаю. Прекрасная земля, в утреннем сне, слегка прикрытая фатой туманов по низинам, раскинулась подо мной. Сотни раз я наблюдал эту картину, сотни раз любовался – и не налюбуюсь… Я на своем месте в этом мире. Поспите пока, я послежу.
– Филаретыч, подремай. Длинный же участок, все настроено… глаза как у рака… подремай.
– Да знаешь, что-то не спится. Серьезно. Думаю…
– Вот и я думаю.
– Как-то картошку бы окучить.
– Вот поспим, да вечерком и съездим.
– Жарко будет.
– Сибиряк жары не боится.
Сидим. Думаем о своем. Ребята спят. Конечно, усталость. А куда денешься.
Я поглядываю.
Стук в дверь. Бортпроводница с подносом:
– Ребятки, кофейку?
– Спасибо, моя хорошая. Дай тебе бог здоровья.
Все-таки мы – хороший экипаж, проводницы об этом открыто говорят. Вот и забота.
– Ну что, ребятки, изопьем маленько?
Встряхнулись. Каких-то десять минут – а насколько легче. Да еще кофе.
Из всех средств, спасающих экипаж от мучительной дремоты, самым радикальным, по моему опыту, является интересный разговор. Другой раз заводишь его искусственно, когда видишь, что и кофе не помогает. Да и сколько того кофе можно пить-то перед утром: надо же и поспать после тяжелой ночи, а это тема особого разговора. Так что надо уметь расшевелить экипаж, лишь бы не молчали, лишь бы вновь не погружались в тихую теплую дрему.
Если погода на аэродроме посадки скверная, то тревога за исход полета и так не даст людям дремать, все подтянутся, подберутся, мобилизуются.
Однако если есть признаки того, что погода испортится, я предпочитаю не дергать экипаж и не принимать погоду по радио каждые полчаса. Вылетали – оценивали же погоду, приняли решение, знаем, что делать. И нечего дергаться: прилетим – увидим. Будет день – будет пища. А пока – отдыхайте по возможности. Выгрызайте намерзший между пальцами лед, выкусывайте блох, зализывайте царапины… Нам эту упряжку тащить предстоит не один год, и энергию надо беречь, расходовать аккуратно.
Нельзя в полете все время быть страшно бдительным. Нельзя все время усиливать и усиливать осмотрительность. Нельзя каждую минуту думать о вынужденной посадке и подыскивать по маршруту площадки. Нельзя все время держать себя и экипаж в нервном напряжении.
Мне очень важно, чтобы на посадке, самом сложном этапе полета, каждый мой человек думал не о незаконченном споре, не подыскивал в нем последний, самый решающий аргумент, не давился незаслуженной обидой, образно говоря, не рычал глухо в плечо товарища, а наоборот, был готов, со всеми силами и со всем желанием, красиво, для души, сделать то, что мы можем только вместе, дружно – и лучше всех.
Каждый из нас – мастер. Мы в этом убеждались годами. Мы вместе делали друг из друга мастеров. Мы возвышали друг друга примерами личного мастерства.
Какие споры? Какие дебаты? Какие аргументы? Сейчас мы снова убедимся, а заодно покажем всем еще раз: смотрите же, как ЭТО делается! Учитесь, пока мы еще живы.
А пока подремайте, ребята. Я послежу.
В полете, от безделья, почитываешь газетки, краем взгляда скользя по приборам. Газет много, и перед обедом их, и правда, лучше не читать. Но от безделья… жвачка для глаз.
Политику пропускаем. Ага, вот: опасные дни. Какие-то гео… короче, пересечения каких-то полуастрологических линий, полей, знаков… Господи, сколько же борзописцев на свете! Вот еще: «Ритуалы отхода ко сну». Читаю вслух – гомерический хохот. Как ориентировать ось кровати по магнитным силовым линиям. Биоэнергетики предупреждают… Рецепты магистра парапсихологии. Профессор – о режиме питания весной. Секс.
И так далее.
Мы улыбаемся. Ребята! В безделии своем, вольно же вам давать рецепты и советы. Простаков на земле еще хватает. Ваши опасные дни, ваши энергетические экстремумы, все эти энтропийные декременты параметрических флуктуаций – то, что нельзя пощупать руками. Это – ваш хлеб.
Сядь за моей спиной. Посмотри, взмокни, подумай. Сравни свой хлеб с моим.
Как-то попросился к нам в кабину «посмотрэт» седой кавказец, летевший к сыну в Норильск в гости. Ну уж очень просил – старый человек… Я разрешил.
Весь полет он тихо и скромно сидел на краешке стульчика. Как на заказ, посадка выдалась по минимуму. Неожиданно широкая полоса раскрылась прямо из-под облаков; через несколько секунд Коля сделал ЭТО красиво, и покатились.
Выходя из кабины, с благодарностью, потрясенный, человек сказал:
– Вам… вам за такой работа… миллион платыт надо!
Ага. Щас. Расщедрилась отчизна. Я к тому времени как раз добивал двадцатилетний «Москвич», заплатанный-перезаплатанный своими руками. И картошку только-только окучил, весь в мыле, между двумя рейсами.
Солнце взошло. Закрылись от него шторками, газетами, папками. Туда солнце – и назад солнце. Еще до снижения есть время. Я сижу себе и думаю.
Я уже старик. Иные столько не живут, сколько мы с Филаретычем пролетали. Льготный стаж у меня уже под восемьдесят лет – три пенсии, можно сказать, заработал. А денег как не было больших, так и нет. Дочка уже на своих хлебах, врач. Ютятся с мужем и внучкой в однокомнатной квартире, получают гроши – хирург-онколог и терапевт. Родина-мама нас всех одинаково обирает. И у Филаретыча сын, пилот на Як-40… нищий. Мы, в старости своей, пока еще детей подкармливаем… до каких пор?
Ну что им – взятки брать? Люди, давайте взятки врачам, а то им не прожить на те гроши, что подает государство. Мы ж для него – электорат, население…
Если бы каждый из Вас, которых я еще при Брежневе миллион перевез, целых и невредимых, – выходя из самолета, давал мне, капитану, на память, железный рубль… то я сегодня был бы миллионер.
Снижение
Невеселые мысли мои прерывает штурман. Защелкал выключателями:
– Давай готовиться. Триста километров.
Я поправляю микрофон.
– Так, внимание, экипаж! Приступить к предпосадочной подготовке в аэропорту Красноярск. Штурману включить КУРС-МП, выставить курсовую систему на магнитный меридиан аэродрома посадки.
Экипаж, потягиваясь, приступил. Коля берет погоду. Филаретыч листает сборник схем захода. Алексеич проверяет свои фазы. В кабине движение. Зашла проводница, забрала чашки, пустые бутылки.
– Машина меняется?
– Нет, проходит.
– Сколько градусов?
– Восемь. Жары.
Ушла. Коля вывесил погоду на листочке на видное место.
Большая цифра «748» обведена жирной чертой. Это главная цифра: от неё зависит наша жизнь.
Есть такое понятие: «эшелон перехода». На этой высоте мы обязаны установить в окошечках своих высотомеров давление аэродрома, эти 748 мм. А так как изменение давления на один миллиметр пропорционально изменению высоты на одиннадцать метров, стрелка переместится и покажет высоту на 132 метра меньше, чем была. Вот теперь это и есть наша высота относительно аэродрома.
– Выставляю курсовую систему по магнитному меридиану аэродрома посадки. Текущий курс – 76, вилка – плюс 50, после выставки курс – 126. Выставляю контрольный…
– Точно. 126. Поехали.
– Десять! – дуэтом.
– Двадцать!
– Пятьдесят! Сто двадцать шесть. Выставляю основной… Так, выставляю ИКУ. Сколько справа?
– Сто тридцать! Сто двадцать восемь… Есть!
– Курсовая система выставлена. Курс сто двадцать шесть.
Какая скрупулезность.
Дело в том, что меридианы не параллельны, а расходятся от полюса пучком. А мы летаем по прямой. И выставив на полосе перед взлетом гироагрегат относительно меридиана аэродрома взлета, все курсы выдерживаем в дальнейшем относительно него.
А на аэродроме посадки меридиан расположен под углом к тому, от которого мы прилетели. И угол этот, с учетом всех поправок на широту места и магнитное склонение, мы вводим в курсовую систему. В данном случае поправка набралась 50 градусов, и, летя на восток, ее надо прибавлять, а на запад – отнимать. Вот этот, исправленный курс, 126 градусов, – это уже относительно красноярского меридиана, и уж когда мы сядем, то на полосе компас покажет точно 288 – курс нашей полосы.
Был в истории красноярской авиации позорный случай, когда штурман перед снижением молча перевел курсовую на 50 градусов… в другую сторону. Ошибся немного. Всего на 100 градусов. И самолет довернул на 100 вправо. А там – горушки. А дело было в облаках. Стали снижаться. И когда сработала система предупреждения об опасном сближении с землей, рявкнула сирена, и у капитана хватило ума немедленно перевести машину в набор.
Поняли, что заблудились – на малой высоте и вблизи родного аэродрома. Но стыдно было докладывать об этом в эфир. Молча пытались восстановить ориентировку, но в облаках, на малой высоте приборы давали неточные показания – да и вообще, ничего не вязалось.
Время шло, самолет на связь не выходил, по расчету топливо у него кончалось. Диспетчеры бегали по балкону вышки и, как в старые времена, вслушивались, не шумят ли двигатели…
Спас их бортмеханик. Во-первых, топлива он залил, по старой привычке, с хорошей заначкой. Топливо – это не перегрузка… А во-вторых, старый рыбак, изъездивший всю округу, он в утренних сумерках разглядел через разрыв в облаках силуэт знакомого озера.
– Так это же озеро Белое!
– Какое Белое… Должен быть Енисей…
Определились, поняли ошибку, быстренько развернулись и успели дотянуть до родных огней. Как раз хватило заначки.
С тех пор, раз и навсегда, мы переводим курсовую вслух, надежно отработанным методом.
Дедовские методы… палочки-веревочки… Но уж такая у нас аппаратура. И никто ее менять не собирается, она надежна, ей еще работать лет двадцать. Ну нет на смену нашему лайнеру ничего. Такое время.
– Так, внимание, экипаж! Погода на аэродроме посадки Красноярск, запасном Абакан – в пределах установленного минимума. Посадочный – 288, заход правым, режим директорный, минимум – 60 на 800, расчет согласно палетке имеется, резервная система – ОСП, минимум – 120 на 1800. Уход на второй круг: прямая 200, правым 700 к траверзу; на запасной: 300 левым на Базат; пилотирует левый, связь – правый. Готовность к снижению доложить!
Это – на едином дыхании.
– Инженер готов!
– Справа готов!
– Штурман готов!
– Контроль по карте.
Это – обычный, раз и навсегда утвержденный, вбитый намертво и неизменный ритуал. Читается карта, звучат доклады, и через две минуты мы поведем свой лайнер к родной взлетно-посадочной полосе. Мы проведем его сквозь облака, обледенение, грозы, шквалы, туман и вьюгу; мы найдем эту узенькую полоску бетона, подкрадемся к ней, приладимся, совершим тысячи мельчайших расчетов и движений – и она раскроет нам свои объятья…
И что – по рабоче-крестьянски трахнуть ее двенадцатью колесами, выйти, плюнуть, пнуть те колеса… а потом – по стакану водки… раздайся, народ, мы тут с неба упали… люди-птицы…
Мы бы себя уважать перестали.
Заходи, садись у меня за спиной. Посмотри и попытайся понять, как можно найти лежащую там, далеко, за двести верст, под облаками, узенькую, всего-то 60 метров, полосу. И как это можно сделать красиво.
Прикидываю. Путевая скорость – 900, «своя» – то есть: ветер не помогает и не мешает. Высота 10100. Заход с обратным курсом. То есть: пройдем вдоль полосы, сбоку от нее, траверзом, протянем подальше, выполним третий разворот, под 90, затем – четвертый, причем, надо начать его так, чтобы в конце разворота машина попала в створ полосы, а курс был посадочный. И после этого, на определенном расстоянии от полосы, войдем в глиссаду и станем снижаться по строго установленной траектории.
Все это надо сделать так, чтобы, раз убрав режим до малого газа, не добавлять его до самого выпуска закрылков перед четвертым разворотом. Все время – в режиме снижения – без площадок, равномерно, постепенно теряя высоту и скорость до необходимых величин, но при этом не пользуясь воздушными тормозами – интерцепторами. В этом – весь класс, весь шик, вся красота снижения. Точный расчет. Экономное расходование высоты, скорости, кинетической энергии тяжелого самолета. Учет изменения скорости по мере падения высоты, учет ветра, обледенения, наличия попутных самолетов, учет особенностей данной машины, температуры за бортом и многого другого.
Я считаю. Коля считает, Филаретыч себе считает.
– За 185.
– Давай за 180.
– Ветер-то с высотой… Все же 185…
– Ну, давай за 185, посмотрим…
– Проси.
Подходит цифра удаления. 200, 195, 190…
– Малый газ! Снижаюсь 6000.
Вот так однажды мы собирались снижаться с высоты 10100 в Чите.
Обещалась посадка с прямой, самая простая и быстрая. Под нами висел борт на 9100, а сзади потихоньку догонял еще один, на 11100. Мы обогнали борт, летящий ниже, и рассчитывали, что к началу снижения между нами уже будет интервал 20 километров, достаточный для того, чтобы безопасно пересечь нижний эшелон. Заранее чуть добавили режим, и вроде все выходило по нашему плану: мы зайдем первыми, за нами – тот, на 9100, а уж потом тот, кто сзади и выше всех нас.
То ли вверху был более опытный экипаж, то ли ветер там был «попутнее» – но как раз к моменту начала нашего снижения верхний борт вдруг вперед нас запросил снижение, а Чита, к нашей полной неожиданности, не только не запретила, а наоборот, разрешила ему снижение с пересечением нашего эшелона. И мы, взглянув вверх, увидели, что однотипный уже обогнал нас на несколько километров и, резво увеличивая разрыв, пошел на снижение. По локатору его засветка уходила вперед: 12, 15, 18 километров… таки есть интервал! И он, пересекая нашу высоту, утер нам нос и сел первым. За ним снизили и завели борт, шедший ниже нас, потому что между нами было всего 10 километров, а это мало: надо 20. А мы, пока пропускали верхний борт, подошли к аэродрому слишком близко и с прямой уже не успевали: высоко. И пришлось нам, шедшим вроде первыми, выполнить полет по кругу и садиться последними.
А летчики уж так устроены, что в подобной ситуации стремятся надрать ближнего: то ли чтобы лишний раз доказать, что нечего рот разевать, то ли чтобы самим себе доказать, как мы «могем», то ли вместе то и другое.
Как раз и погода ухудшалась, и нам уже пришлось садиться практически по минимуму. Еще пять минут – и ушли бы на запасной. Видать, и вправду, верхний экипаж был более тертый и сообразил это раньше всех. Ну что же: урок на будущее.
Летом при снижении в облаках надо учитывать наличие замаскированных гроз. Конечно, при наличии радара их обойти нетрудно. Но летом наши радары от интенсивной эксплуатации и троечного качества выдают на экран такую, извините, информацию, что разобраться в ней может, и то с трудом, только штурман-рентгенолог, что ли. Да и попробуйте-ка, только что погрузившись из сияющего солнечного пространства в мутный полумрак облаков. И, кроме того, никто не гарантирует, что наклон узкого луча соответствует градуировке на шкале. А ведь по наклону луча мы определяем высоту верхней кромки облаков, которые надо обходить.
Однажды мы приступили к снижению в Благовещенске и вошли в облака, прекрасно наблюдая впереди, гораздо ниже нас, засветку от грозового очага и рассчитывая пройти выше нее на снижении.
И – вскочили.
Нас взяло «за шкирку», как щенят, и с немыслимой силой, с потрясающей мощью спокойно и неумолимо понесло вверх.
Вот тогда я и испытал дикий, пещерный ужас. Грандиозность этой силы превосходила все мои понятия. Но никаких понятий, никаких мыслей, никаких чувств, кроме всепоглощающего, смертельного ужаса, я не способен был воспринять. Это было на одном судорожном вздохе: «Х-х-х-х!»
Когда смотришь эти боевички, где падающий в пропасть человек кричит до-о-олгим криком, думаешь: не прыгали вы с парашютом… Там тоже это: «Х-х-х-х!» – на вдохе, и только одна мысль: да когда же это кончится?
Потом кровь ударила снизу. И это безысходное осознание: вскочили! попали!
Шум воздуха за окном необычно, страшно изменился. Доли секунды медленно протекали через меня. А я сидел, вдавленный в кресло, и был беспомощен, как зародыш.
И – выплюнуло…
Ну, может, три секунды это длилось. Спасибо грозе, что проучила и выпустила.
Вошла бледная проводница, держась за плечо, и сообщила, что «Томка сломала ногу». Кому-то из пассажиров срочно захотелось попить, она взяла поднос с водой, а тут этот бросок, упала, поднос сверху… Лежит, охает.
– Пассажиры-то как? Сама-то ты как?
– Да вроде ничего. Всех пристегнули. Плечо вот…– она сморщилась от боли.
– Томке врача…
Вызвали по радио доктора к самолету. Сели: проливной дождь, весь перрон покрыт слоем воды. Для полноты счастья еще и колесо лопнуло, надо менять.
Приборы зафиксировали перегрузку 2,35.
Доктор осмотрела ногу: ничего страшного, растяжение. Забинтовала туго: «Домой долетишь?» А куда деваться. Тем временем колесо заменили, а там и нога чуть успокоилась, и от души отлегло…
А дома меня с экипажем ждал накрытый стол: в этот день мне стукнуло тридцать девять. Оказывается, дураку и на сороковом году не грех поучиться, как перед грозой проверять регулировку локатора и какой стороной обходить засветки.
Самолет на эшелоне всегда летит на скорости, близкой к максимальной. Она ограничивается только прочностью конструкции и порогом, за которым наступает опасность затягивания в пикирование. На такой же скорости мы и снижаемся. И весь расчет снижения сводится к одному: какую нужно держать вертикальную скорость по вариометру, чтобы к заданному рубежу успеть снизиться до соответствующей высоты.
У каждого есть свои опорные точки. Например: за 100 километров до полосы занять 6000. За 60 занять высоту 3000. За 30 занять 1200. Это – если заход с прямой. А если заход под 90 градусов, то цифры другие: за 100 – 7200, за 50 – 3000 и т.д.
Вся задача сводится к тому, чтобы снижение начать вовремя, на расчетном удалении. Чем с большей высоты надо снижаться, тем раньше начинается снижение; чем высота ниже – тем позже.
Вносятся поправки на встречный или попутный ветер. С попутным ветром надо начать снижение еще раньше; со встречным – попозже.
По мере снижения истинная скорость уменьшается, это тоже надо учитывать. И еще много чего надо учесть, как и во всяком ремесле, которым человек занимается много лет.
В процессе снижения вводятся поправки в расчет, изменяется вертикальная скорость, чтобы к рубежу высота была расчетная.
Но если вертикальную уменьшить, то саночки так резво скользить не будут: скорость самолета станет падать, хоть добавляй газу. Это некрасиво. А если снижение увеличить, машина упрется в предел скорости жди, что вот-вот рявкнет сирена, а этого допустить нельзя, а высоту надо как-то успеть потерять. Для этого на самолете предусмотрены воздушные тормоза – интерцепторы. Стоит только потянуть на себя рукоятку – и на крыле поднимутся поперек потока отклоняемые поверхности; поток упрется в них, сорвется, завихрения чуть затрясут машину, упадут подъемная сила и скорость, и самолет начнет проваливаться энергичнее.
Вся красота расчета – не использовать тормоза. Так рассчитать движение автомобиля, чтобы к светофору дотянуть на прямой передаче, вплотную подойти к бамперу впереди стоящей машины – и как раз в момент, когда она тронется и станет уходить вперед, чуть добавить газ – и вытянуть на четвертой. Примерно так.
Вот и мы стараемся тормоза не использовать. Они остаются на крайний случай: ветер не оправдался; внезапное обледенение и надо добавить режим двигателям, чтобы обеспечить работу противообледенительной системы, и – тогда уж деваться некуда: приходится плавно трогать рукоятку интерцепторов, досадуя, что ошибся в расчете и смазал всю красоту снижения.
И все время, все время цифры в уме: путевая 750… 12 км в минуту… до рубежа 60…это 5 минут… потерять 3000…по 600 в минуту…вертикальная 10… надо увеличить…
Этот расчет – сам по себе. Мозг занят решением других задач: как выйти в точку начала маневра…встречный борт…ага, вот он, левыми… отвернуть… близковато подходим…так, засветка справа…новую погоду по циркуляру…черт, ветер не успел услышать, снова ждать цикл…высоковато подходим…и т.д. А где-то в углу сознания работает простая арифметика устного счета, и руки управляют изменением вертикальной скорости, чутко и трепетно двигая колесико автопилота.
Курсом в это время управляет штурман, рукояткой «Разворот» того же автопилота. Так легче работать экипажу. Но пилот должен уметь отключить автопилот и снижаться на руках, управляя и курсом, и скоростью, и вертикальной, и высотой, и решая навигационные задачи, и выполняя указания диспетчера, и соотнося их с общей обстановкой, и считая в уме…и еще, другой раз, выслушивая под руку замечания проверяющего. И делать это красиво.
Моряку, шоферу должно быть понятно, что если к простому выдерживанию направления и решению задач на поверхности – да добавить еще и сложные задачи по изменению высоты, то это трехмерное движение требует гораздо более высокой квалификации, более гибкого и приспособляемого мышления, большей способности решать в уме и исполнять руками сразу несколько задач одновременно. И этому научаются не сразу, а годами. А иные – так и не научаются, а летают по принципу «газ – тормоз» до самой старости.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!