Текст книги "О нравственности и русской культуре"
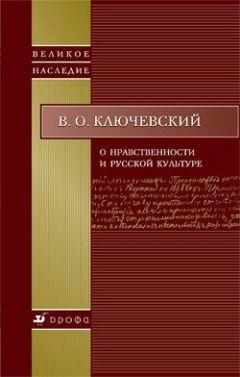
Автор книги: Василий Ключевский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Сильному уму не много нужно было усилий, чтобы понять противоречие столь искусственно сложившейся и хрупкой среды. Лермонтов стал к ней в двусмысленное отношение. Родившись в ней и привыкнув дышать ее воздухом, он не восставал против коренных ее недостатков; напротив, он усвоил много дурных ее привычек и понятий, что делало столь неприятным его характер, как и его обращение с людьми. Редко платят такую тяжелую дань предрассудкам и порокам своей среды, какую заплатил Лермонтов. Он был блестящею иллюстрацией и печальным оправданием пушкинского «Поэта», в минуты безделья, пока божественный глагол не касался его слуха, умел быть ничтожней всех ничтожных деталей мира или по крайней мере любил таким казаться. Но при таком практическом примирении с воспитавшею его средой тем неодолимее было его нравственное отчуждение от нее. Он как будто мстил ей за противные жертвы, какие принужден был ей принести, и при каждой оглядке на себя в нем вспыхивала горькая досада на это общество, подобная той, какую в увечном человеке вызывает причина его увечья при каждом ощущении причиняемой им неловкости. Поэт
…по праву мести
Стал унижать толпу под видом лести…
По его признанию, общество всегда казалось ему собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти, к которым он с безграничным презрением обращал свою ненависть. При виде этого «надменного, глупого света с его красивой пустотой» как ему хотелось дерзко бросить этому свету в глаза железный стих, облитый горечью и злостью! Но Лермонтову не из чего было выковать такой стих, и он не стал сатириком. В его стихе иногда звучала сатирическая нота, он был способен на злую и горькую остроту, но был лишен той острой горечи и злости, какою необходимо полить сатирический стих. У Лермонтова было слишком много лиризма, под действием которого сатирический мотив растворялся в элегическую жалобу, как это случилось с его «Думой». Очень рано и выразительно сказалась эта связь сатирического негодования с ослаблявшею его грустью в одной мимолетной заметке 16-летнего поэта, уцелевшей в его тетради 1830 г.: «в следующей сатире всех разругать и одну грустную строфу». А потом во имя чего восстал бы Лермонтов против порядков, нравов и понятий современного общества, во имя каких правил и идеалов? Ни вокруг себя, ни в себе самом не находил он элементов, из которых можно было бы составить такие правила и идеалы; ни наблюдение, ни собственное миросозерцание не давали ему положительной сатирической темы, без которой сатира превращается в досужее зубоскальство. Лучшее, что он мог заимствовать у своего общества, была все та же эстетическая культура сердца, заменявшая нравственные правила тонкими чувствами, общественные и другие идеалы – мечтами о личном счастье. Он возмущался против общества, среди которого вращался, но мирился с общежитием, к которому привык.
…Я любил
Все обольщения света, но не свет…
Однако он чувствовал, что этими обольщениями он нравственно связан и с самим нелюбимым светом, и не мог порвать этой связи, хотя порой и стыдился ее. От этого света вместе с понятиями и привычками унаследовал он и раннюю возбужденность чувств, которой сам дивился и которой любил наделять своих героев: трех лет он плакал, растроганный песнью матери, десяти лет был уже влюблен. Ему тяжело было поднимать сатирический бич на это общежитие, хотя порой он и хлестал им самое общество и даже страдал за это. Ему пришлось бы бить по собственным больным местам, до которых и без того было больно дотронуться. Не имея сил бичевать испорченное общежитие, с которым он так тесно соприкасался, он обратил печальную мысль на болезни, которыми сам заразился через это соприкосновение. Эта печаль прошла две фазы в своем развитии. Первая была порой бурного и ожесточенного разочарования. Прежде всего своею тревожною мыслью и тонким чутьем поэт постиг пустоту и призрачность тех благ, из которых люди его общества строили свое личное счастье и в которых он сам искал его.
И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь – измен взаимных вечный ряд,
Где радость и печаль – все призрак ложный,
Где память о добре и зле – все яд.
Это зрелище развеяло его собственные юношеские мечты и отравило ему вкус жизни. Бывало, и он молил о счастье. Теперь
…тягостно мне счастье стало,
Как для царя венец.
После, незадолго до смерти, в «Валерике», поражающем сосредоточенною и жестокою печалью, которую так редко выдерживал Лермонтов, он в сжатой, как бы схематической исповеди изложил ход своего разочарования, последовательными моментами которого были: любовь, страдание, бесплодное раскаяние и, наконец, холодное размышление, убившее последний цвет жизни. Невозможно счастье, так и не нужно его, – таков был несколько надменный и детски-капризный вывод, вынесенный поэтом из первых житейских испытаний. Но эти самые утраты и поражения «сердца, обманутого жизнью», помогли поэту одержать важную победу над своим самомнением. Верный духу и миросозерцанию своей среды, он начал сознательную жизнь мыслью, что он – центр и душа мирового порядка. В одном письме 18-летний философ, размышляя о своем «я», писал, что ему страшно подумать о дне, когда он не будет в состоянии сказать: «я», и что при этой мысли весь мир превращается для него в ком грязи. Теперь он стал скромнее и в «Думе» пропел похоронную песню ничтожному поколению, к которому принадлежал сам. Эта победа облегчила ему переход в новую фазу его печального настроения, в состояние примирения со своею печалью.
Он переставал волноваться и скорбеть о своей «пустынной душе», опустошенной «бурями рока», и понемногу населял ее мирными желаниями и чувствами. Наскучив бурями природы и страстей, он начинал любить
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор.
Присматриваясь к этим мирным явлениям природы и к тихим разговорам людей, он стал чувствовать, что и счастье может он постигнуть на земле, и в небесах видит Бога. Счастье возможно, только надобно сберечь способность быть счастливым, а если она утрачена, следует довольствоваться пониманием счастья: так переиначился теперь прежний взгляд поэта. Из этого признания возможности счастья и из сознания своей личной неспособности к нему и слагалась грусть Лермонтова, какой проникнуты стихотворения последних шести-семи лет его жизни.
Теперь может показаться странным и непонятным процесс, которым развивалось поэтическое настроение Лермонтова. Это развитие, конечно, направлялось особенностями личного характера и воспитания поэта и характером среды, из которой он вышел и которая его воспитала. Изысканно тонкие чувства и мечтательные страдания, через которые прошла поэзия Лермонтова, прежде чем нашла и усвоила свое настоящее настроение, теперь на многих, пожалуй, произведут впечатление досужих затей старого барства, и нужно уже историческое изучение, чтобы понять их смысл и происхождение. Но самое настроение этой поэзии совершенно понятно и без исторического комментария. Основная струна его звучит и теперь в нашей жизни, как звучала вокруг Лермонтова. Она слышна в господствующем тоне русской песни – не веселом и не печальном, а грустном. Ее тону отвечает и обстановка, в какой она поется. Всмотритесь в какой угодно пейзаж русской природы: весел он или печален? Ни то, ни другое: он грустен. Пройдите любую галерею русской живописи и вдумайтесь в то впечатление, какое из нее выносите: весело оно или печально? Как будто немного весело и немного печально: это значит, что оно грустно. Вы усиливаетесь припомнить, что где-то было уже выражено это впечатление, что русская кисть на этих полотнах только иллюстрировала и воспроизводила в подробностях какую-то знакомую вам общую картину русской природы и жизни, произведшую на вас то же самое впечатление, немного веселое и немного печальное, – и вспомните «Родину» Лермонтова. Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом. Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т. е. воле Божией. Это – русское настроение, не восточное, не азиатское, а национальное русское. На Западе знают и понимают эту резиньяцию; но там она – спорадическое явление личной жизни и не переживалась как народное настроение. На Востоке к такому настроению примешивается вялая, безнадежная опущенность мысли и из этой смеси образуется грубый психологический состав, называемый фатализмом. Народу, которому пришлось стоять между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой. Поэзия Лермонтова, освобождаясь от разочарования, навеянного жизнью светского общества, на последней ступени своего развития близко подошла к этому национально-религиозному настроению, и его грусть начала приобретать оттенок поэтической резиньяции, становилась художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: да будет воля Твоя. Никакой христианский народ своим бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко, как русский, и ни один русский поэт доселе не был так способен глубоко проникнуться этим народным чувством и дать ему художественное выражение, как Лермонтов.
О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица[73]73
Лекция, прочитанная В. О. Ключевским в Училище живописи, ваяния и зодчества весной 1897 г. Впервые опубликована в кн.: Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. М., 1959. Т. 8. С. 295–305. См. также в кн.: Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 108–117; Он же. О нравственности и русской культуре / Сост. Р. А. Киреева. М., 1998. С. 259–272.
Сохранились следующие наброски В. О. Ключевского, относящиеся к данной лекции. Впервые опубликованы в кн.: Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. М., 1959. Т. 8. С. 476–477. См. также в кн.: Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 465–466; Он же. О нравственности и русской культуре / Сост. Р. А. Киреева. М., 1998. С. 336–340.
февраль 1898 г.
«Нарядные иконостасы, пышные костюмы, обремененные жемчугом, металлом, каменьями, формы отношений, столы с неодолимыми кучами яств и права постельного крыльца. Подробности. Нищие и арестанты. Впечатление суетности, тщеславия, грубого великолепия, низкопоклонства, раболепия.
[Все это производит] на нас, блюстителей, на расстоянии веков, не живущих мотивами этой жизни, впечатление чего-то тяжелого, громоздкого и неуклюжего; дела страстей и инстинктов, нехристианских чувств и интересов. Готовы дивиться, как это люди, знавшие I главу пророка Исайи, [так поступали]. Но мы не обличаем, а изучаем.
Чтобы понять быт или человека, прежде всего надо быть справедливыми, а для того снисходительно и доброжелательно войти в их чувства и потребности, войти с мыслью, что и мы в этом положении, на той ступени развития жили бы не лучше.
Мы, сторонние и равнодушные наблюдатели склада и формы чуждой нам и отдаленной от нас жизни, расположены судить о ней по впечатлению, какое она на нас производит. Не будет ли справедливее, человечнее и научнее брать во внимание при этом суждения и те чувства и соображения, с какими работали над этой жизнью ее строители, и те впечатления, которые на них производила их собственная работа? Чтобы понимать своего собеседника, надобно знать, как сам понимает он слова и жесты, которыми с вами объясняется, а обычаи и порядки старой жизни – это язык понятий и интересов, которым старинные люди объяснялись друг с другом и объясняются с нами, их потомками и наблюдателями.
Могучим стимулом, возбуждающим деятельность человека, служит его вера в себя, уверенность, что в нем есть качества, в которых он полагает свою силу и которые оправдывают его житейские стремления и притязания. Ему мало уверить других, что он действительно таков, каким хочет им казаться: еще важнее для него убедить самого себя, что он и другим хочет казаться таким, каков он на самом деле. Я не решаюсь сказать, что более льстит нам, доброе ли мнение других о нас или наше собственное мнение о себе самих. По крайней мере преувеличенное чужое мнение едва ли удовлетворяет, если не поддерживается самомнением. Но и без преувеличения можно ли по одной наружности чужого дела судить о его мотивах? Начинающий художник… Люди нами изучаемых веков полагали свою силу и задачу между прочим в развитии своего религиозного чувства, набожности и благочиния. Известно, как в Древней Руси богатые люди заботились об умножении и украшении своего «Божия благословения», своих домовых божниц. Здесь не могло действовать религиозное тщеславие, желание щегольнуть перед другими своим набожным усердием: в моленные не пускали посторонних людей. Русский человек тех веков был уже и настолько христианином, что не мог любоваться своим нарядным богом, как любуется дикарь-язычник. Но когда он, истрепанный житейской суетой, становился перед своими образами, богато изукрашенными золотом и дорогим каменьем, он не жалел о своем богатстве, потраченном на их украшение, и только был доволен собой за то, что оно нашлось у него; строгие лики на иконах, глядевшие на него при свете лампад из своих массивных дорогих окладов, напомнили ему о суете земного, и он опять был доволен собой, что потратил свое богатство не на суетные блага, а на пользу душевную, на жертву благодарности святым устроителям нравственного порядка, строгие лики которых так кротко смотрели на него из своих дорогих окладов: скажи ему эти устроители, что надо отдать эти дорогие оклады на пользу бедных, – и он охотно готов был отнести их по назначению. Значит, иконная пышность воспитывала его к самопожертвованию, будила в нем сонное религиозное чувство. Не то же ли делаем и мы с собой, только другим подбором средств, когда, например, обращаемся к искусству и музыке, чтобы привести себя в желаемое настроение, которого не умеем устроить себе без этого искусственного возбуждения? Человек дорожит средствами, пробуждающими в нем чувство своих сил, потому что это чувство заставляет его уважать себя, а уважение к себе воздерживает от поступков, за которые перестанут уважать нас другие».
Ниже публикуется конспект трехчасовых вводных лекций В. О. Ключевского в Училище живописи, ваяния и зодчества (впервые опубликован в кн.: Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 466–467):
«Училище. 1 и 2 часы. 22 сентября 1900 г.
Разнообразие курсов и единство науки.
Первое дело – уяснить себе, что и как изучать в истории.
Как изучать, [иметь] технику изучения – долг преподавателя. Что изучать – дело вашей любознательности; подскажет интерес вашего ума. Но и здесь руководство нужно.
Интерес всякого изучения вызывается и направляется его связью с наличными нуждами и потребностями изучающего.
В изучении истории можно различать общий интерес всех работающих над своим образованием и интерес специальный, соответствующий избираемому каждым житейскому делу.
Наперед интерес общий: он поможет уяснить и специальный. Общий вопрос: что и для чего?
Необходимость понимать настоящее. Отношение его к прошедшему: видимая его неподвижность; повторение одинаковых явлений. Настоящее ежеминутно [становится] прошедшим. Остатки последнего в настоящем: подноготная; отношение русского крестьянина к лесу; пуговки на рукавах сюртука, браслеты.
Переживание: [продолжающееся] действие, обычаи и привычки, чувства, переживание самих себя, потребности и цели, их вызывавшие. Болезненные конвульсии, оставшиеся по миновании болезни. Необходимость знать их происхождение и, следовательно], отношение к ним. Понедельник– тяжелый день. Праздничные визиты. Рукопожатие. Поклон при встрече.
Насущное, не пережитое содержание настоящего, нашей текущей жизни: удобства, опыты, знания, понятия, даже болезни и пр. Способ их наследственной передачи, как язык родной.
Доживание. Прошедшее не проходит.
История – воздух. Прошедшее, как тень над нами.
Вывод: Итак, прошедшее бесследно не проходит; ушли только люди, его делавшие, но оно все жизненно само же перешло в нас, как наследственное имущество, и проводит нас в могилу, оставаясь воспитателем наших преемников.
Мы в большей части своего содержания и существа – его дело и только в малой доле – свое собственное дело. Следовательно, история отечества – наша биография.
Ответ на вопрос об изучении прошедшего: что осталось в настоящем, какого качества остаток.
Предмет истории – исторический процесс (определение).
Что отлагается в этом процессе: общая картина успехов человеческого общежития.
Училище. 3-й час. 29 сентября 1900 г.
У художника не особое понимание историческое, а только особенное внимание к некоторым явлениям жизни.
Мышление образами или звуками. Психологическая характеристика Грозного и картина В[аснецо]ва.
Формы художественного выражения создает сама жизнь: жесты, позы, костюмы, поговорки. Художник только наблюдает и подслушивает, потом комбинирует согласно со своей идеей, трактуя известный сюжет. Китайские картины.
Мы окружены памятниками или проявлениями искусства, художественными веяниями; их дает и жизнь и природа: кислород и свет в воздухе. Их нравственное, культурное значение – возбуждать, поддерживать на должном уровне дух и деятельность.
Но для этого н[адо] понимать житейские мотивы, коими внушены эти художественные формы, [они] выражены в памятнике, выражаются в художественном жесте или позе, влагаются людьми в явления природы. Памятник Пушкину.
Граница между историей искусства и общим историческим изучением. История форм и приемов художественного творчества по его памятникам – и история идей, чувств и стремлений, нашедших художественное выражение в этих формах и приемах. Магомет II перед св. Софией.
Двойная специальная задача исторического изучения для художника: 1) понимать связь художественной формы с житейским содержанием, в ней выражающимся; 2) чтобы выдержать эту связь в художественном исполнении, надо наблюдать художественные формы, образы, очертания или созвучия, в каких сама жизнь выражает свое духовное содержание. Жизнь – художница.
Результат, достигаемый разрешением обеих задач: сила, т. е. выразительность художественного изображения в значительной мере улавливается житейским, т. е. историческим, пониманием изображаемого. <…>
Русская Церковь для образованного общества – одна из сект русского старообрядства.
Русские врут, но не лгут».
[Закрыть]
Человек – главный предмет искусства. Художник изображает его так, как он сам себя выражает или старается выразить. А человек любит выражать, обнаруживать себя. Понятно его побуждение: мы любим понимать себя и стараемся, чтобы и другие понимали нас так же, как мы сами себе представляемся.
Говорят, лицо есть зеркало души. Конечно так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа и чрез которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выражать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составляет физиономию и наружность человека, все это окна, через которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь. И внешняя обстановка, в какой живет человек, выразительна не менее его наружности. Его платье, фасад дома, который он себе строит, вещи, которыми он окружает себя в своей комнате, все это говорит про него и прежде всего говорит ему самому, кто он и зачем существует или желает существовать на свете. Человек любит видеть себя вокруг себя и напоминать другим, что он понимает, что он за человек.
Обстановку, какой окружает себя человек дома и в какой он выходит на улицу, вид, в каком он появляется в обществе, художнику необходимо наблюдать и надобно уметь, т. е. привыкнуть, наблюдать. На это есть свои правила и приемы. Когда вы входите в кабинет к человеку со средствами, у которого все просто и опрятно, по стенам ни одной картинки, на столе ни одной фотографии, никакой блестящей безделки и даже лампа какая-то матовая, будьте уверены, что перед вами человек замкнутый, но доброжелательный, очень мало интересующийся вами при первой встрече, но человек с подвижным и сильным воображением, не нуждающимся во внешних возбуждениях, и по вашем уходе он мысленно сделает из вас что угодно, вылепит какой угодно идеал и уж непременно запомнит вас надолго, если только вы оставили в нем сколько-нибудь благоприятное впечатление. Я раз пришел к очень богатому барину. В маленьком кабинете на антресолях его собственного дома я заметил несколько худеньких стульев, кожаный сильно просиженный рваный диван, небольшой письменный стол на курьих ножках, с озеровидными пятнами на потертом зеленом сукне. Человек в опрятном фраке и безукоризненных белых перчатках на дорогом подносе поставил на стол кофе и при этом передвинул стоявшие на нем два подсвечника: тут я заметил, что это были бронзовые подсвечники старинной работы, ценное качество которой без труда почувствовал даже мой несведущий в таких вещах глаз. Мы долго и оживленно говорили о предмете, сильно его занимавшем, он с видимым любопытством меня выслушивал, при прощанье крепко жал мне руку за полученные сведения, а через неделю при встрече в гостях не узнал меня. Есть люди, которые любят щеголять нарядными драгоценными рубищами, чтобы заставить людей запомнить себя, и забывают о собеседнике тотчас, как только расстаются с ним.
Человек украшает то, в чем живет его сердце, во что кладет он свою душу, свои умственные и нравственные усилия. Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согревать свое гнездо. В Древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поесть и отдохнуть, а работали, мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ними и свои достатки. Иностранцы, въезжая в большой древнерусский город, прежде всего поражались видом многочисленных каменных церквей, внушительно поднимавшихся над темными рядами деревянных домиков, уныло глядевших своими тусклыми слюдяными окнами на улицу или робко выглядывавших своими трубами из-за длинных заборов. В 1289 г. умирал на Волыни в местечке Любомли Владимир Василькович, очень богатый, могущественный и образованный для своего времени князь, построивший несколько городов и множество церквей, украшавший церкви и монастыри дорогими коваными иконами с жемчугом, серебряными сосудами, золотом шитыми бархатными завесами и книгами в золотых и серебряных окладах. Он умирал от продолжительной и тяжкой болезни, во время которой лежал в своих хоромах на полу на соломе. Или возьмем жившего немного позднее московского князя Ивана Даниловича Калиту. Это был один из самых сильных и богатых князей, если не сильнейший и богатейший князь Северной Руси в начале XIV в., отличавшийся притом большим скопидомством, а между тем, перечисляя в своей первой духовной грамоте (не позднее 1328 г.) наиболее ценную домашнюю движимость, которую он оставлял своим наследникам, он приписывает 12 золотых цепей, 9 поясов золотых и несколько серебряных, 1 женское ожерелье, одно монисто, 14 женских обручей, 1 чело, 1 гривну, 7 кожухов и кафтанов, 1 золотую шапку, 6 золотых чаш и чар, 17 штук блюд и другой посуды золотой и серебряной и 1 золотую коробочку – все это, как видите, можно уложить в один порядочный сундук.
Теперь обстановка и убор человека далеко не имеют того значения, какое они имели в старые времена. Современный человек обставляет и убирает себя по своим понятиям и вкусам, по своему взгляду на жизнь и на себя, по той цене, какую он дает самому себе и людскому мнению о себе. Современный человек в своей обстановке и уборе ищет самого себя или показывает себя другим, афиширует, выставляет свою личность и потому заботится о том, чтобы все, чем он себя окружает и убирает, шло ему к лицу. Если исключить редких чудаков, мы обыкновенно стараемся окружить и выставить себя в лучшем виде, показаться себе самим и другим даже лучше, чем мы на самом деле. Вы скажете: это суетность, тщеславие, притворство. Так, совершенно так. Только позвольте обратить ваше внимание на два очень симпатичные побуждения. Во-первых, стараясь показаться себе самим лучше, чем мы на деле, мы этим обнаруживаем стремление к самоусовершенствованию, показываем, что хотя мы и не то, чем хотим казаться, но желали бы стать тем, чем притворяемся. А во-вторых, этим притворством мы хотим понравиться свету, произвести наилучшее впечатление на общество, т. е. выражаем уважение к людскому мнению, свидетельствуем почтение к ближнему, следовательно, заботимся об умножении удобств и приятностей общежития, стараемся увеличить в нем количество приятных впечатлений. Видимая суетность и тщеславие становятся вспомогательным средством или орудием альтруизма. Конечно, мы улыбаемся при виде иной дамы в пожилых летах и с юным сердцем, которая любит рядиться в молодые цвета. Но вы отдадите справедливость ее доброму намерению: скрывая свой пожилой возраст, она ведь отклоняет вас от мысли о неприятности, которая ждет и каждого из вас.
В старые времена личности не позволялось быть столь свободной и откровенной. Лицо тонуло в обществе, в сословии, корпорации, семье, должно было своим видом и обстановкой выражать и поддерживать не свои личные чувства, вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы занимаемого им общественного или государственного положения. Над личными вкусами и понятиями, даже над личными доблестями царили общеобразовательное приличие, общепризнанный обычай. В Древней Греции даже честным и даровитым позволялось. <…> В настоящее время зачастую встречаешь гимназиста, который идет с выражением Наполеона I или по меньшей мере Бисмарка, хотя в кармане у него балльная книжка, где все двойка, двойка и двойка; встречаешь порой и гимназистку, особенно в очках, что теперь не редкость, которая смотрит императрицей Екатериной II или даже самой Жорж Санд, хотя это просто Машенька Гусева с Зацепы, и больше ничего. Теперь такие несвойственные возрасту и положению выражения величия вызывают только веселую улыбку, а в старину они навлекли бы строгое внушение. В прежние времена положение обязывало и связывало, обстановка, как и самая физиономия человека, в значительной мере имела значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянию костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом. Занимал человек властное положение в обществе – он должен был иметь властные жесты, говорить властные слова, глядеть повелительным взглядом, с утра до вечера не скидать с себя торжественного костюма, хотя бы все это было ему тяжело и противно. Родился князем Воротынским – поднимай голову выше и держи себя по-княжески, по-воротынски, а стал монахом – так и складывай смиренно руки на груди и береги глаза, опускай их долу, а не рассыпай по встречным и поперечным. Словом, назвался груздем, так полезай в кузов.
Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что ведь он – столп, за который весь мир держится, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но неродовитый князь Пожарский. Появись он на улице кой-как, запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными, смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных, как смутились бы молящиеся в соборном храме, если бы при полном праздничном освещении, среди всего церковного благолепия из царских дверей вышел владыка-митрополит в рубище и с улыбкой на устах.
Припоминаю один давний случай. Давали благотворительный концерт с участием какой-то дивы и с очень повышенными ценами. В первом ряду сидел в блестящих мундирах, фраках и туалетах цвет местного общества. К распорядителю, принимавшему у входа билеты, подходит скромно одетая и с скромным видом дама и подает один из первых нумеров. Подозрительный и неловкий распорядитель посмотрел на билет, потом на даму, потом опять на билет и имел неосторожность спросить: «Позвольте узнать, как ваша фамилия?» – «Княгиня такая-то», – тихо ответила дама, выговорив такую фамилию, от которой у распорядителя зарябило в глазах, и он, растерянно извиняясь, повел ее к первому ряду, который встал весь при ее появлении. В старые времена житейская обстановка предотвращала подобные недоразумения. Отдельные лица прятались за типами; внешними признаками резко отмечались и различались целые классы людей, общественные состояния, а классы, состояния рассматривались не как простые случайности рождения или капризы счастья, а как естественные нормы жизни или предначертания всем правящей всевышней десницы: кому что на роду написано, судьба.
Если вы потрудитесь вникнуть в логику такого исторического разума гения, который строил формы и отношения людского общежития, вам не покажутся странными некоторые явления старинной русской жизни, с которыми вы можете встретиться, изучая русские исторические памятники для своих художественных композиций. Столь известная в истории раскола, небезызвестная в русской живописи Федосья Прокофьевна Морозова, урожденная Соковнина, была большая московская боярыня времен царя Алексея Михайловича. Она была замужем за родным братом боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя и свояка этого царя, и обладала огромным богатством: у ней было 8 тыс. душ крестьян; дома ей прислуживало человек 300 челяди; в дому у нее всякого добра было больше чем на 2 1/2 миллиона рублей на нынешние деньги. После, когда ей пришлось встать за благочестие, хотя и ложно понятое, за то, что она считала старой истинной верой, за двуперстие и сугубую аллилуйю, она показала, как она мало дорожит всеми дарованными ей житейскими благами и честью при дворе и золоченой кроватью дома, не побоялась ни допросов, ни сырого боровского подземелья, куда ее посадили. А посмотрите, как она, оставшись молодой вдовой, в «смирном образе», по-нашему в трауре, выезжала из дома: ее сажали в дорогую карету, украшенную серебром и мозаикой, в шесть или двенадцать лошадей, с гремячими цепями; за нею шло слуг, рабов и рабынь человек со сто, а при особенно торжественном поезде – с двести и с триста, оберегая честь и здоровье своей государыни-матушки. Царица ассирийская да и только, скажете вы, – раба суеверного и тщеславно пышного века! Хорошо. Перейдем к концу XVIII столетия, в век Вольтера, Руссо и императрицы Екатерины II, в эпоху разума, свободы, равенства и естественной простоты, когда под горячими лучами разгоревшейся человеческой мысли таяли людские суеверия и предрассудки. Вице-канцлер Екатерины II граф Иван Андреевич Остерман был сын любимца Петра Великого барона Андрея Ивановича Остер-мана. Этот вице-канцлер был образованный, неглупый и богатый дипломат, в домашней жизни не любил роскоши, держал себя важно, но без гордости. На святой неделе, когда в Петербурге бывало народное гулянье с качелями, он любил поглядеть, как веселится народ. Посмотрите, в какой обстановке появлялся он на гульбище. Он приезжал один в одноместной позолоченной карете с большими стеклами, точно фонарь, на шестерке белых лошадей: на запятках стояли два гайдука в голубых епанчах, из-под которых выглядывали казакины с серебряными снурками, а на головах высокие картузы с перьями и с серебряными бляхами на лицевой стороне, на которых виден был именной вензель господина; перед лошадьми шли два скорохода с булавами в руках, в нарядных костюмах, в щегольских чулках и башмаках, какая бы ни была слякоть. Ныне появление в такой обстановке придало бы народному гулянью характер публичного маскарада под открытым небом и было бы встречено веселым хохотом. Сто лет назад эту процессию столичная толпа встречала с обнаженными головами и почтительным шепотом: «Его сиятельство граф Остерман едет!»
Конечно, и в современной жизни много условного, ненужного для прямых целей общежития, но удобного для прикрытия его недостатков. Люди, которым приходится видаться, но не о чем говорить, поневоле говорят о политике и погоде, чтобы не смотреть молча в глаза друг другу. Но эти условности, еще удержавшиеся в жизни по привычке или необходимости, эти переживания быстро теряют свою обязательность в общем сознании или в общественном мнении. Все более торжествует мысль, что каждый имеет право быть самим собой, если не мешает другим быть тем же и не производит общего затруднения. Мы улыбнемся при виде вороны в павлиньих перьях, но едва ли осудим ее в душе – за что? Если она умеет носить их прилично и не задевая ими простых неукрашенных ворон. В старые времена, при других понятиях и нравах, такая своеобычность была менее удобна и, во-первых, не совсем безопасна. Общественное мнение было более завистливо и нетерпимо, не выносило ничего выдающегося, незаурядного, своеобразного. Будь как все, шагай в ногу со всеми – таково было общее правило.
Известно, что в Древней Руси дамы любили белиться и румяниться. Может быть, в этом обычае был свой смысл: он делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и таким образом сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одаренных поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных. Но духовенство не благоволило к обычаю, подозревая в нем иные, худшие побуждения. Однако были софисты, которые замысловато оправдывали этот обычай. Вот что случилось в 1653 г. в доме муромского воеводы. В праздник собрались к нему гости. Пришел и протопоп Логгин и, благословляя хозяйку, спросил: не белишься ли? Гости вместе с хозяином подхватили это слово и накинулись на батюшку: так что ж, что белится? Ты, протопоп, белила хулишь, а ведь без белил и образов не пишут. Рассерженный о. Логгин жестко возразил: да если таким составом, каким иконы пишутся, ваши рожи намазать, так всем это, пожалуй, и не понравится. Однако от воеводы полетел в Москву донос к патриарху, что-де муромский протопоп Логгин хулит иконы. Один иноземец, бывший в Москве при царе Михаиле, рассказывает, что одна красивая московская боярыня не хотела белиться и румяниться. Тогда все дамы боярского круга взъелись на нее: «Она осрамить нас вздумала: я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии», и чрез мужей заставили-таки красавицу подчиниться обычаю: гори-де и ты, подобно нам, тусклой свечкой при солнечном сиянии. Будь как все, шагай в ногу со всеми. Вот характерная нравоописательная картинка из записок известного московского подьячего времени царя Алексея Михайловича. «В домах своих живут они смотря по чину и общественному весу каждого, вообще же без особенных удобств. Малочиновному приказному человеку нельзя построить хорошего дома: оболгут перед царем, что-де взяточник, мздоимец, казнокрад, и много хлопот наделают тому человеку, пошлют на службу, которой исполнить нельзя, инструкцию такую напишут, что ничего не поймешь, и непременно упекут под суд, а там – батоги и казенное взыскание, продажа движимого и недвижимого с публичного торга. А ежели торговый человек или крестьянин необычно хорошо обстроится, ему податей навалят. И потому, – заключает Котошихин, – люди Московского государства домами живут негораздо устроенными и города и слободы у них неблагоустроенные же».
Впрочем, свобода убора и обстановки стеснялась не одной людской зависимостью, но и соображениями благочиния и благоустройства. При тогдашних нравах свобода могла повести и приводила к вредным излишествам и чудачествам, рассказами о которых так обильны наши предания о добрых старых временах. Правительство тогда считало своим долгом отечески опекать подданных и во имя общественной дисциплины вмешиваться в их частную жизнь. У нас, как и в других странах, к этой цели было направлено целое законодательство о платье и роскоши. Еще в прошедшем столетии у нас запрещался ввоз из-за границы некоторых дорогих материй и других предметов роскоши. Закон хотел сделать из людской слабости поощрение к труду, к образованию и общественному служению, из личной суетности и тщеславия – средство общественного порядка, щегольство превратить в стимул гражданского чувства. Обстановка должна была стать не просто выставкой богатства, но и отметкой общественного положения, социального распорядка лиц, знаком отличия за уменье вести дела и за заслуги обществу и государству. Хочешь блеснуть перед людьми, доставить себе удовольствие, кольнуть их завистливые глаза своей персоной, ливреей лакея или упряжкой – приобрети на это установленный патент трудолюбием и искусством да и делай это разумно и осторожно, чтобы люди не посмеялись и над тобой, и над тем, кто патентовал тебе привилегию колоть им глаза своей персоной или упряжкой. Раскройте жалованную грамоту императрицы Екатерины II на права и выгоды городам Российской империи: вы найдете там ряд статей о том, как могли по закону выезжать люди разных городских состояний. Городское население по грамоте делилось на именитых граждан, на купечество трех гильдий, на цеховых ремесленников и простых рабочих. Эти звания приобретались городской общественной службой, образованием, искусством и размером капитала, т. е. величиной платимого с него в казну процентного сбора, значит, трудолюбием, талантом, услугами обществу и государству. Грамота прямо говорит, что «название городских обывателей есть следствие трудолюбия и добронравия, чем и приобрели отличное состояние». Так к высшему состоянию именитых граждан причислились наравне с крупнейшими капиталистами ученые, имеющие академические или университетские аттестаты, художники четырех художеств, именно архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители также с академическими аттестатами «и по испытаниям главных российских училищ признанные таковыми». И вот что мы читаем в грамоте о правах выезда для лиц высших городских состояний: именитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парою и четвернею; купцам первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете только парою, купцам второй – в коляске парою, третьей же гильдии запрещается ездить в карете и впрягать зимою и летом больше одной лошади; то же и цеховым ремесленникам или мещанам.
Но довольно, господа! Теперь подсчитаем, до чего мы договорились. Я обещал сказать вам свое мнение о том, как надобно художнику смотреть на обстановку и убор изображаемых им лиц. Этот взгляд устанавливается различным значением обстановки и убора в прежние времена и теперь, иначе говоря, историческим значением этих житейских подробностей. Это различие в свою очередь зависит от неодинакового отношения лица к обществу теперь и в прежние времена. Теперь человек старается сознавать и чувствовать себя свободной цельной единицей общества, которая живет для себя и даже свою деятельность на пользу общества рассматривает как свободное проявление своей личной потребности быть полезным для других. Согласно с этим он подбирает себе, разумеется в пределах своих средств, обстановку и убор по своим личным вкусам и понятиям, по своему взгляду на жизнь, на людей и на себя. Все, что мы видим на современном человеке и около него, есть его автобиография и самохарактеристика, так сказать. Мода, общепринятый обычай, общеобязательное приличие указывают только границы личного вкуса и произвола. Прежде лицо тонуло в обществе, было дробной величиной «мира», жило одной с ним жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных и ему позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хоровой гармонии жизни или в трудолюбиво автоматическом жужжании пчелиного улья. Люди прежних времен умели быть эгоистами не хуже нас, даже бывали чудаками и самодурами, какими не сумеем стать мы, но они менее нас умели быть оригинальными, без странностей, своеобразными и самобытными, без неудобных чудачеств, без потребности в полицейском надзоре. Потому в своей житейской обстановке, как и в своем наружном уборе, они были столь же мало своеобычны и изобретательны, как в своих чувствах и вкусах, повторяли общепринятые завитки, цвета и покрои, исторически сложившиеся, отцами и дедами завещанные. Теперь обстановка – есть характеристика личного настроения и положения человека, его средств и взгляда на свое отношение к обществу. Прежде она была выставкой его общественного положения, выражением не его взгляда на свое отношение к обществу, а взгляда общества на его общественное положение и значение. Ныне обставляет и держит себя, как сам себя понимает, а прежде – как его понимали другие, т. е. общество, в котором он жил. Отсюда следует, что, изображая современного человека, вы, разумеется, в указанных пределах общепризнаваемого обычая и приличия можете придумывать своему герою какую угодно обстановку, платье и прическу, лишь бы все это верно выражало его своеобразный характер, можете быть для него и портными и парикмахерами, только оставаясь художниками и психологами. Но в изображении стародавних людей художник обязан быть историком, окружать и убирать его, как тогда все себя окружали и убирали, хотя бы это окружение и этот убор и не согласовались с характером изображаемого лица.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































