Текст книги "Вторая Государственная дума. Политическая конфронтация с властью. 20 февраля – 2 июня 1907 г."
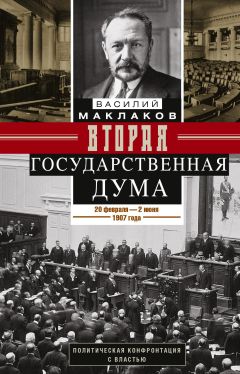
Автор книги: Василий Маклаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава VI
Настроение депутатов при начале 2-й Думы
Выборы произошли в феврале; Дума открылась 20-го. Депутаты съезжались заранее. Мало кто рассчитывал на долгую Думу и искал постоянной квартиры. Мне выпала удача поселиться в кадетском клубе, на Потемкинской улице, который перед 1-й Думой был оборудован на деньги, пожертвованные кн. Бебутовым; как говорили после, он оказался в связях с охранкой; тогда этого не подозревали и он был у нас почетным хозяином.
Больше всего благодаря этому помещению я очутился в самом центре кадетской жизни и мог наблюдать, что в партии делалось. Зато в моих воспоминаниях невольно смешиваются и частные разговоры, и официальные заседания.
Я оказался невольным свидетелем, как партия принимала решения. Лидером считался у нас Милюков; но на личное руководство у него не было ни претензий, ни специального дара. Распорядителем оставался коллектив; он отражал разные направления, примирение которых и сделалось главной задачей «лидера». Милюков своего личного мнения партии не навязывал, высказывал его обыкновенно после других, когда разные точки зрения были изложены и он мог между ними найти компромисс. Его иногда добывали «измором», затягивая обсуждение, пока не образуется подходящего состава собрания.
Кадеты гордились дисциплиной, ею дорожили и считали условием парламентской деятельности. Депутаты могли спорить между собой, у себя, но в Думе должны были голосовать одинаково. Единственной уступкой праву личного мнения было разрешение «воздержаться» от голосования; да и это иногда запрещалось. Потому, кроме исключительных случаев, решения и голосования в Думе заранее устанавливались в заседаниях фракции.
Это имело одно неудобство. По партийному уставу в заседаниях фракции на равных правах с депутатами участвовали члены Центрального комитета и члены распущенной Думы. Не участвуя в Думе, сами в ней не голосуя, они влияли на поведение фракции. У них было больше авторитета, чем у новичков; более опыта, больше свободного времени, чем у рядовых депутатов, которые целый день работали в Думе или комиссиях. Last but not least[34]34
Последнее, но не наименьшее (англ.).
[Закрыть] заседания фракции были для них заменой их прежней работы, единственным способом принять в ней участие. К заседаниям фракции они относились более ревностно. Немудрено, что влияние их во фракции, особенно первое время, было преобладающим.
Они естественно тянули новую Думу на старые рельсы. Хотя было ясно, что та прежняя тактика, которая в 1904–1905 годах победила, а в 1906 году привела к гибели 1-ю Думу, в 1907 году была вполне безнадежна, все-таки своих ошибок они признавать не хотели, делая вид, будто «ничего не переменилось» и «война продолжается»; благодаря этому принимались решения, с которыми было опоздано. Все первые шаги 2-й Гос. думы оказались этим отмечены.
Новые депутаты стали учиться не от них, а из личного опыта. Решения фракции проводиться в исполнение должны были ими. Они поэтому живее чувствовали ответственность за то, что делали, чем их закулисные руководители; и работали они в условиях не схожих с 1-ю Думою. Все это переламывало предвзятые навыки и инструкции. Для новых депутатов сила Думы была не в предполагаемой ее суверенности, а в реальных правах, которые государство за ней признавало. Эти права были ограничены, но зато их надо было использовать полностью. Лозунг «Думу беречь» не предполагал сохранения ее только для одного ее «существования»; он требовал от нее «достижений», которые были возможны только на конституционных путях, т. е. при совместной работе Думы с государственной силой – правительством. Вопреки вожакам это понимание стало отражаться на тактике фракции раньше, чем перешло в сознание лидеров.
* * *
Первым делом Думы должно было быть избрание ее председателя. Переговоры об этом велись между представителями партий. Права кадетов на пост председателя никто не оспаривал. Этому помогало и то, что ни одна из левых партий (трудовики, с.-д., с.-p., н.-с.), как республиканцы, не считали возможным для своего сочлена представление Государю. Кадеты же были хотя и оппозиционной, но «монархической» партией. Им поэтому вдвойне естественно было выставить от себя председателя.
За несколько дней до открытия Думы, по примеру 1-й Думы, было созвано совещание для сговора относительно поведения во время первого заседания, а также для одобрения кандидата в председатели Думы. Собрание было созвано по инициативе кадетов; в их помещении; председательствовал на нем кадет П.Д. Долгоруков. Были приглашены только левые фракции. Не звали ни правых, ни октябристов, ни умеренно правых. Их заранее считали врагами. Потому и речь на собрании шла всего больше о том, как парализовать возможную с их стороны «провокацию» в день открытия Думы. Хотя правила 18 сентября как будто не допускали подобной возможности, но вспоминали речь Петрункевича об амнистии в 1-й Думе и опасались чего-либо подобного в смысле обратном. В качестве знатного «праводумца» Кузьмин-Караваев всех успокаивал. Без содействия председателя этого-де сделать нельзя; против этого есть «председательский окрик», и т. д. Доля смешного здесь была в том, что Кузьмин-Караваев не сомневался, что будет избран председателем сам. В некоторых отношениях он мог оказаться бы лучше; но за ним не было партии, а его личное поведение в 1-й Думе внушало к его устойчивости мало доверия.
Выставленная кадетской партией кандидатура Ф.А. Головина была без возражений одобрена совещанием. Долгоруков приветствовал это единогласное решение собрания, видя в нем «первое совместное действие объединенной оппозиции». Это вызвало общие рукоплескания.
Эта фраза не была только хозяйской любезностью; к несчастью, ею возвещалась ближайшая думская тактика, определялись отношения кадетов и к правительству, и к другим партиям Думы. Они были не выводом из нового положения, а продолжением приемов недавнего прошлого.
Характерно, что, хотя это собрание состояло из большинства Государственной думы, оно, как и в 1-й Думе, называло себя «оппозицией». Этим подчеркивали, что вся Дума есть «оппозиция», власть же враг, а не возможный сотрудник. Иного отношения к правительству тогда не допускали. По традиции радовались всякой неудаче министерства. Еще недавно, когда перед 1-й Думой отставлен был Витте, Милюков увидел в этом нашу победу. Он не заметил, что свалили Витте правые, не за репрессии против общества, а за Манифест, и что если кадеты в его травле принимали участие, то работали этим только на правых. Если кадетские деятели в 1907 году так смотрели на Витте, автора Манифеста, то можно представить себе, насколько они были далеки от допущения, что теперь Столыпин является опорой Думы, и от мысли, что если он Думу оберегает от правых, то Думе неполитично быть с ним в войне. Этого им в голову не приходило: в Столыпине они видели только представителя враждебного лагеря, которого всегда и всеми мерами полезно «валить». 2 марта 1907 года Милюков без всяких мотивов объявляет в «Речи»: «Невозможность для Думы работать с П.А. Столыпиным, по-видимому, даже и в сферах представляется ясной» (!). Это заключение секрет его «осведомленности». Но он шел еще дальше: он рассуждал уже о том, «что нужно для дальнейшего существования Думы при условии отставки Столыпина». Вот иллюзии, в которых наши лидеры пребывали и которые лежали в основе их директив для членов парламентской фракции.
У руководителей общественности был и второй бесспорный канон; он гласил, что для кадетов допустимо соглашение только с более левыми партиями. В той же передовице от 2 марта Милюков предупреждал: «В некоторых влиятельных кругах, как кажется, все еще убеждены, что можно будет составить большинство из правого центра с кадетами, т. е. из октябристов, кадетов и польского коло. Если такого рода большинство признается необходимым условием дальнейшего существования Думы, то мы боимся, что ликвидация Думы только отсрочена»… и дальше: «Если расчеты правительства основаны на образовании большинства не левее кадетов и если целью при этом ставится отказ от аграрной реформы на начале принудительного отчуждения, тогда положение Думы придется с самого начала признать безнадежным».
Вот то традиционное понимание, которое продолжало владеть газетою «Речь». Она правильно выражала взгляды наших руководителей, их «генеральную линию». Та новая партийная комбинация в Думе, которая одна могла спасти тогда конституцию, отвергалась ими без всяких мотивов исключительно по рецептам «Освободительного Движения» и «Первой Государственной думы». Нужны были уроки, чтобы обнаружить бесполезность таких «жестов», которые кадеты уже научились осуждать в левых партиях, но пока еще не замечали в самих себе. На борьбу с этими предрассудками прошлого уходило много труда и, главное, времени. Мы излечились от них только опытом 1915 и 1917 годов.
Практическим последствием старых традиций пока было то, что кандидатура председателя оказалась «партийной». Меньшинство не только к совещанию о нем не привлекли; ему даже имени кандидата официально не сообщили. Меньшинство считалось «вне Думы», хотя без его голосов «рабочего» большинства в Думе не могло бы составиться и хотя такое большинство ей было необходимо. Было ненормально от первого совместного действия Думы совсем устранять членов правого сектора. Их голоса придали бы председателю больший авторитет.
Если права кадетов на пост председателя никто не оспаривал, то кандидатура именно Головина для многих была непонятна. Ничего дурного про него никто сказать бы не мог. Он был «джентльмен», глубоко порядочный, с определенными взглядами. Но по сравнению с С.А. Муромцевым он был бесцветен. По своему прошлому имел хорошие «титулы»: был председателем Московской губернской управы, председателем бюро земских съездов. Но на этих должностях он был только «дублером». Когда Д.Н. Шипов, фигура по размерам несоизмеримая с ним, не был утвержден председателем Губернской управы, в поисках его заместителя остановились на Головине. Он был в земской среде свой человек, бывший сотрудник Шипова по управе; он стал бы продолжать его дело. Он это сам заявил на земском собрании, и такое заявление тогда прозвучало как «вызов». Но оно не пугало; он заменить Шипова не мог бы и был утвержден тем же Плеве, хотя, как конституционалист, мог казаться опаснее славянофила и камергера Шипова. Руководить земствами было ему не под силу; но в съездах уже образовалась сплоченная группа более авторитетных и влиятельных лиц; ему оставалось идти вместе с ними. Он же не был самолюбив и охотно довольствовался второстепенною ролью.
Так и на посту председателя Думы он продолжал свое амплуа быть дублером. В глазах поклонников 1-й Думы это было нормально. Ведь вся 2-я «бесцветная» Дума рассматривалась только как дублер «настоящей».
Но на посту председателя были все-таки нужны и индивидуальные качества, которых у Головина не хватало. Его друзья предупреждали, что хотя в общем он эффектен не будет, но в критические минуты сумеет Думу выручить лучше многих других. В этом была доля правды. Ему помогала его невозмутимость, полное отсутствие личного самолюбия. И теперь, задним числом, я не вижу, кто из тогдашних думских кадетов тогда роль председателя мог бы лучше исполнить. Требования, которые жизнь к нему предъявляла, были разнообразны, и их было трудно соединить в одном человеке.
Он должен был, во-первых, «руководить» заседаниями. В этом отношении ему было трудно тягаться с С.А. Муромцевым, который приобрел репутацию председателя «Божией милостью». Эта репутация преувеличена. У Муромцева не хватало для этого живости и находчивости. Он был слишком важен. «Он председательствует, как обедню служит», – метко сказал про него один крестьянский депутат. Эта манера годится в храме, когда благолепия никто не нарушает. Она «на толкучем рынке» бессильна. Для «усмирения» страстей там нужны другие приемы, находчивое слово, способное разрядить атмосферу. Муромцев не имел этого дара; у Головина его было не больше, а задача его была бесконечно труднее. В 1-й Думе по отношению друг к другу депутаты держались корректного тона; между ними не было острого разногласия, они солидарность свою сознавали. Во 2-й же Думе, при ее разнородном составе, перебранки, взаимные оскорбления между депутатами стали обычным явлением. Если не было случая видеть, как с ними бы справился Муромцев, то Головин не умел с ними справляться, и такие его попытки бывали иногда даже смешны.
С этим была связана другая особенность в положении двух председателей. Муромцев мог не стеснять депутатского слова и в этом видеть свой долг председателя. Что бы оратор ни говорил, он его не останавливал и ему замечаний не делал. Так же вела себя сама Дума. Она не перебивала ораторов, не пыталась собой заменять бездействие председателя. Муромцев ей импонировал своей величавой наружностью, авторитетностью тона, знанием дела. Обратные чувства вызывал Головин; закрученные кверху усы, высокий крахмальный воротник, картавый голос производили при первом знакомстве немного комическое впечатление. Предубеждение из-за внешности, конечно, разлетается при более близком общении, как оно разлеталось у тех, кто, например, имел дело с Кокошкиным, который по внешнему виду на Головина походил. Но у Головина не было ни умственного блеска Кокошкина, ни его дара слова и мысли. Он никому не импонировал, и с ним не стеснялись.
Кроме того, во 2-й Думе было правое меньшинство, которое сочло своим призванием протестами и шумом восполнять бездействие слишком долготерпеливого председателя. Когда они это делали, Головину приходилось призывать уже правых к порядку; это получало вид заступничества за эксцессы левых ораторов. Они превращались в думские инциденты, подрывавшие и Думу, и ее председателя.
Они бывали иногда очень резки. «Такое поведение председателя естественно лишает его нашего доверия, – писали 31 социал-демократические депутата, во главе с Церетелли, 27 апреля 1907 года, – и, как показал вчерашний инцидент, когда почти половина Думы покинула зал заседания в знак протеста против действий председателя, – это недоверие разделяется большинством членов Думы, голосовавших, как и мы, за нынешнего председателя». Таких конфликтов с председателем не могло быть в 1-й Думе, и мы не знаем, как сумел бы Муромцев справиться с такой атмосферой.
Несомненное преимущество Муромцева было в том, что он был прекрасным «техником» дела. Оно его интересовало выше всего. Любовь к форме как основе «порядка» и «личной свободы» была сущностью его политического понимания. Если в этом была односторонность его как политика, она пошла на пользу его как председателя. У Головина этого качества не было. Его положение было легче: для думского обихода были уже прецеденты, существовала власть Наказа. Но он все-таки делал грубые ошибки. От них Муромцев глубоко страдал. Он стал помещать в «Праве» еженедельное обозрение под заглавием «Парламентская неделя», где эти ошибки указывал. Авторство Муромцева сохранялось в тайне так успешно, что о нем я сам узнал только в эмиграции, из воспоминаний Н.В. Гессена.
Это неумение могло быть не важно. Председательство особый талант. Я не видел более комичного по своей технической негодности председателя, каким оказался на земском съезде блестящий М.М. Ковалевский, а из всех председателей Думы всех лучше исполнял свое дело ничем не блестевший кн. В.М. Волконский. У председателя Думы была еще другая, не менее важная, уже политическая функция. Он был представителем всей Думы в ее сношениях с правительством и с Главой Государства. Поклонники Муромцева справедливо его упрекали, что этого преимущества в 1-й Думе он не использовал. От политической работы он стоял в стороне и ждал, когда его «призовут». В нем подобную линию можно было понять. 1-я Дума не довольствовалась своей конституционною ролью и считала себя выразительницей «суверенной» воли народа. При таких взглядах ее председателю было невместно опускаться до переговоров с «врагами». Но этим прецедентам хотел следовать и Головин, председатель той Думы, которую хотели «беречь» и которая хотела «работать» вместе с правительством. Для такой задачи политическая роль Головина могла быть велика; сыграть ее он не сумел. Об этом он сам рассказывал в своих воспоминаниях, с свойственной ему правдивостью, но и наивностью. На этой роли он остался тоже только «дублером», уподобляясь Муромцеву – только в ошибках его.
Если в общем Головин оказался не на высоте трудной задачи, то вина лежит не на нем. Он делал все, что мог и умел, не поддавался личным расчетам и слабостям. Нельзя его упрекать, что большего дать он не мог. Он не добивался того высокого поста, на котором он очутился. Его выдвинули другие, и он принес себя в жертву. Он был эмблемой кадетской судьбы. Их уверенность, что они одни все сделать сумеют, реклама, которую они себе делали и которую потом сами принимали всерьез, создавала им и среди друзей и врагов «репутацию», которая не оправдалась испытанием жизни. На роль критиков они прекрасно годились; с этой второстепенной ролью они не мирились и претендовали на первую. Она выпала на их долю в 1917 году, и именно тогда опыт легенду об их несравненном искусстве рассеял.
Глава VII
Открытие Думы
Официальное открытие Думы, по отзыву всех, кто присутствовал на открытии 1-й, в сравнении с ним было будничным и нерадостным. Не было не только парадного приема во дворце, но и восторгов на улицах. Перед Таврическим дворцом стояла обычная толпа любопытных, а наряды полиции внимательно проверяли билеты. Это было символом. Предстояла работа, не «праздник»; правительственный аппарат оказался сильнее «воли народа», – о чем он как будто и хотел у самого входа новой Думе напомнить. В этом ничего безнадежного не было. Перед «депутатским билетом», т. е. перед «законным правом» полиция отступала. Но зато формальный закон был и единственной силой Думы. Это все, что осталось от сгоревшего перводумского фейерверка. Этим соотношением сил и должна была впредь определяться думская тактика.
Открытие ознаменовалось прискорбным непредусмотренным «инцидентом». Произошел он совсем не от «провокации» правых, которой боялись. Вышло следующее. Назначенный Государем для открытия Думы д. т. с. Голубев обратился к ней с такими словами: «Возложив на меня почетное поручение открыть заседания Государственной Думы в составе избранных населением в 1907 году членов ее, Государь Император повелел мне приветствовать от Высочайшего Его Имени членов Государственной думы Всемилостивейшим пожеланием…»
После слова «пожеланием» он приостановился. Все министры поднялись со своих мест и слушали стоя; на правых скамьях тоже встали; остальные, т. е. почти вся Дума, остались сидеть. Несколько кадетов поднялись, но, видя, что вся Дума сидит, снова сели. Все это продолжалось одно только мгновение, пока Голубев договорил: «Да будут, с Божьей помощью, труды ваши в Государственной думе плодотворны для блага дорогой России».
После этих слов Крупенский громко воскликнул: «Да здравствует Государь Император. Ура!..» «Ура» было поддержано криками с тех же правых скамей; остальные оставались сидеть и молчать. После этого заседание продолжалось. Но когда во время подсчета записок за председателя все вышли из зала, в кулуарах было смущение; произошла демонстрация, которой никто не предвидел и никто не хотел.
Именно кадеты ею поставили себя в трудное положение. Левые фракции не скрывали своих республиканских симпатий и «монархических» доказательств умышленно не стали бы делать. Кадеты же были «монархической партией». Участие в антимонархической демонстрации было им не к лицу. Они были взяты врасплох.
Пошли рассуждения. Кто виноват и вообще виновата ли Дума? Должно ли было по этикету вставать, когда читалось не подлинное обращение Государя, а Голубев пересказывал по памяти его содержание? Почему в таком случае он не предложил сам всем встать, как это сделал при чтении «обещания» и как это обыкновенно в аналогичных случаях делается? Почему «ура» Государю, которое Дума не поддержала, провозгласил не председатель собрания, а частное лицо, к тому же слишком партийный Крупенский? Должна ли была Дума за его фантазией следовать? Можно было на этом настаивать, но бесплодность этих резонов была несомненна; факт совершился и мог быть против Думы использован. Доброжелатели с правых скамей подсказывали нам из этого выход. Пусть после избрания председателем Головин от себя провозгласит «ура» Государю. Но это было практически невыполнимо. Провозглашение второго «ура» на одном заседании, да еще после Крупенского, показалось бы излишним «усердием». Головин этим мог провоцировать Думу на худшее. Левые не пошли бы на это. Да и не одни только левые. Кадеты-перводумцы, вспомнив прошлое, демонстрацией были довольны. Винавер, наблюдавший ее из депутатской ложи на хорах, говорил о чудном впечатлении, которое она на них произвела. При таком настроении попытка «исправить» могла сделать еще большее зло.
Враги Думы против нее получили оружие. Но в числе этих врагов самого Столыпина не оказалось. Это для его позиции характерно. Он, напротив, постарался инцидент в глазах Государя смягчить. Он писал ему после заседания:
«Имею счастье доложить Вашему Величеству, что заседание Думы под председательством д. т. с. Голубева прошло благополучно.
После привета Голубева от имени Вашего Величества правые встали и член Думы Крупенский громко провозгласил в честь Вашего Величества «ура», подхваченное всею правою стороною; левые не встали, но не решились на какую-нибудь контрманифестацию.
Председателем Думы выбран Головин, председатель Московской Губернской Земской Управы (356 шаров против 102). Приветственная речь Головина была прилична»[35]35
Красный архив. Т. 5.
[Закрыть].
Такое изложение очень неточно. О том, что Дума сидела, слушая приветствие Государя, – Столыпин не написал; он говорит, будто уже после привета правые встали, а Крупенский провозгласил «ура». Это положение изменяло. В демонстрации, вышедшей по инициативе частного человека, можно было и не участвовать. Поведение Думы задевало Монарха; в изложении же Столыпина оно превратилось как бы в демонстрацию против усердия Крупенского. И Столыпин подчеркивал, что «контрманифестации» не было.
Но Государь и при таком освещении был недоволен. Он ответил Столыпину: «Поведение левых характерно, чтобы не сказать неприлично». Оно и было использовано против всей Думы. Государь писал матери: «Ты уже знаешь, как открылась Дума и какую колоссальную глупость и неприличие сделали все левые, не встав, когда правые кричали «ура». Я получаю с того дня телеграммы из всех углов России с выражением глубокого возмущения истинно русских людей этой непочтительностью Думы»[36]36
Красный архив. Т. 22.
[Закрыть].
Телеграммы «истинно русских» людей по сигналу следовали отовсюду, где эти организации были; но тем характернее, что Столыпин, докладывая Государю о происшедшем, нашел, что «открытие Думы прошло благополучно».
Председателем, конечно, избран был Головин. В пику за свое устранение от совещания и чтобы подсчитать свои голоса, правые решили выставить в председатели и своего кандидата. Они подали записки за Хомякова; их оказалось 91, что превысило почти вдвое официальную численность правых и показало, что часть беспартийных пойдет вместе с ними. Хомяков от баллотировки отказался, но его 91 записка превратилась уже в 102 черных шара Головину.
Речь председателя Столыпин в письме Государю назвал «приличной». Она была и бесцветной; по форме ее нельзя было сравнивать с вызывающей, но эффектной речью Муромцева. По содержанию же она соответствовала настроению тех, кто Головина избирал, т. е. «объединенной оппозиции». Головин подчеркнул, что у нас «конституция», обещал следовать «заветам 1-й Государственной думы», которая будто бы «указала пути для облегчения страны от ее тяжких страданий». Были в его речи и новые ноты. Он говорил не об «осуществлении прав, вытекающих из природы народного представительства», как это сделал Муромцев, а о «проведении в жизнь воли и мысли народа в единении Думы с Монархом». Это было как будто намеком на намерение следовать идее конституции 1906 года, но, конечно, слишком туманным.
Открытие Думы давало тон будущим отношениям Думы с правительством. Раз Столыпин решил Думы не распускать, а вместе с нею работать, он из этого правильно вывел, что «надо с нею сговориться», по крайней мере, с теми, кто может стоять на этой лояльной позиции. Он, не откладывая, тотчас сделал первый шаг к этому. Вот что об этом рассказывает сам Головин в своих «Воспоминаниях». «Тотчас после избрания моего председателем 2-й Государственной думы, в заседании 20 февраля 1907 года, я возобновил свое знакомство с П.А. Столыпиным, приняв от него поздравление о окончании этого заседания. Наша беседа была очень краткая. Мне казалось, что Столыпин не прочь бы начать серьезный деловой разговор. Он выразил опасение, что мне трудно будет вести заседания Думы при малочисленном центре и наличности двух крыльев с резкими противоположными взглядами»[37]37
Красный архив. Т. 19.
[Закрыть].
Это могло быть хорошим началом; Столыпин сразу входил in medias res[38]38
В гущу событий (лат.).
[Закрыть], ставил основной вопрос о возможном существовании Думы. Вот как на это отвечал Головин: «Я уклонился от разговора на эту тему, ответив лишь, что единодушие подавляющего большинства Думы при выборе председателя дает основание рассчитывать на единодушие Думы в других серьезных случаях».
Почему Головин «уклонился» и под таким наивным предлогом, будто единодушие при выборе председателя что-либо обещало? Уклонение можно было понять, если Головин этот разговор отклонял до более благоприятной для него обстановки. Но он сам сделал, чтобы другого разговора и не было. Приняв от Столыпина «поздравления», он счел своим правом ему визита не сделать. Он сам понимал, что эта некорректность будет вредна для дела. Вот его объяснение:
«Прежде всего я не мог не считаться с прецедентом в области отношений председателя Думы и министрами, установленных председателем Государственной думы С.А. Муромцевым. После своего избрания председателем Думы С.А. Муромцев не сделал визита министрам. Последние, в свою очередь, также не сочли нужным посетить председателя Думы. Таким образом, отношения между министрами и председателями Государственной думы были только деловые. С этим фактом я должен был считаться.
Я считал и считаю, что едва ли в этом вопросе Муромцев был прав. «После Государя первое лицо в государстве это председатель Государственной думы», – говорил Муромцев. В подтверждение правильности такого взгляда С.А. приводил как теоретические соображения о существе народного представительства и положении его среди государственных установлений, так и отношение к президенту французской палаты депутатов даже такого врага народовластия, каким был Александр III. Муромцев указывал, что Александр III, во время посещения им Парижа, первый сделал визиты президенту республики и президенту палаты, но не министрам. Я вполне соглашаюсь, что по существу народного представительства председатель Государственной думы должен почитаться первым после Государя лицом в государстве, но, к сожалению, нельзя не считаться с условиями русской действительности. Вековая привычка нашей властной бюрократии занимать первое место в государстве не могла исчезнуть от одного росчерка пера Николая II под Манифестом 17 октября 1905 года. Признать первенство председателя Думы среди высших представителей законодательной и административной государственной власти было не так-то легко и приятно для господ министров».
Головин, таким образом, находил, что хотя Муромцев был прав по существу, но надо было сделать уступку бюрократическим «предрассудкам». Это неверно, Муромцев и по существу был не прав.
Ссылка его на Александра III недоразумение, так как Александр III Парижа не посещал и никогда председателям палат визита не делал. Но даже если бы это было и верно, отношения президента Совета министров и президента палаты во Франции не таковы, как у нас. Во Франции «правительство» ответственно перед палатами; глава правительства по самому рангу ниже председателя палаты, как всякий зависимый человек ниже того, от кого он зависит. По русской же конституции правительство перед Думой ответственно не было; оно подчинялось одному Государю. Председатель Совета министров и председатель Думы друг от друга совсем не зависели. При равенстве положений лицо, вновь назначенное, первым делает визит тем, кто занимал свои должности раньше. Претензия Муромцева, чтобы председатель Совета министров первый поехал к нему, была проявлением взгляда, что «воля Думы» сильней конституции. Только в этом имело опору поведение Муромцева. При 2-й Думе, возвращавшейся на конституционную почву, претензия Головина была уже ни на чем не основана. И этим не кончилось. Я буду говорить в X главе, как в вопросе вполне деловом, не осложненном тонкостью «протокола» или традициями 1-й Думы, Головин оттолкнул еще раз авансы Столыпина. Все это, к сожалению, было понятно. Это соответствовало классическому взгляду на Столыпина как на врага, который принужден будет скоро уйти.
Головин уклонился от разговора не только со Столыпиным. Он так поступил и с Государем. Раз в России конституционный Монарх не только царствовал, но и «управлял» и последнее слово принадлежало ему, возможность личного общения с ним могла быть полезна. Было бы важно, чтоб Государь мог о Думе судить не по наговорам ее принципиальных врагов, но и по объяснениям ее председателя. Если Муромцев в своем величии «второго лица в государстве» мог этой возможностью пренебрегать, у Головина этого самомнения не было. Он потом сам два раза просил о приеме. Но на эти разы Государь уже был восстановлен против Думы и против ее председателя, этого он не скрывал, и трудно судить по рассказу Головина, в какой мере ему удалось тогда предубеждение это рассеять. О характере их отношений мы можем лучше судить по той первой их встрече, когда предубеждения против него еще не было и когда только проверялась надежда на возможность с этой Думой работать. Случай был исключительный. Но от беседы на эту тему Головин опять «уклонился».
Принимая его на другой же день после открытия Думы, Государь, несмотря на происшедшую накануне демонстрацию, в которой принял участие и Головин, его встретил «приветливой улыбкой», «протянул ему руку», «поздравил с избранием» и тут же завел разговор о «распределении членов Думы по фракциям» и о «возможности образования работоспособного центра». Он указал на «целый ворох законов», которые правительство в Думу внесло, над которыми «Думе придется много и много работать»; с упрямым и холодным видом заговорил, что Дума должна «дружно работать с правительством, что того настоятельно требуют интересы государства»; добавил к тому же, что «все в Манифесте дарованное народу не подлежит отмене, все обещанное должно быть осуществлено»[39]39
Красный архив. Т. XIX. С. 118.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































