Читать книгу "Вторая Государственная дума. Политическая конфронтация с властью. 20 февраля – 2 июня 1907 г."
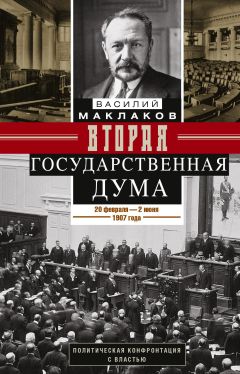
Автор книги: Василий Маклаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям.
Я знаю, вы тоже верите, что «сердце царево в руцех Божьих».
Да будет так.
Я несу за все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность и во всякое время готов отдать Ему в том ответ».
Хотя мотивы Совета министров признаны «самыми убедительными», они оказались перевешенными только тем «внутренним голосом»[23]23
На Дворянском съезде 16 ноября 1906 г. Пуришкевич, между прочим, хвалился дисциплиной и влиянием «Союза русского народа». «Когда несколько дней назад, – рассказывал он, – в Совете министров был принципиально задет вопрос о расширении черты еврейской оседлости, Главный совет, обратившись к отделениям Союза, предложил им просить Государя Императора воздержаться от утверждения проекта съезда. По прошествии 24 часов у ног Его Величества было 205 телеграмм».
Вот источник того внутреннего голоса, который Государя будто бы никогда не обманывал.
[Закрыть], который будто бы Государя никогда не обманывал. Страшно подумать, что такой довод мог быть указан Совету министров, что Государь рассчитывал на его убедительность. «Вы тоже верите, что сердце царево в руцех Божьих». При такой постановке вопроса не приходится спорить; но она показывает, на чем позднее вырос Распутин. Столыпин, в своем ответе Государю, просил, по крайней мере, разрешения переделать задним числом журнал Совета министров, чтобы не показалось, что «Совет единогласно высказался за отмену ограничений, а Государь их сохранил». Мы не имеем права, писал он, ставить вас в такое положение и прятаться за вас. Остается неясным, хотел ли Столыпин «ответственность взять на себя», чтобы не компрометировать Государя, или хотел и не «подрывать в широкой публике авторитета Совета Министров». «При таком обороте дела, – объяснял дальше Столыпин, – и министры в глазах общества не будут казаться окончательно лишенными доверия Вашего Величества, а в настоящее время Вам, Государь, нужно правительство сильное».
В этой неудаче Столыпин может быть сам не повинен. Вина лежит на Государе и ближайшем его окружении. Чтобы им противодействовать, нужно было иметь опору в тех, кто, как и Столыпин, хотели либеральной реформы всего нашего строя. Соглашение с ними было поэтому самой насущной задачей. Оно могло бы указать тот средний путь, который мог пролегать между старым «порядком», т. е. сословным Самодержавием, и еще загадочной «революцией». Привлечение к управлению «либеральной общественности» было поэтому давнишней заботой всех тех представителей власти, которые сочувствовали либеральным реформам. Таковы были те министры Александра II, во главе с Лорис-Меликовым, которых удалил с политической сцены Манифест 29 апреля 1881 года, написанный Победоносцевым для нового Самодержца. В 1905 г., с возвещением конституции, естественно возвращались к той же традиции. С этой целью уже 18 октября 1905 года Витте пригласил для переговоров с собою Бюро земских съездов. Но общественность, в лице этого Бюро, не захотела тогда примирения с властью; как полагалось в войне, она требовала «капитуляции без всяких условий». Соглашение не состоялось. Следующие закулисные попытки были сделаны уже при Думе; они были сорваны более всего непримиримостью кадетов, которые требовали парламентарного кадетского министерства. Государь, под влиянием Столыпина, на это не шел, и Дума была распущена[24]24
Об этих двух попытках я рассказал в моих книгах «Власть и общественность» и «Первая Дума».
[Закрыть]. Третью и последнюю попытку привлечь общественность к управлению сделал уже сам Столыпин немедленно после роспуска Думы. Она тоже не удалась и уже не повторялась до 1917 года. О ней в следующей главе.
Глава IV
Отношения Столыпина с либеральной общественностью
Эта последняя попытка сближения была особенно показательна. Со стороны власти переговоры вел Столыпин в апогее своего влияния и добрых намерений; он обратился (не как Витте в 1905 году) не к Бюро земских съездов, упоенному успехом «освободительной» тактики, а к тем людям либерального прошлого, которые казались свободны от революционных иллюзий, как будто сознали бесплодность кадетских «непримиримых» путей и опасность от союзников слева. Поэтому с ними власть, по-видимому, могла сговориться. Но и эта попытка кончилась неудачей. Интересно взвесить, на ком лежит за это больше ответственности.
Как только стало ясно, что роспуск Думы не вызвал той бурной реакции, которой все время грозили, Столыпин тотчас предпринял шаги для привлечения к сотрудничеству представителей общества. Он тогда разговаривал со многими, начиная с Шипова и кончая Гучковым. С наибольшей полнотой мы знаем о его переговорах с Шиповым и кн. Львовым; о них подробно и, как всегда, правдиво рассказал сам Шипов[25]25
Шипов Д.Н. Воспоминания и Думы. С. 461.
[Закрыть]. По ним можно догадываться о ходе других разговоров.
Самое начало их было характерно. Уже 12 июля Шипов был, по поручению Столыпина, вызван своими друзьями из Москвы в Петербург; но, узнав, зачем его вызвали, отказался поехать; он не простил Столыпину роспуска Думы. Этот отказ Столыпина не обескуражил; он прибегнул к хитрости. 15 июля, т. е. всего через неделю после роспуска Думы, он официально по службе пригласил его с кн. Львовым якобы для переговоров о продовольственной помощи населению при содействии шиповского детища «Общеземской организации». Шипов догадался, что это только предлог: но уклоняться было нельзя, и он приехал к нему с кн. Львовым. Столыпин перешел прямо к делу. Шипов так передает их разговор:
«Как только мы вошли в кабинет, П.А. Столыпин обратился ко мне со словами: «Вот, Д.Н., роспуск Думы состоялся; как теперь относитесь вы к этому факту?» Я ответил, что П. А-чу известно мое отношение к этому факту и что я остаюсь при своем убеждении. Такое начало не могло не отразиться неблагоприятно на настроении вопрошавшего и на предстоящих переговорах. После моей реплики П.А. Столыпин сказал: «Я обращаюсь к вам обоим с просьбой войти в состав образуемого мной кабинета и оказать ваше содействие осуществлению конституционных начал, возвещенных Манифестом 17 октября».
Он им раскрыл, как предполагал использовать междудумье для умиротворения общества:
«Для успокоения всех классов населения нужно в ближайшем же времени дать каждой общественной группе удовлетворение их насущных потребностей и тем привлечь их на сторону правительства. Делу поверят скорее и больше, чем словам».
Как на пример «насущных потребностей крупных общественных групп» он указывал, между прочим, и на еврейский вопрос; сюда же относилось и то, что было позднее проведено им по 87-й ст., т. е. крестьянский вопрос, вопрос о старообрядцах, о приказчиках и т. п.
Такова была тактическая программа Столыпина. Казалось, она могла бы быть базой для дальнейших переговоров. Можно было сокращать или увеличивать список неотложных законов, которые Столыпин хотел провести, вводить в них поправки и изменения и т. д. Но по рассказу Шипова, он с кн. Львовым «горячо возражали» против самого плана. Они стали доказывать, что никакие мероприятия, нуждающиеся в законодательной санкции, не могли быть осуществлены помимо законодательных учреждений; недоумевали, как правительство, после 17 октября, может предрешать помимо народного представительства, какие именно реформы должны быть проведены в жизнь и т. д.
Весь разговор, по рассказу Шипова, был «беспорядочный; происходил при большом возбуждении обеих сторон», которые «часто перебивали друг друга». Но они поняли, что в таком важном и ответственном вопросе ограничиться «беспорядочным разговором» было нельзя, и 17 июля, чтобы зафиксировать положение, ему написали письмо. Этот документ драгоценен для понимания их отношений. В нем, как передает сам Шипов, они выражали не свое личное мнение; говорили от имени своих политических друзей и единомышленников, то есть той разумной части либеральной общественности, которая была в меньшинстве и на Земском съезде, и в 1-й Государственной думе, и не шла за ее тогдашней тактикой. Можно было надеяться, что эта особенность их собственного политического прошлого отразится в письме и соглашение сделает возможным.
Ввиду важности письма я его приведу почти целиком:
«Милостивый Государь Петр Аркадьевич.
Помимо нашего желания, наша беседа с вами 15-го июля приняла направление, которое лишило нас возможности выяснить вам те условия, при наличности которых мы сочли бы себя вправе принять ваше предложение и сделать вам понятными причины нашего отрицательного к нему отношения.
О готовности жертвовать собой не может быть вопроса. При условии сознания и твердой веры, что мы можем принести пользу, мы готовы отдать все свои силы служению родине. Но мы полагаем, что намеченная вами политика постепенного приготовления общества к свободным реформам маленькими уступками сегодня, с тем чтобы завтра сделать большие, и постепенного убеждения его в благих намерениях правительства не принесет пользы и не внесет успокоения. Реформаторство правительства должно носить на себе печать смелости и ею импонировать обществу. Поэтому мы считаем единственно правильной политикой настоящего времени открытое выступление правительства навстречу свободе и социальным реформам, и всякая отсрочка в этом отношении представляется нам губительной… В этих целях, по нашему мнению, необходимо, чтобы в высочайшем рескрипте на имя председателя совета министров, при назначении в кабинет лиц из среды общественных деятелей, было возвещено, что мера эта имеет своею целью осуществление необходимого взаимодействия правительственных и общественных сил.
Мы полагаем, что из 13 лиц, кроме председателя совета министров, входящих в состав кабинета, должно быть не менее 7 лиц, призванных из общества, сплоченных единством политической программы. Между этими лицами должны быть распределены портфели министров: внутренних дел, юстиции, народного просвещения, земледелия, торговли, оберпрокурора Святейшего Синода и государственного контроля.
Главою кабинета должны быть вы, ибо назначение нового главы явилось бы в настоящее время колебанием авторитета власти. Вновь образованный кабинет, в противовес декларации 13-го мая, должен обратиться к стране с правительственным сообщением, в коем должны быть ясно и определенно установлены те задачи, которые ставит себе министерство. В сообщении этом кабинет должен заявить, что он подготовит к внесению в Государственную думу целый ряд законопроектов по важнейшим очередным вопросам государственной жизни, и в том числе проект земельного устройства и расширения крестьянского землевладения, в целях которого правительство не остановится и перед принудительным отчуждением части частновладельческих земель в случаях необходимости, установленных местными землеустроительными учреждениями.
Одновременно с организацией нового кабинета мы признаем необходимость, чтобы высочайшими указами Государя Императора было приостановлено произнесение приговоров смертной казни до созыва Государственной думы и дарована амнистия всем лицам, привлеченным к ответственности и отбывающим наказание за участие в освободительном движении и не посягавшим при этом на жизнь людей и чужое имущество.
Вновь образованный кабинет должен неотложно выработать законопроекты, регулирующие пользование правами и свободами, возвещенными 17-го октября, и устанавливающие равенство перед законом всех российских граждан, и представить их на высочайшее утверждение для введения их в действие временно, впредь до утверждения законопроектов Государственной Думы. В то же время правительство должно прекратить действие всех исключительных положений.
В заключение мы считаем совершенно необходимым, в целях успокоения страны, приступить возможно скорее к производству выборов и созвать Государственную Думу не позднее 1-го декабря 1906 года».
Если сравнивать это письмо с тем, что в октябре 1905 года графу Витте говорила земская делегация, или с тем, на чем рушились закулисные переговоры в 1-й Думе, оно заключало много уступок. В нем не было речи ни об Учредительном собрании по 4-хвостке, или о болгарской или бельгийской конституции, ни принципиального отвержения «коалиции» с бюрократическим миром, ни «отвода» лично против Столыпина. Уступлено было даже в том, на что сначала так «горячо» ополчились Шипов с кн. Львовым, т. е. в проведении временно законов, без представительных учреждений; это как раз то, что хотел сделать Столыпин и против чего они горячо возражали.
Если бы земская делегация предложила эту программу в октябре 1905 года, все могло бы пойти по-иному. Но обстоятельства с тех пор изменились. В той форме, в которой эта программа теперь предлагалась, она не могла быть Столыпиным всерьез принята. Письмо ставило условием исполнение тех требований, которые были помещены в думском адресе, – амнистия, приостановка смертной казни, снятие исключительных положений и непременно принудительное отчуждение земель. В адресе они были поставлены так, что получили категорический отрицательный ответ в декларации 13 мая и явились поводом к роспуску. Принятие правительством этой программы теперь не могло бы быть понято иначе, как капитуляция его перед распущенной Думой. Ускоренный же созыв Думы, как этого требовало письмо, т. е. производство новых выборов, в атмосфере такой капитуляции, немного отличался бы от совета[26]26
Маклаков В. Первая Дума. Глава XV. С. 225.
[Закрыть], который раньше в газете давал Милюков: просто вернуть прежнюю Думу. Такую политику, конечно, можно было и защищать, и вести; но не Столыпин, распустивший 1-ю Думу, мог ее сделать своей. Когда письмо требовало для общественных деятелей, «объединенных этой программой», семи портфелей, главных во внутреннем управлении, в том числе – и на первом месте, – поста министра внутренних дел, который занимал сам Столыпин, но добавляло при этом, что главой кабинета должен оставаться Столыпин, «ибо назначение нового премьера явилось бы в настоящее время колебанием авторитета власти», – это уже звучало насмешкой. Если бы Столыпин на это пошел, он в обоих лагерях убил бы к себе уважение; управление государством на таких основаниях он должен бы был предоставить другим, а не цепляться за свое место, унижая себя. Потому в этих «условиях» Столыпин правильно усмотрел определенный отказ. Так он и ответил. Привожу и его ответ тоже почти целиком:
«Милостивый Государь Дмитрий Николаевич.
Очень благодарен вам и князю Львову за ваше письмо. Мне душевно жаль, что вы отказываете мне в вашем ценном и столь желательном, для блага общего, сотрудничестве. Мне также весьма досадно, что я не сумел достаточно ясно изложить вам свою точку зрения и оставил в вас впечатление человека, боящегося смелых реформ и сторонника «маленьких уступок». Дело в том, что я не признаю никаких уступок, ни больших, ни маленьких. Я нахожу, что нужно реальное дело, реальные реформы и что мы в промежуток 200 дней, отделяющих нас от новой Думы, должны всецело себя отдать подготовлению их и проведению возможного в жизнь. Такому «делу» поверят больше, чем самым сильным словам.
В общих чертах, в программе, которая и по мне должна быть обнародована, мы мало расходимся. Что касается смертной казни (форма приостановки ее Высочайшим указом) и амнистии, то нельзя забывать, что это вопросы не программные, так как находятся в зависимости от свободной воли Монарха.
Кабинет весь целиком должен быть сплочен единством политических взглядов, и дело, мне кажется, не в числе портфелей, а в подходящих лицах, объединенных желанием вывести Россию из кризиса… Я думал, как и в первый раз, когда говорил о сформировании вами министерства, так и теперь, когда предлагал вам и князю Львову войти в мой кабинет, что польза для России будет от этого несомненная. Вы рассудили иначе. Я вам, во всяком случае, благодарен за вашу откровенную беседу, за искренность, которую вы внесли в это дело, и за видимое ваше желание помочь мне в трудном деле, возложенном на меня Государем».
Так кончились переговоры Столыпина с Шиповым и Львовым; это было плохим предзнаменованием и огорчило Столыпина. Огорчение сквозит в его ответном письме. Но такова сила предвзятости, что сам Шипов увидел в письме «отсутствие искренности и откровенности»[27]27
Шипов. Воспоминания. С. 471.
[Закрыть], не говоря о Милюкове, который в нем открыл даже «торжествующую иронию»[28]28
Милюков. Три попытки. С. 80.
[Закрыть].
Мы не имеем подробностей переговоров Столыпина с другими деятелями, которых он приглашал, – гр. Гейденом, М. Стаховичем, А. Гучковым и Н. Львовым. Это не важно: они могли отличаться только в подробностях. Основание отказа у всех было одно. Каковы бы ни были личные взгляды общественных деятелей, они все находились в одном воюющем лагере. Они представляли тот общий фронт, которого они разрывать не хотели, как не разрывают военного союза во время войны. В эпоху войны с Самодержавием «Освободительное Движение» объединило несовместимые элементы. Они могли естественно распасться после победы, так как несовместимость их для дальнейшей деятельности уже обнаруживалась. Но они убедили себя, что война еще продолжалась, или, по крайней мере, может возобновиться, и не хотели брать на себя ответственности за прекращение коалиции. Либеральные земцы, как Н.Н. Львов и А.Н. Гучков, не хотели расходиться с кадетским радикализмом; кадеты же не хотели ссориться и с подлинной Революцией. В искренность власти они не верили, а против нее только союз с Революцией мог им дать реальную силу. Связь их с Революцией поэтому долго продолжала быть основой их тактики. В обращении власти к себе они видели или проявление полного бессилия власти, невозможность для нее обойтись без общественности, или еще хуже – коварный план ее расколоть и «скомпрометировать». Они с властью продолжали быть двумя воюющими лагерями. Это объясняет и другие характерные требования, которые в письме Шипов и кн. Львов Столыпину поставили. И необходимость особого рескрипта о «вхождении общественных представителей» в кабинет, как для встречи во время войны представителей воюющих стран нужно специальное «разъяснение», чтобы их встреча не показалась изменой; и условие об участии их в кабинете не иначе как на классических «паритетных началах», и парадоксальное требование, чтобы не весь кабинет, а только «общественная» его половина была объединена единством политических взглядов. Это показывало ясно, что по их представлению власть и общественность продолжали быть враждебными силами и что война между ними не кончена.
А между тем оба врага были друг другу нужны. Было ошибкой государственной власти воображать, что она одна может все при пассивном послушании населения. И общественность поддалась иллюзии, когда думала, что государственный аппарат ее талантам только мешает. Они дополняли друг друга. Власть грешила пренебрежением к «правам человека»; а общественность не давала себе отчета в объеме тяжелого долга, который лежал на «государственной власти», для борьбы с антисоциальными инстинктами человека, ленью, эгоизмом, равнодушием к государственной пользе. Только власть могла дать реальную силу общественности, не делая ее преддверием революции; только поддержка общественности делала из государственного аппарата национальную власть, а не подобие военного оккупанта.
Представители государственной власти, как люди ответственные и более опытные, раньше общественности поняли необходимость их совместной работы. Отсюда разочарование их от неудачи подобных попыток, в то время как общественность с «легким сердцем» переговоры старалась сорвать, грозя «отлучением» тех, кто согласится «врагам» помогать, и видя потом в их неудаче оправдание своей тактики и доказательство своей проницательности.
Эту разницу в отношениях можно увидеть по финалу переговоров, которые тогда вел Столыпин. Он должен был констатировать их неуспех. Но от будущего он не отрекался, кораблей не сжигал и никого не винил. 26 июля «правительственное сообщение» объяснило, что «желание правительства привлечь на министерские места общественных деятелей… встретило затруднение вне доброй воли правительства и самих общественных деятелей». Можно ли было мягче сказать? Но «общественные деятели» нашли нужным возразить и на это. И в настоящей войне ответственность за войну все всегда возлагают на противную сторону. Письмом в редакцию «Нового времени» Шипов, Львов и Гейден объяснили, что сообщение было неверно: «поставленные ими условия не были приняты Председателем Совета министров». Как они сами положение тогда себе представляли, можно видеть по их собственным отзывам. Вот что в своей книге об этом, на с. 173, пишет Шипов: «Гр. Гейден, – говорит он, – со свойственной ему меткостью выражений и юмором сказал: «Очевидно, нас с вами приглашают на роли наемных детей при дамах легкого поведения». Как говорят французы, гр. Гейден «пе croyait pas si bien dire»[29]29
(«Сам не поверил, что так хорошо сказал» (фр.). (Здесь и далее звездочкой (отмечены примеч. ред.)
[Закрыть]. Его слова не только с юмором, но очень метко характеризуют отношение нашей общественности к существенной власти. Общественность глядела на ее представителей, как на тех дам «легкого поведения», общение с которыми могло ее «компрометировать». Дело было не в их личностях, даже не в их политическом направлении, а в самой «профессии», как это и бывает с «дамами легкого поведения». Сами по себе и личности, и взгляды не исключали сотрудничества. Ведь даже их первый контакт, тот «беспорядочный спор», о котором вспоминает Шипов, не произвел ни на кого из них впечатления безнадежного разномыслия. И Столыпин подчеркивал в ответном письме, что в программе между ними большого разногласия нет. Общественность в помощи ему отказала потому, что не хотела себя компрометировать соглашением с ним, не захотела представлять собою детей «при дамах легкого поведения». Она хотела все делать сама и одна; пользы от соглашения с прежнею властью она не понимала. Это та же идеология, которая предписывала ей требовать полновластного Учредительного собрания как Верховного суверена. Только в 1917 году она поняла, что это значило – взять все в свои руки.
* * *
Но если можно винить непримиримость нашей общественности, которая мешала соглашению с властью, то не меньшая вина остается на власти и даже на лучших ее представителях. На несчастье России, и на них тяготело наследие прошлого, т. е. того же Самодержавия. И в лагере власти был общий фронт, который шел не только против Революции, но и против либерализма, как союзника Революции. И в этом лагере не решались разъединять этого фронта, чтобы не обессилить себя перед врагом. От тех либеральных министров, с которыми сговориться о реформах было возможно, он шел до Государя, с тем его «окружением», которое не принимало конституционного строя; к нему после 1905 года примкнули и правые демагоги, вроде Союза русского народа, с подонками страны, которых они вербовали. Эти два противоположных фронта питали и укрепляли друг друга. Как либеральная общественность зависела от приверженцев «Революции», так передовые представители власти зависели от внушений, которые им давал Государь и его печальное окружение. Было безнадежной задачей примирить весь фронт «власти» с фронтом нашей «общественности». Соглашение могло состояться только при условии распадения и того и другого. Нужна была новая комбинация – renversement des alliances[30]30
Пересмотр союзнических отношений (фр.).
[Закрыть] – по французскому выражению, соглашение прежних врагов против прежних союзников. Водворение конституционного строя давало для этого и возможность и повод. Сама жизнь, т. е. опыт совместной работы должен был показать и тем и другим, где у каждого друзья и враги, где они могут вместе идти, не вспоминая недавнего прошлого. Но прошлое владело не только общественностью, но и властью. Даже лучшие ее представители не понимали, что детские болезни общественности неизбежны, но излечиваются жизнью сами собой. Они не хотели этого ждать и старались ускорить этот процесс обычными приемами старого режима, т. е. административным «воздействием». Было печально, что общественность не хотела помочь власти и разделить с ней труды и ответственность. Но никто не обязан становиться министром; разномыслие с главою правительства достаточный мотив для отказа. Столыпин был вправе не принять условий нашей общественности; но был не прав в своем отношении к тем, кто с его политикой хотел законно бороться. В этом был его грех уже против нового строя. Одно из двух: либо у нас остался прежний режим, который не допускал политических мнений и партий; тогда не могло быть ни Думы, ни выборов, ни «свободы» для населения, и «17 Октября» было бы обманом. Либо был введен представительный строй; тогда общество и отражавшее его народное представительство в своих политических взглядах должны быть свободны. Разномыслия, недопустимые в правительстве, в среде «общества» и «представительства» только желательны. Требовать от всех единомыслия, запрещать «оппозицию» сделалось позднее особенностью «революционных» правительств и «тоталитарных» режимов. Это и сблизило их с Самодержавием. Но и Столыпин, хотя и служил правовому порядку, от этой старой идеологии освободиться не смог; он не понимал желательности «оппозиции» и счел возможным бороться и с нею, а не с Революцией, полицейскими мерами.
Следы этой борьбы можно найти всюду в этот период. Так, «правительственное сообщение 18 ноября» запретило лицам, «состоящим на государственной службе, принимать участие в политических партиях, проявляющих стремление к борьбе с правительством». Это запрещение еще можно понять. Непоследовательно, конечно, предоставлять лицам, состоящим на государственной службе, право участия в выборах и не допускать для них свободы политических мнений. Здесь конфликт между «правами избирателей» и «долгом чиновника»; но он существует и в более привычных к политической жизни странах. Но Столыпин пошел дальше. Если чиновникам, покуда они состояли на государственной службе, еще можно было давать указания, как чиновникам, у Столыпина не было права мешать деятельности самих политических партий. Они стояли под защитой не только духа нового строя, но и закона. Закон 1 марта 1906 года определял, что образование обществ «не требует предварительного разрешения власти», что запретить его можно, только если цель его «угрожает общественной безопасности». Но Столыпин, тайным циркуляром 15 сентября, разъяснил губернаторам, что политическая партия может быть запрещена, «если цель ее, будучи по форме легальной, недостаточно ясна». В правительственном сообщении пояснялось, что это относится к партиям, которые «хоть и не причисляют себя к революционным, тем не менее в программе своей, и даже только в воззваниях своих вожаков (например, Выборгское воззвание) обнаруживают стремление к борьбе с правительством». Губернаторы поняли, что им хотели сказать, и оппозиционным партиям стали отказывать в регистрации. Они становились «нелегализованными». Это открывало возможность их жизни и работе мешать.
Эти насильственные меры ударили именно по либеральным партиям, т. е., прежде всего, по кадетской и по октябристской.
Ошибок кадетской партии я не скрываю, я приписываю им большую долю вины за неудачу нашего конституционного опыта. Но в 1905 году и в 1906 году ложные шаги этой партии объяснялись лихорадочным состоянием всего нашего общества. Оно было временно, как всякая лихорадка: обыватели, которые поддерживали своими голосами кадетскую партию, учились из жизни; вместе с этими уроками менялась и кадетская тактика. Кадетское настроение 2-й Думы было уже не то, которое погубило 1-ю Думу. Кадеты «прогрессивного блока» были не схожи с кадетами 3-й Гос. думы. Но кадеты выражали течение, без которого не могла удаться конституционная реформа России; они были не только издавними сторонниками новых порядков, но и противниками достижения их путем насильственных переворотов. Не они одни держались этого направления и часто напрасно враждовали со своими политическими соседями; но это было делом их и их избирателей, а не правительства. Последствия гонений на кадетскую партию оказались печальны.
Во-первых, они нарушали закон и были тем соблазнительным проявлением привычного произвола, от которого надо было излечивать нашу склонную к нему администрацию. Во-вторых, цели не достигали и ставили правительство в глупое положение. Оно не было большевистским, не шло до конца, оппозиционных партий к «стенке» не ставило. Желая показать свою силу – обнаруживало только бессилие. Оно не могло помешать кадетам ни образовать свою партию, вопреки запрещению, ни выбирать комитеты, ни иметь тайные собрания и даже съезды. В-третьих, эта политика кадетов озлобляла, подрывала веру в искренность власти, опять сближала их с революционным течением и затрудняла самой власти соглашение с ними. Так, когда, раздражив, а не уничтожив кадетскую партию во 2-й Думе, Столыпин принужден был искать соглашения с ней, это ему самому стало гораздо труднее.
Все это можно было предвидеть. Гораздо неожиданнее и любопытнее были вредные последствия этой политики для другой либеральной партии, для октябристов. Столыпин понимал, что при конституционном строе нельзя опираться только на тех, кто демонстративно этот строй отрицает, как правые. Преследуя кадетов, как оппозиционную партию, он в поучение им свою политическую ставку поставил не на правых, а на давнишних соперников кадетов, на октябристов.
Параллельная история их поучительна. Обе партии вышли из земской среды, которая, таким образом, естественно оказалась рассадником конституционалистов. В 4-й Государственной думе обе они вошли в состав «прогрессивного блока», что показало, что их сродство было сильнее вражды. При выборах в 1-ю Думу кадеты их разгромили. Им помогло революционное настроение обывателей, которые ждали от Думы чудес и потому не хотели слышать о соглашении с властью. Кадетам на выборах приходилось бороться не с октябристами, а с более левыми. В таком настроении собралась 1-я Дума. Ее неудача, благополучно совершившийся роспуск, жалкая реакция на него в виде Выборгского воззвания – кадетский авторитет поколебали. Одни разочарованные избиратели пошли еще более влево, другие же вправо. Это последнее движение и должно было быть октябристам на пользу. Поведение в Думе их представителей: гр. Гейдена, М.А. Стаховича, стоявших за либеральные реформы, но боровшихся с революционными увлечениями Думы, привлекало к октябристам внимание и сочувствие тех, кто хотел реформ, но не верил и не хотел Революции. На предстоящих выборах в новую Думу именно они могли стать представителями либеральной общественности, занять против правых ту позицию, которую на первых выборах против более левых занимали кадеты. Можно было подумать, что к этому они и стремились. Когда Столыпин приглашал их в свой кабинет, они, соглашаясь не бороться с правительством, в кабинет все-таки не пошли, желая сохранить свою независимость. Это могло быть разумно. Но эта позиция была разрушена тактикой самого же Столыпина.
Когда он начал преследовать «оппозиционные» партии, в том числе и кадетов, он октябристам открыто стал «покровительствовать». Уже таким отношением он кадетам делал рекламу, а октябристов компрометировал. Но еще хуже было то, что октябристы, как все, кто покровительство принимает, были принуждены за него и платить. При своем возникновении они были оппозиционной партией, защищали Манифест против правых. На первом партийном съезде 1905 года они выступили горячими обличителями Витте, вернее, его министра внутренних дел – Дурново. На этой позиции либерализма они стояли и в 1-й Гос. думе, расходясь с ней только в области тактики. Чтобы не потерять завоеванного ими престижа, они должны были не спускать своего либерального знамени, продолжать защищать Манифест против тех, кто его отрицал или компрометировал. Это было их миссией и было бы настоящей поддержкой Столыпина против его наиболее опасных противников справа. Вместо этого они не только стали его поддерживать в его борьбе с кадетами, но и вообще оправдывать все, что он делал. Даже когда он был вынужден Государем издать свой закон о «военно-полевых судах», А.Н. Гучков выступил с защитой его, хотя понимал ненавистность его для всего населения и противоречащий понятию «права» характер его. С тех пор октябризм изменил свой политический облик. Основатели партии, представители земского либерализма: Шипов, М. Стахович, гр. Гейден – демонстративно вышли из партии, чтобы позднее основать благонамеренную, но лишенную всякого влияния партию «Мирного Обновления». Среди октябристской партии еще осталось немало почтенных имен, но средний облик ее изменился. Ряды ее стали пополняться людьми, к Манифесту равнодушными, осуждавшими политику не только Гучкова, но и Столыпина. Они шли в партию не по сочувствию к ее либеральной программе, а потому, что она была более приличной фирмой, чем правые. Октябристская партия разбухала, но престиж свой теряла; был нужен переворот 3 июня, чтобы она могла победить при выборах в 3-ю Думу. И там в конце концов она раскололась.









































