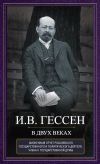Текст книги "Первая Государственная дума. От самодержавия к парламентской монархии. 27 апреля – 8 июля 1906 г."
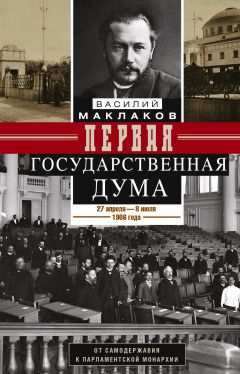
Автор книги: Василий Маклаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но, какие бы цели ни преследовал адрес, успеха он не достиг. Дума провалилась в этой задаче не только тогда, когда она впоследствии принялась возвещенные законы писать, но в самой программе, которую в адресе она изложила. А изложить, казалось, было нетрудно. Милюков правильно замечал, что «думская программа реформ совсем не нова. Все это уже несколько лет говорится и утверждается со всякой общественной трибуны». В 1904 году все это было уже официальной программой. Можно было изложить ее наиболее полно и ясно или связать ее части внутренней мыслью. Ничего этого сделано не было. Думская программа реформ – логически несвязанный перечень общих мест, перерываемый экскурсиями в другие вопросы. С чисто литературной стороны она невразумительна. Она проигрывает в сравнении с программой ноябрьского земского съезда 1904 года. Ее и невозможно «немедленно осуществить», как это думала «Речь». Что, например, в ней означают слова «Дума обратит внимание на целесообразное употребление государственных средств»? Или: «Дума озаботится укреплением в армии и флоте начал справедливости и права»? Что значит «коренное преобразование местного управления»? На каких началах оно предположено? В чем состоят «справедливые нужды народностей»? Адрес обо всем этом не говорит ничего конкретного. Как это ни парадоксально, министерская декларация, прочитанная позднее перед Думой 13 мая, оказалась много яснее, а главное – содержательнее, чем деловая часть думского адреса.
Возьмем самый характерный пример – крестьянский вопрос. Все программы последних годов выделяли его на особое место, как главный, цельный и самостоятельный. Все поняли, что на нем держится вся Россия и что разрешение его нельзя откладывать. Но что о нем Дума сказала? «Выяснение нужд сельского населения и принятие соответствующих законодательных мер составит ближайшую задачу Государственной думы». Это, и все. И это «практическая программа, которую можно немедленно осуществить»? Не есть ли это testimonium paupertatis Государственной думы в этой важнейшей области дела? И любопытное совпадение. Ведь эти слова как раз то, к чему Думу призывала «тронная речь»… В ней говорилось: «Вы отдадите все свои силы для выяснения нужд столь близкого моему сердцу крестьянства». Но тронная речь эти общие слова и не выдает за программу. А Дума, которая требует немедленного проведения определенных конституционных реформ, собирается только «выяснить нужды крестьянства». Уж лучше бы она об этом молчала: правительство в своей декларации оказалось много выше ее.
Почему же плод работы «общественной элиты», людей исключительных дарований и преданных делу, оказался таким плохим и неполным? Объяснение этому надо искать не только в понижающем влиянии коллективов. Для этого были еще две специальные причины.
Во-первых, давнишнее антиконституционное решение кадетов, что «органической работой» Дума не должна заниматься, пока она конституцию не изменит. Во всей полноте это решение, конечно, не исполнялось, но иногда о нем вспоминали. Винавер приводит характерную сцену[44]44
Винавер. Конфликты. С. 41, 42.
[Закрыть]. В Комиссии по адресу депутат Бондарев предложил в адрес включить указание, что Государственная дума «позаботится и о народном просвещении». Что могло быть бесспорнее и несомненнее? Это было издавна излюбленной заботой либерализма, предметом гордости русского земства. Теперь эту программу можно было развернуть в государственном масштабе. Возражений ждать не приходилось. О просвещении дважды упомянула сама тронная речь. И однако кадеты стали возражать. «Мы, – рассказывает Винавер, – доказывали, что предложение Бондарева нарушает самым резким образом лозунг оппозиции, исповедуемый особенно ортодоксально людьми, левее нас стоящими. Мы указывали, что эта тема будет с восторгом принята правительством, которое подскажет еще много однородных политически безобидных тем для дружной работы с народным представительством». Это ценное признание. Кадеты боялись, что правительство окажется с ним согласно, и потому не хотели этого проекта (!). И это им не помешало впоследствии за отсутствие соглашения винить само же правительство. Интересно и то, что эта тактика кадетских лидеров не была ни понята, ни поддержана здравым смыслом «обывательской массы». Попытка Бондарева вопреки протесту кадетов была принята трудовиками и правыми. Политиканство кадетов поддержано не было.
Была другая причина, обесцветившая деловую часть адреса. Кадетские лидеры настаивали на «единогласном» принятии адреса. Локоть правильно замечал, что единогласие ни для чего не было нужно. Но важнее, что оно искренно, быть не могло. Дума была единодушна в отрицательном отношении к старому, но в положительных программах между собой расходилась. Единогласие поэтому могло быть куплено только двусмысленностью, недоговоренностью, бессодержательностью. Для кадетской партии достижение единогласия этой ценой было привычной партийной тактикой. Она определяла линию партии. Теперь эта чисто кадетская тактика была применена к целой Думе. Даром это пройти не могло. Отмечу два характерных примера.
Кадетская партия имела в программе четыреххвостку, распространяя ее и на женщин. Адрес начинал серию реформ «избирательным правом». В прениях выяснилось, что четыреххвостка вовсе не была в стране таким общепризнанным лозунгом, каким его выставляли кадеты. Они сами принуждены были это признать. Были возражения и против прямых выборов, и особенно против участия женщин. Так, Д.И. Шаховской, сам сторонник четыреххвостки, свидетельствовал, что, если бы вопрос о «прямых выборах» был поставлен на голосование нашего крестьянства, то, конечно, по недоразумению, но ответ, вероятно, получился бы отрицательный». Чтобы не расколоться, Дума остановилась на формуле «общее избирательное право», которая была и в Манифесте 17 октября. Что же означало хваленое единодушие Думы? Какой она в результате примет закон? Левые партии выводили отсюда, что кадеты отказались от четыреххвостки, «изменили народному делу». Вот к чему вели кадетские настояния на единогласном решении.
В этом недоразумении ничего трагичного не было. Хуже вышло с аграрным вопросом.
Взгляды членов Думы и партий на аграрный вопрос были вполне разнородны. Это доказало внесение трех различных аграрных проектов, подтвердили и разногласия в аграрной комиссии. Прийти к единодушию и даже к прочному большинству можно было бы только в результате долгой работы и взаимных уступок. Но авторы адреса требовали немедленного и единогласного постановления. Для искусственного и обманчивого его достижения слова адреса получили такой загадочный вид: «Трудовое крестьянство с нетерпением ждет удовлетворения своей острой земельной нужды, и первая русская Государственная дума не исполнила бы своего долга, если бы она не выработала закона для удовлетворения этой насущной потребности, путем обращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частновладельческих».
Сколько ни вчитываться в эти слова, они, взятые сами по себе, могут значить только одно: «Дума решила принудительно без всяких условий отчуждать все частные земли». Стоило бы в адрес вставить слово «а при некоторых условиях и принудительное отчуждение частных земель», как это недоразумение было бы устранено. С такой формулой все бы могли согласиться. Дело было бы тогда только в «этих условиях». Но все поправки в этом смысле были Думой отвергнуты, и сохранена двусмысленная редакция адреса. Она была изложена так, что противополагалось не крупное землевладение мелкому, что речь шла не о максимуме земельной собственности, а вопрос ставился о самом принципе частного владения землей; обещано было отчуждение частновладельческих земель без каких бы то ни было оговорок. По существу, Дума хотела вовсе не этого. Но во имя единогласия с левыми она это сказала. И здесь Дума играла с огнем. Адрес ее к Государю казался народу актом более важным, чем опубликованные программы политических партий и митинговое красноречие. Для несведущих лиц, да и для многих членов самой Думы одно высказанное ею желание принималось уже за закон. Нашлись бы люди, которые бы сумели это желание так толковать. Тогда уже с благословения Думы пошли бы «иллюминации»; а на них, в свою очередь, стали бы опираться ораторы, чтобы доказывать необходимость скорейшего отчуждения. Понимала ли Дума, что этой своей единогласно принятой провокаторской формулой она сама толкнула правительство на то «резкое возражение» в его декларации, которое ее потом привело в негодование? Кто же в этом вопросе оказался «агрессором»?
Эти недоразумения были неизбежны, если требовать единогласия. Но вслед за Локтем можно спросить себя: зачем оно было нужно, если оно покупалось ценой недомолвок и лжи? Кого здесь обманывали? Единогласие все равно разлетелось бы в прах, когда от декларации перешли бы к работе. Плохим предзнаменованием для успешности думских работ было то, что кадеты знали, что будет именно так, и все-таки предпочитали реальным результатам «красивые жесты». Фиктивное единодушие давало возможность писать, будто принятие адреса есть «символ единства русского оппозиционного движения» («Речь», 6 мая) и что он «указывает на огромную силу думского большинства». Все это литература, а не политика; для судеб либерализма было гибельно, что реальную политику смешивали тогда с литературой и с приемами партийной публицистики.
Глава V
Думские пожелания в адрес
Адрес мог обойтись без изложения программы думских работ; включение ее было неудачною мыслью, а способ ее исполнения искусству Думы чести не сделал. Понятнее было другое намерение: высказать Государю пожелания Думы, исполнение которых от нее самой не зависело. Как сказал Милюков («Речь», 3 мая), «для выражения пожеланий от власти – ответ на тронную речь представлял единственный удобный случай».
На особом месте среди них стояли те, которые имели целью изменить конституцию. В этом желании, конечно, ничего незаконного не было. Кроме статей, которые вошли в Основные законы, конституция не была забронирована против думской инициативы. Путь для ее пересмотра был во многом открыт. Любопытно, что к этому нормальному пути Дума почти не прибегала. 23 мая в нее был внесен кадетский законопроект об «изменении порядка рассмотрения законодательных дел»; как мы увидим, он был совсем неудачен. Он оказался единственным; много раз говорили о неудачной постановке «запросов», но никто законопроекта о ее изменении не вносил, хотя это было не трудно.
Такое отношение было для Думы характерно; все это казалось для нее слишком мелкой работой. Зато она сразу взялась за капитальные изменения самых основ конституции. Кадеты усмотрели в ней три основных, главных дефекта. Милюков их называл позднее тремя «замками». Не сняв предварительно этих замков, будто бы ничего сделать было нельзя; необходимо было сначала ввести четыреххвостку, уничтожить вторую палату и установить «ответственность» министерства перед Думою. Только тогда была бы у нас «конституция». Было решено, не откладывая, заявить это в адрес.
Позволительно усомниться в необходимости для тогдашней России немедленного проведения этих «конституционных» реформ. Но в это я сейчас не вхожу. Остановлюсь на более мелком вопросе: если даже считать это желательным, как было вернее к такому результату идти?
Никто не мог воображать, чтобы историческая власть, согласившись на конституцию, тем самым признала пользу и этих радикальных реформ. Тогда бы ведь и Основные законы были другие; они осуществляли бы полное народоправство, а не строили порядок на идее сотрудничества и компромисса исторической власти с зрелой русской общественностью. В этом пункте, следовательно, с властью предстояла борьба.
Но как вести эту борьбу? Если революционным путем, то, конечно, все очень просто; нужно власть добивать, не боясь Революции, стремиться к образованию революционной власти и к созванию Учредилки. Там все эти вопросы решатся. Это был один путь.
Можно было его не хотеть. Власть была еще очень сильна, имела опору в стране и могла с открытой Революцией справиться. Наконец, позволительно было понимать вред Революции и желать до нее не доводить. Тогда, добиваясь конституционных реформ, Дума должна была идти к ним конституционным путем.
Этот путь для нее не был вовсе закрыт, даже в области тех трех «замков», о которых говорил Милюков.
Не стоит останавливаться на первом замке, на четыреххвостке; избирательное право не было забронировано Основными законами. Дума имела полное право внести новый избирательный законопроект, что она и сделала, объявив об этом в первых строках своего адреса. Но и для других двух «замков» она была совсем не бессильна.
Правда, полное уничтожение верхней палаты было для нее невозможно. Существование второй палаты и объем ее прав были обеспечены Основными законами. Но ведь и в самой Думе было много сторонников двухпалатной системы. Дума была единодушна в осуждении только состава верхней палаты. Изменить же его было возможно. Он был установлен не Основными законами, а ст. 12 Учр. Государственного совета. По этой статье не меньше половины членов Государственного совета были выборными от привилегированных классов. Дума могла взять на себя инициативу изменения этого; какое бы то ни было преимущество высших классов она могла устранить. Ей и надлежало, очевидно, это попробовать ранее обращения к Государю. Если бы вопрос ставить так, то одновременно с входившими в компетенцию Думы вопросом о составе верхней палаты был бы поставлен если не на решение, то на законное обсуждение более общий вопрос о значении и необходимости этой палаты. Интересно при этом, что, вводя в нее назначенных членов, Основные законы постановили только одно: что число назначенных не могло превышать числа выбранных (ст. 100 Основных законов). Не было, значит, препятствий, чтобы число назначенных было гораздо менее выбранных. Так в порядке думской инициативы, переделав ст. 12–17 Учреждения Государственного совета, можно было состав его изменить радикально и сделать безвредным.
Конечно, если бы Дума приняла подобный законопроект, было бы нелегко получить его одобрение самою второй палатой. Нелегко, но не невозможно; об этом я говорил в первой книге и не буду повторять своих доводов. Могу прибавить одно: ведь если бы для того, чтобы сделать удовольствие Думе, Государь взял на себя инициативу этой реформы, то и тогда было бы нужно согласие верхней палаты. Нельзя же думать, чтобы Дума в своем первом адресе уже толкала Государя на государственный переворот. Какая же это была бы тогда «конституция»?
Остается третий замок: парламентаризм. Но он, т. е. политическая ответственность министерства перед парламентом, устанавливается не законом, а практикой. Министерство формально всегда остается ответственным перед Главой государства, которое его назначает; это не мешает ему просить об отставке, если доверие парламента оно потеряет. Это правило невозможно изложить в форме закона. Этого и не было нужно. Парламентаризм мог легко установиться у нас без изменения текста Основных законов. Чтобы этому помочь, может быть было полезно только изменить некоторые статьи «Положения о Думе», расширить право запроса, изменить ст. 60, которая устанавливала для него санкцию. Но эти статьи забронированы не были. Небольшое изменение их могло бы облегчить введение парламентарных обычаев. Но все-таки парламентаризм стал бы тогда вводиться только фактически по мере роста авторитета Думы в стране и в глазах Государя. В 1915 году, когда авторитет Думы стоял высоко и в патриотическом настроении ее сомнения не было, Государь для ее успокоения был должен пожертвовать четырьмя министрами, хотя к ним своего отношения не переменил. Парламентаризм добывается завоеванием доверия к серьезности и лояльности Думы, а не тем, что она сама его от верховной власти потребует.
Вот путь, которым можно было идти вместо того, чтобы делать шаг чрезвычайный и подсказывать или намекать в адресе, чтобы Государь взял на себя инициативу этих реформ. У этого пути, избранного Думой, были и другие невыгоды.
У нового строя были сильные враги и мало защитников. Народная масса себе еще не отдавала отчета, в чем «конституция» заключается. Было неразумною тактикой начинать свою деятельность тем, чтобы конституцию осуждать и настаивать на ее изменении. Это значило играть в руки тем, кто уверял, что общественность все равно ничем успокоить нельзя. Каждый день существования нового строя его бы укреплял; «давность» – фактор не только частного права, но и государственной прочности. Тот жест, который делала Дума, указывая в адресе на необходимость немедленного изменения конституции, был не только не нужен, но еще нежелателен.
А главное, чтобы, делая его, иметь право рассчитывать на успех, было необходимо не отрицать вообще конституции. Только признав обязательность конституции, показав к ней лояльность, можно было добиваться ее изменения. Чем радикальнее должны были быть ее улучшения, тем более должна была быть очевидна лояльность Думы к самой основе ее. Если считать, что вся конституция незаконна, для общественности необязательна, то о каких конституционных путях для ее изменения могла быть речь? Вопрос переносился бы тогда в революционную плоскость, на столкновение «воли Государя» с «волей народа», на состязание материальных сил, которые нашлись бы в распоряжении той и другой стороны. Так ставить вопрос значило не только провоцировать власть на сопротивление, но не позволять ей уступить.
И если бы Дума задалась сознательной целью желательные ей конституционные реформы так мотивировать, чтобы Государь не мог на них согласиться, она не могла поступить бы иначе, чем поступила тогда.
Возьмем вопрос о второй палате.
Сам по себе этот вопрос не принципиальный, а чисто практический; теория единой палаты не устояла перед уроками опыта; пользу второй палаты признают и демократии. Но можно было пытаться обосновать желательность единой палаты практическими доводами. Например, тронная речь возвещала «обновление» русской земли; а Государственный совет был специально составлен из представителей «старого строя», в лице «назначенных» членов и представителей «привилегированных высших классов» по выборам. Выходило противоречие. Такой довод можно оспаривать, но он никого не оскорблял и не пугал.
Между исторической властью и Думой, как я указывал раньше, было идеологическое разногласие. Государь считал себя источником власти; он верил, что добровольно сам свою власть ограничил на пользу народа. Общественность же находила, что источник власти есть «воля народа», которая выражается в представительстве; Монарх поэтому должен ей подчиняться. Примирить это разномыслие было нельзя; но и касаться его было не нужно. Это спор академический; права обеих сторон были определены конституцией, независимо от теоретических построений. Сталкивать по этому поводу различные идеологии было вредно для дела.
А между тем адрес именно так мотивировал необходимость упразднения верхней палаты.
«Для плодотворной деятельности Государственной думы необходимо определенное проведение основного начала истинного народного представительства, состоящего в том, что только единение Монарха с народом является источником законодательной власти. Поэтому все средостения между верховной властью с народом должны быть устранены… Государственная дума считает долгом совести заявить Вашему Императорскому Величеству от имени народа, что весь народ только тогда с истинною силой и воодушевлением, с истинной верой в близкое преуспеяние родины будет выполнять творческое дело обновления жизни, когда между ним и престолом не будет стоять Государственный совет, составленный из назначенных сановников и выборных от высших классов населения»…
Этими словами вопрос был всецело поставлен на почву чистой идеологии, вне времени и пространства; уничтожения Государственного совета требовало будто бы «основное начало истинного народного представительства». Был ли такой аргумент убедителен? Допустив существование подобного «основного начала», и палату лордов в Англии пришлось бы признать недопустимым «средостением». Компетентности Думы можно верить, когда она сообщает о нуждах России. Но ей ли учить научным теориям? Она сама находилась еще в младенческом возрасте. А затем и наука признает только относительную ценность государственных форм, а не абсолютную их пригодность для всех.
П что это за «научное» утверждение, будто источником законодательной власти является «единение Монарха с народом»? Позволителен ли подобный термин в «науке»? Отношение власти и представительства можно определить, оставаясь на точных основаниях положительной конституции; в ней оно ясно изложено и недомолвкам нет места. Но если признавать какие-то «основные начала» народного представительства, «природу его», по несчастному выражению председателя Думы, то как на языке подобных теорий понимать «единение»? Как поступать, если Монарх и представительство между собой не согласны? Так кадеты контрабандой проводили учение, что Монарх должен подчиняться народному представительству, как «воле народа». Можно ли было толковать единение иначе? Если, по мнению кадетов, Монарх не имел права сам даже октроировать конституцию, ибо это будто бы права народа нарушило, то как мог Монарх уже высказанной воле народа противоречить? Кого рассчитывали здесь обмануть благовидным термином «единение»?
А какие мотивы адрес нашел, чтобы ввести парламентаризм? Вот что в нем было изложено:
«Только перенесение ответственности перед народом на министерство может укоренить в умах мысль о полной безответственности Монарха; только министерство, пользующееся доверием большинства Думы, может укрепить доверие к правительству, и лишь при таком доверии возможна спокойная и правильная работа Государственной думы».
Повторяется неуместный довод, приведенный по поводу верхней палаты; иначе-де Дума не может работать спокойно и правильно. Но в этой тираде есть другой мотив. Только ответственность министерства перед Думой, сказано в адресе, может укоренить мысль о безответственности самого Государя. О какой безответственности здесь говорилось? Ответственности Государя перед государственными установлениями ни старый, ни новый порядок не знал. А ответственности перед совестью, историей, Богом Государи с себя снять не могли. Ответственны они оставались и за пользование прежнею Самодержавною властью, и за ограничение ее, и за отречение от престола. Такая ответственность удел тех, кто стал Монархом «Божией милостью». Убедить Государя уступить свою власть можно было, только доказав ему, что такая уступка полезна России, а не соблазняя его ненужною для него безответственностью.
Такой аргумент его оскорблял; ответственности он не бежал; даже ограничивая свою власть, он этим не дезертировал.
Можно поставить вопрос: зачем Дума так поступала? Свои пожелания она ухитрилась формулировать так, что, если бы верховная власть и была склонна их исполнить, она не могла бы этого сделать иначе, как отказавшись от всей своей традиционной идеологии. Приходится заключить, что адрес не преследовал практических целей. Его задачей было как будто явочным порядком навязывать свою идеологию Государю. И потому он вызывал на отпор.
* * *
Конституционные пожелания Думы в адрес занимали особое место. Они все-таки относились к ее компетенции, как законодательного установления. Только «инициатива» их была для Думы закрыта. Поэтому, несмотря на неудачную форму, Дума оставалась в пределах своего законного права, когда объясняла, как она смотрит на эти вопросы.
Но Дума высказала суждения и о том, что входило целиком в «прерогативы Монарха». Это область управления, как то снятие исключительных положений, обновление администрации, приостановка исполнения смертных приговоров и, наконец, центральный пункт – вопрос об амнистии. Дума могла говорить и об этом и высказывать свои пожелания. Но должна была так это делать, чтобы своих прав не превышать и прав Монарха не умалять. Ведь сам председатель в первом слове обещал «подобающее уважение» к «прерогативам Монарха».
Для того чтобы видеть, как Дума соблюдала это условие, возьмем главный вопрос об амнистии.
Кадетами был давно заготовлен и даже опубликован «законопроект» об амнистии. Но после издания Основных законов амнистия была от законодательных учреждений изъята. Кадеты этому подчинились. В отличие от 2-й Государственной думы, в которую, несмотря на это, подобный законопроект был все же внесен левыми партиями, в 1-й Думе на этом никто не настаивал. Амнистию не забыли, но решили идти к ней иначе.
Вся Дума хотела амнистии, хотя было преувеличением утверждать, будто амнистия была общим народным желанием. Левые партии сознавали это прекрасно. Когда в заседании 30 апреля по поводу амнистии было внесено одно предложение, грозившее столкновением с властью, кадетские ораторы стали доказывать, что «амнистия» для конфликта неблагодарная почва. Народ-де ее не поймет. К этому мнению присоединились и трудовики. Предложение было отвергнуто. Это не помешало, однако, в адресе написать, будто амнистия волнует душу всего народа, будто она «требование народной совести».
26 апреля на заседании «оппозиции» было решено, что об амнистии будет сказано в адресе. Но «пресса» и «улица» были нетерпеливее; дожидаться адреса они не хотели. Чтобы открыть клапан страстям, придумали символическую речь Петрункевича при открытии Думы. Это своей цели достигло. Но назавтра волнение возобновилось. Говорить захотелось другим. Решили открыть другой предохранительный клапан – допустить «обмен мнений» по поводу предложения Родичева – «избрать комиссию для составления адреса и обязать эту комиссию непременно включить в адрес пункт об амнистии». Это остроумное предложение[45]45
Это предложение принадлежало Винаверу. Шершеневич в восторге бегал по кулуарам, с просиявшими глазами, потрясал Винаверу руку и восклицал: «Гениально, гениально. Вы нас спасли»… Вот к чему сводилась кадетская роль в Государственной думе. Кадеты стоили большего (Винавер. Недавнее. С. 191).
[Закрыть] давало возможность «поговорить» об амнистии, оставаясь в законном русле. Речи были не нужны, раз все были согласны; но беспредметное красноречие было все-таки меньшее зло. После нескольких ораторских излияний предложение было принято. Но, зная подкладку, все же забавно читать слова Родичева, который после голосования предложил прервать заседание. «Разойдемся, господа, – сказал он, под впечатлением того, что мы сделали, – ине будем его расхолаживать». Что же, в сущности, было сделано?
На следующий же день явились новые предложения. «Рабочий» депутат Чуриков предложил Думе, не ожидая адреса, обратиться к Государю с «просьбой» об амнистии. Это предложение поддержал Ковалевский. Он формулировал его в таких выражениях: «Довести до сведения Государя Императора о единогласном ходатайстве Думы о даровании Им амнистии политическим заключенным». Петрункевич на такое предложение возмутился; оно, по его словам, превращало Думу из «законодательного учреждения в учреждение для подачи ходатайств»… «Мы не желаем быть ходатаями, – говорил он, – мы хотим быть законодателями». Винавер напоминает в «Конфликтах», что «партия народной свободы «гордым окриком» из уст Петрункевича отвергла мысль Ковалевского».
«Гордый окрик» Петрункевича был только бессодержательной фразой. Как «законодательное учреждение» Дума никакого отношения к амнистии не имела. Как «законодателям» депутатам пришлось бы молчать. «Обращение» к Государю с амнистией, во всяком случае, не было законодательным актом. И здесь возникал интересный конституционный вопрос: что же юридически представляло из себя это обращение Думы?
Думу ничто не заставляло излагать свой взгляд на амнистию. Она была исключительной прерогативой Монарха. Но если Дума хотела ее добиться, то, оставаясь в пределах существовавшей тогда конституции, она могла о ней только «просить». Хотелось бы знать: почему это для нее могло быть унизительно, раз это от нее самой не зависело? Чем могла ее такая просьба унизить? Печально признать, что это боязнь унижения – взгляд parvenu[46]46
Выскочка (фр.).
[Закрыть], который воображает, что он может только приказывать. С каким подчеркнутым достоинством Дума могла бы просить, и как тогда в этой просьбе Государю было бы трудно ей отказать.
Но что могла сделать Дума, если «просить» она считала для себя унизительным и предпочитала спасению осужденных соблюдение своего самолюбия? Отдельные ораторы не затруднились. Амнистию, говорили они, надо требовать[47]47
По поводу пристрастия к слову «требовать» привожу воспоминание. Когда по первой избирательной курии Москвы место октябристов было отбито кадетом. Н.Н. Щепкиным, кадеты были очень горды и, конечно, имели на то основание. По этому поводу был в Художественном клубе банкет. Упоенный успехом Н.Н. Щепкин воскликнул, говоря о предстоящих работах в Государственной думе: «Избранник 1-й курии не будет просить, он будет требовать». Эти слова покрылись бурными аплодисментами зала. Такое значение имеет в собрании громкое слово. В чем. сила слова «требовать», если подкрепить его нечем? Я запомнил это еще потому, что «демократ» Щепкин в собрании демократической партии придавал себе особенное значение тем, что он представлял первую курию, т. е. домовладельцев. В глазах кадетов у них оказалось больше прав и авторитета, чем у демократических квартирантов. Такова сила «слова» над разумом.
[Закрыть]. Вот сценка заседания 30 апреля:
«Священник Трасун. Я присоединяюсь к мнению члена Думы, который до меня говорил (это был Шершеневич. – В. М.); я того же мнения, что мы можем потребовать амнистии и должны ее требовать, но делать это так круто…
Председатель. Нельзя ли избежать слова «требовать». Я нахожу его в данном вопросе неподходящим.
Голоса. Почему? Требовать. Именно требовать. (Аплодисменты.)»
Понятно желание председателя не раздувать инцидента, особенно ввиду сочувственной оратору реакции части Государственной думы. Он потому и не разъяснил, что слово «требовать» не только «неподходящее», но и незаконное. Муромцев хотел, чтобы инцидент прошел возможно более незаметно. Когда гр. Гейден запротестовал против выражения «требовать», настаивая на необходимости «уважать чужие права», Муромцев определенно, хотя не вполне согласно с действительностью, объяснил, будто «вопрос о требовании уже отклонен заявлением председателя». Действительно, хотя это выражение «требовать» много раз повторялось в речах, в адрес оно не попало и не голосовалось.
Что же могла Дума делать, если она не могла требовать и не хотела просить?[48]48
Настроение теперь переменилось. В своих «Воспоминаниях» Милюкову («Русские записки», июль) было нетрудно сказать, что в адрес «входила адресованная Царю просьба о полной амнистии». Но это неточно. Слова «просьба», «просить» были тогда очень старательно устранены и ни разу не упоминались.
[Закрыть] Кадеты были недаром мастера на компромиссные формулы. Милюков ее изобрел. «Адрес, – говорил он в «Речи» 3 мая, – выражает те «ожидания», которые Дума возлагает на власть». Для такого опытного писателя, как Милюков, подобный оборот речи – «возлагать на власть ожидания» – свидетельствует о замешательстве. Оно понятно. Если Дума конституцию соблюдает, об амнистии она может только просить. Если она «суверенное представительство», выражающее верховную волю народа, она амнистию «объявляет». Уделом кадетов было сидеть между двух стульев, и Дума сделала нечто промежуточное и даже неграмотное: возложила на власть ожидания.
Допустим, что самое «слово» в адресе можно было бы и обойти. Я знал семью, где дети не хотели называть мачеху матерью, а называть ее по имени и отчеству им запрещали; в результате ее не называли никак. В адресе было важно не слово, а постановка вопроса. Дума его поставила так, что сделала амнистию «невозможной».
Амнистия нормально есть акт государственной власти по отношению к тем, кого ранее эта власть осудила, т. е. акт победителей к побежденным. Она – признак успокоения; это освобождение пленных при заключении мира. Для нее могут быть различные поводы; давность, которая предполагает забвение, наступившее успокоение, перемена политики, как это было при амнистии 21 октября 1905 года. Для амнистии в 1906 году могли быть те же мотивы. Начиналась новая жизнь, которая означала окончание прежней войны. Слова тронной речи: «Да знаменуется день сей отныне днем обновления нравственного облика земли русской» – давали повод к амнистии.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?