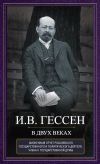Текст книги "Первая Государственная дума. От самодержавия к парламентской монархии. 27 апреля – 8 июля 1906 г."
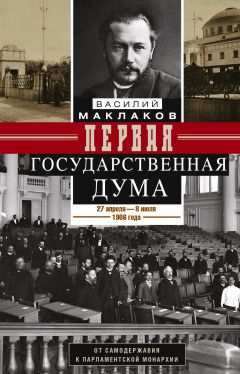
Автор книги: Василий Маклаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но бывают амнистии другого порядка; такова амнистия 1917 года. Создается новая власть. Она не прощает своих прежних врагов, но роли меняются. Осужденные при предыдущем режиме теперь победители. Если им даже как будто объявляют «амнистию», как это сделало Временное правительство, то это только за неимением более подходящего слова. Неизвестные люди еще идут в общей массе под флагом амнистии; известные же без всякой амнистии возвращаются с торжеством, как победители. Этого мало. Они сами начинают судить прежних противников. В 1917 году одновременно с этой амнистией был Указ Временного правительства об учреждении Верховной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц.
О какой же амнистии можно было говорить в апреле 1906 года, когда она была прерогативой прежнего Монарха, носителя исторической власти, именем которой были осуждены те, кого надо было теперь амнистировать? Для успеха амнистии должно было быть показано ясно, что прежняя война окончилась с объявлением конституции, что действительно началось «обновление русской земли». Амнистию можно было только так представлять Государю.
Включение амнистии в «вызывающий» адрес уже само по себе было для амнистии вредно. Но к несчастью, при принятии адреса обнаружилось ясно, что Дума глядела на амнистию так же, как смотрели на нее в 1917 году. Дума не просила за виновных, она освобождала своих, потому что она победила.
Такая острая постановка вопроса возникла не сразу. Когда 29 апреля начались прения об амнистии, Родичев сначала дал им верную ноту. «Да не будет сомнения в значении этой меры, – говорил он. – Кто думает, что амнистия дает санкцию преступлению, тот ошибается… Если вы желаете уничтожить ту ненависть, которая в настоящее время горит ярким пламенем с той и другой стороны, – возьмите на себя почин и щедрой рукой дайте всепрощение. Это – акт высшей политической мудрости. Когда страна охвачена порывом обновления, когда страна жаждет успокоиться – прошлое должно быть стерто начисто». Родичев по характеру своему не умел быть тактиком; он всегда – сама искренность, даже когда себе противоречит. Он верно почувствовал, что в данной политической обстановке только так и можно было ставить вопрос об амнистии. Но за ним говорили люди, настроенные по другому камертону. Трудовик Аникин, признав речь Родичева блестящей, во всем ее отрицал: «Вы слышали призыв к милосердию, я буду говорить о справедливости. Здесь говорили о том, что нужно простить заблудших, а я скажу – нужно освободить невиновных». Демагог Аладьин пошел еще дальше: «Я обращаюсь не к вам, я знаю, что среди вас не найдется ни одного, который осмелился бы подумать о том, что мы не должны дать так называемой амнистии. Я обращаюсь не к вам, а к тем, у кого есть еще время хоть на один момент понять, с кем они имеют дело и с кем они встретились лицом к лицу. За нами страна – и город, и деревня стоят за нами. Наши братья в тюрьмах, ссылке, на каторге могут быть уверены, что мы сами возьмем их оттуда; а если нет…
Голоса. Довольно.
Аладьин. Но зато…
Голоса. Довольно… продолжайте.
Аладьин. Зато мы предоставляем последний случай, последнюю возможность понять нас и примирить нас актом, который ускорит появление наших братьев в нашей собственной среде. Я обращаюсь к тому, кто может, с простыми ясными словами; пощадите нашу страну, возьмите дело в свои руки и не заставьте нас взять его в свои руки».
Не следует судить о Думе по отдельным речам, тем более что эта речь некоторые протесты и вызвала. Но бездействие председателя производило странное впечатление. Молчание его на выходку и угрозу Аладьина могло показаться симптоматичным. Но это было лишь проявлением основного недостатка Муромцева; его ненаходчивости, неуменья реагировать быстро. Его вечная торжественность этому недостатку способствовала. Но впечатление от этого создавалось плохое.
Не будем о Думе судить по речам, а по ее постановлениям; они выражались не только принятием, но и отклонением предложений.
Для понимания того смысла амнистии, который Дума ей придавала, было знаменательно то, что аналогично с 1917 годом требование освободить осужденных сопровождалось другим требованием – суда над властями. Оно было заявлено в первой же речи по поводу адреса, произнесенной кадетом Миклашевским. Он заявил: «С болью в сердце я почувствовал в адресе громадный пробел… мы должны указать в адресе на необходимость суда над совершавшими пережитые ужасы. Мне кажется, что Манифест 17 октября дает возможность привести эту мысль в исполнение. Искренность требует сказать, что немедленный суд необходим. (Аплодисменты.)»
Правда, в адрес это требование не было включено; но зато в адресе заключалось такое описание действий властей, что на них нельзя было смотреть иначе как на «преступление». Но этим Дума не ограничилась. 23 мая она все же постановила учредить особую Комиссию «по исследованию незакономерных действий правительственных лиц и учреждений и предоставить ей внести свои соображения об основах ее деятельности на усмотрение Государственной думы». Чтобы не оставалось сомнения в том, что комиссия должна исследовать действия властей, совершенные и до созыва Думы, при обсуждении этого проекта была подана записка 38 членов, напоминавшая о «преступлениях властей» при усмирении вооруженного восстания в Москве с заявлением, что «виновные в этом каре не подвергались» и что они «должны подвергнуться законной ответственности». Так поступают победоносные революции. К соответствующей этому пониманию амнистии Государя и приглашали.
Вот как в адресе были изложены события, последовавшие после Манифеста, т. е. после первой амнистии 21 октября 1905 года.
«Охваченная единодушным порывом, страна громко заявила, что обновление жизни возможно лишь на основе свободы, самодеятельности и участия самого народа в осуществлении власти законодательной и в контроле над властью исполнительной. Вашему Императорскому Величеству благоугодно было в Манифесте 17 октября 1906 года возвестить с высоты престола твердую решимость положить эти именно начала в основу дальнейшего устроения судеб земли русской. И весь народ единодушным кликом восторга встретил эту весть.
Однако уже первые дни свободы омрачились тяжелыми испытаниями, в которые ввергли страну те, кто, все еще преграждая народу путь к Царю и попирая все основы Высочайшего Манифеста 17 октября, покрыл страну позором бессудных казней, погромов, расстрелов и заточений».
Итак, в изложении Думы, а не только ее отдельных ораторов, после 21 октября преступники находились не в среде осужденных, а только в среде властей. При таком взгляде Думы на недавнее прошлое нельзя было говорить о примирении и успокоении, о забвении прошлого, которые одно могло бы амнистию мотивировать. Судьи и осужденные должны были просто поменяться местами; под флагом амнистии Государю предлагали стать на сторону Революции. Такое понимание амнистии было в тоне всего думского адреса.
И как будто затем, чтобы в этом не осталось сомнения, произошел эпизод с речью М. Стаховича. Либеральная пресса старалась ее замолчать или выставить в смешном и непривлекательном виде. Кто даст себе труд перечитать стенограмму 4 мая, увидит, насколько эти суждения были несправедливы, но, к сожалению, типичны для общества.
В 1-й Думе было сказано много превосходных речей. Но я не знаю другой, которая могла бы по глубине и подъему с нею сравняться. О впечатлении, которое она произвела на собрание, я слышал от людей, которые не любили Стаховича. Если бы Дума оказалась способной подняться на его тогдашнюю высоту, она бы не только получила амнистию – она оказалась бы достойной той роли, которую сыграть не сумела.
Эту речь трудно передать своими словами. Я сделаю несколько выписок. Стахович голосовал за амнистию. «Я совершенно уверен, – говорил он, – что мои избиратели одобрят меня, когда узнают, что я подал голос за полную амнистию, решенную нами еще 27 апреля (это намек на речь Петрункевича. – В. М.). Чем более я в это вдумываюсь, тем более убеждаюсь, что Дума, как народное представительство, должна была высказаться и голосовать, как голосовала, что только величавая мера, только огромный размах веры и любви может выразить чувство великого народа. Первым словом своим Дума его выразила… Почин 27 апреля был размахом Думы, как представительницы всего народа. Но почин еще не все… Кроме почина существует ответственность за последствия, и эта ответственность вся остается на Государе. Он знает, что здесь он безответственен, о чем мы вчера так усердно говорили по поводу подчинения себе министров, но он помнит, что если он здесь безответственен, то это не снимает с души его ответа там, где не мы уже, а он один ответит Богу не только за всякого замученного в застенке, но и за всякого застреленного в переулке. Поэтому я понимаю, что он задумывается и не так стремительно, как мы, движимые одним великодушием, принимаем свои решения. И еще понимаю, что надо помочь ему принять этот ответ. Надо сказать ему, что прошлая вражда была ужасна таким бесправием и долгой жестокостью, что доводила людей до забвения закона, доводила совесть до забвения жалости. Надо сказать, что эта братоубийственная война, эта взаимность жестокости – вот основа для будущей амнистии. Но цель амнистии иная: это будущий мир в России. Надо непременно досказать, что в этом Государственная дума будет своему Государю порукой и опорой. С прошлым бесправием должно сгинуть преступление как средство борьбы и спора. Больше никто не смеет тягаться кровью. Пусть отныне все живут, управляются и добиваются своего или общественного права не силой, а по закону, по обновленному русскому закону, в котором мы участники и ревнители, и по старому Закону Божию, который прогремел 4000 лет назад и сказал всем людям и навсегда: не убий».
Я не могу выписывать речь целиком. Стахович связал амнистию с предложением выразить одновременно надежду, «что с установлением конституционного строя прекратятся политические убийства и другие насильственные действия, которым Дума высказывает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и самой идеи народного представительства». Это и было знаменитое в нашей парламентской истории «осуждение террора».
Оставляю в стороне редакцию предложения, которую можно было исправить; но это была та позиция, на которой не только можно было амнистию защищать, но на которой Государю было бы трудно в ней отказать. В такой постановке она соответствовала бы призыву Государя к обновлению «нравственного облика» русской земли. Заявление Думы было бы само первым шагом на пути этого «обновления». Оно было бы новым, еще никем до тех пор не сказанным словом. Колебания Государя, о которых говорил Стахович, не были только предположением. Он мне рассказывал после, что, когда начался в Думе разговор об амнистии, Государь получал множество телеграмм с протестами и угрозами: «Неужели он допустит амнистию и помилует тех, кто убивал его верных слуг и помощников?» Пусть эти телеграммы фабриковались в «Союзе истинно русских людей». Государь принимал их всерьез. Чтобы, вопреки этим протестам, Государь все-таки пошел на амнистию, нужно было сказать действительно новое слово, открывавшее возможность забвения, нужно было самому подняться над прежнею злобою. Этим словом и могло быть моральное осуждение террора. Но на это Дума не оказалась способна. Она продолжала войну. Как безотрадны были ответы, которые пришлось Стаховичу выслушать. Кадет Ломшаков вышел первый возразить «господину Стаховичу». «Я заявляю, – говорил он, – что вся ответственность за преступления, о которых было здесь сказано, лежит всецело и полностью на правительстве, преступно поправшем права человека и гражданина». Кадет Шраг не допускал осуждения тех, которые «жизнь свою положили за други своя», не желая заметить, что речь шла не о них, что для них Стахович вместе с другими просил об амнистии и прощении, что моральное осуждение относилось только к тем, что стал бы совершать преступления после амнистии и установлении конституционного строя. Но всего грустнее читать речь Родичева. Позиция Стаховича не могла ему быть чужда; он «с увлечением прослушал прекрасные слова депутата Стаховича» и «вполне понял тот душевный порыв, который внушил ему благородные слова любви». Но «с политическим заключением этого душевного порыва» он согласиться не мог. И Родичев, который 29 апреля сам говорил о «любви», об «уничтожении ненависти», призывал к «всепрощению», теперь говорил: «Если бы здесь была кафедра проповедника, если бы это была церковная кафедра, то тогда мог бы и должен бы раздаваться призыв такого рода, но мы – законодатели».
Вдохновленный аплодисментами и восторгами Думы, Родичев обрушивается на одних представителей власти: «Это они посеяли убийство и преступление в России. Это они облили кровью страну… Мы должны сказать во всей наготе: в России нет правосудия, в России закон обратился в насмешку. В России нет правды. Россия в этот год пережила то, чего она не переживала со времени Батыя. Этому должны быть положен конец… Нам нужно много труда и усилия для того, чтобы стереть с нашей души ту горечь, которая в ней годами накопилась…» И он произнес следующие убийственные для амнистии слова: «Рано указывать на торжество благоволения. Будем верить, что настанет это время, теперь оно еще не настало».
Речь вызвала «бурные, продолжительные аплодисменты». Предложение Стаховича было отвергнуто. Это морально похоронило амнистию. Если «время благоволения не наступило» и война продолжаются, если, добиваясь амнистии за прошлые преступления, Дума даже и в будущем, уже при новом порядке, отказывается морально их осудить, если слова осуждения она находит только для представителей власти, то какой смысл имела бы такая амнистия? Мира не было заключено; а во время войны пленных не освобождают. Дума не только хоронила амнистию, она хоронила себя самое. От собрания в несколько сот человек нельзя ожидать, что оно поднимется на высоту морального просветления. К тому же здесь творилась «политика», которая далека от морали. Но Дума могла и должна была оказаться по крайней мере на высоте своей конституционной роли, т. е. хранительницы законности и правового порядка. Эта роль обязывала. Как бы ни склонна была Дума в отдельных случаях оправдывать преступление благородством мотивов преступника, она, как учреждение, которому дано право законы творить, а беззакония обличать, не могла в ожидании «времени благоволения» отказаться принципиально осудить преступления; отказ от осуждения не мог быть истолкован иначе как их одобрение. Из государственного установления Дума превращала себя в орудие революционной стихии. Голосование по поправке Стаховича вырыло ров между двумя большинствами. Если бы кадеты пошли со Стаховичем и Родичев повторил свою речь 29 апреля, это образовало бы «конституционное большинство». В этот день кадеты от конституционного пути отказались. Потом Стаховича упрекали за «провокацию». Это мелкое и недостойное обвинение. Если бы Стахович не смог в это время забыть о «партийной» политике, он и не мог бы сказать такой замечательной речи. «Политика» ее не подскажет.
Милюков в своей газете инсинуировал: «Речь М.А. Стаховича была обращена совсем не по адресу палаты. Орловский депутат твердо помнит завет своих избирателей: «не задевать, но поддерживать верховную власть». Для тех, кто этих слов теперь не поймет, я поясню. В речи об амнистии Стаховича, намекая на ссылки многих ораторов на наказы своих избирателей, рассказал, чем его крестьяне напутствовали: «Они поручили мне: постарайтесь за нас добывать нам остальную волю – это то, что мы называем свободами… Но они мне говорили еще то, о чем не говорили, по-видимому, в других губерниях и другим ораторам. Крестьяне совершенно определенно наказывали мне: не задевайте Царя, но помогите ему замирить землю, поддержите его».
Этот мягкий протест против эксцессов думского красноречия дал Милюкову повод к инсинуации, будто Стахович, этот мужественный и независимый человек, менее всего похожий на «угодника» и «льстеца», направлял свои речи не по адресу палаты, то есть, очевидно, желал только выслужиться перед Государем. Таковы уже тогда были «элегантные» нравы партийной полемики.
Что же осталось нашим «тактикам» сказать в пользу амнистии? Вот прославленный финал ответного адреса:
«Ваше Императорское Величество! В преддверии всякой нашей работы стоит один вопрос, волнующий душу всего народа, волнующий нас, избранников народа, лишающий нас возможности спокойно приступить к первым шагам нашей законодательной деятельности. Первое слово, прозвучавшее в стенах Государственной думы, встреченное кликами сочувствия всей Думы, было слово «амнистия». Страна жаждет амнистии, распространенной на все предусмотренные уголовным законом деяния, вытекающие из побуждений религиозных или политических, а также на все аграрные правонарушения.
Есть требования народной совести, в которых нельзя отказывать, с исполнением которых нельзя медлить. Государь, Дума ждет от Вас полной политической амнистии как первого залога взаимного понимания и взаимного согласия между Царем и народом».
Это шедевр литературного мастерства. Даже слово «требование» упомянуто, и в форме недоступной для возражений. Но если от литературной формы перейти к политическим доводам, они поражают недостаточностью и неискренностью.
Мало в подобном вопросе ссылаться на то, что без амнистии Дума не сможет «спокойно приступить к первым шагам своей законодательной деятельности». Неправда, будто амнистия волновала душу всего народа, что страна амнистии жаждала, что она требование народной совести; все это говорилось после того, как Дума отказалась о ней просить, чтобы не унизить величия «законодателей», после того, как признавала сама, что для конфликта амнистия – неблагодарная почва.
Такие слова были риторикой и не убеждали.
Адрес кончался словами, что амнистия будет залогом взаимного понимания и взаимного согласия между царем и народом, и это тогда, когда кроме амнистии адрес излагал и другие такие же «ультимативные» требования, об единой палате и министерской ответственности, когда Дума аплодировала словам, что «время благоволения не наступило», когда она отказывалась осудить политический террор, словом, когда «война продолжалась».
Пассаж об амнистии был последним штрихом этого странного адреса; и он типичен. Дума хотела амнистии и, однако, ее представила так, что Государь не мог ее дать, не капитулировав перед Революцией. И Дума предпочла скорее от амнистии отказаться, чем сдать ту позицию, которую она заняла.
Поскольку эта позиция отражалась в адресе, ее нелегко было понять. Можно было быть революционером, считать Монарха узурпатором, пережитком минувшего прошлого; можно было желать поднять против него Ахеронт, пережить Революцию и уже потом на расчищенном месте создавать новый порядок. Люди таких убеждений адресов не подносят, во всяком случае в них не включают «условностей» и «почтительных выражений». Адрес революционеров мог явиться только грозным обвинительным актом, объявлением и фактическим началом решительной войны. Так революционеры и смотрели на адрес.
Можно было стоять и на точке зрения сторонников конституции. Глава государства ее даровал и обещал ее охранять. Конституционалисты не молчат, а отвечают на личное приветствие Государя; они конституцию принимают; они вправе желать в ней улучшений, могут указывать, какие изменения хотят получить, и сделают это со всей откровенностью, но без угроз и ультиматумов. Не заводят с Государем идеологических споров и своей идеологии ему не навязывают. Прав Государя, обеспеченных конституцией, не отрицают; не противополагают им суверенную «волю народа», которую будто бы Дума одна представляет. Такой адрес не начало военных действий, а почва для соглашения.
Но чего хотели добиться тем адресом, который был Думою принят? В нем не было «невежливых слов», что так утешило Ковалевского, была даже «словесная почтительность», которая огорчила революционера Аникина. Но по существу адрес вышел «непризнанием конституции». К чему он стремился? Ведь если бы Государь удовлетворил все высказанные ему пожелания, уничтожил Государственный совет, подчинил Думе министров, снял все исключительные положения, объявил бы общую амнистию и одновременно предал суду бывших исполнителей своей воли, – словом, если бы он сделал все, без чего Дума «не могла спокойно работать», он провозгласил бы победу революционной идеологии. Он бы поступил приблизительно так, как в 1917 году поступил Михаил, подписав свое отречение и передав полноту власти «общественности». Ведь Михаил тогда тоже надеялся, и в этом его уверяли, что общественность Революцию остановит, что его присутствие будет этому мешать. А на деле своим отречением Михаил с высоты престола предписал стране Революцию. Но тогда, может быть, лучшего выхода не было видно. Но и в 1906 году под покровом традиционных фраз об «единении Монарха с народом» Государю внушали ту же капитуляцию перед верховной властью народа. И в то же время Дума этого прямо не хотела сказать; она поэтому показывала себя не открытым врагом, а лицемерным и фальшивым сотрудником. Именно этой тактикой, этим сидением на двух стульях сразу, соединением конституционного и революционного пафоса, кадетский либерализм убивал в себе и доверие и уважение. И в довершение всего ничтоже сумняшеся он имел бесцеремонность просить спешной аудиенции для личного вручения подобного адреса Государю.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?