Текст книги "По следам черкесской легенды"
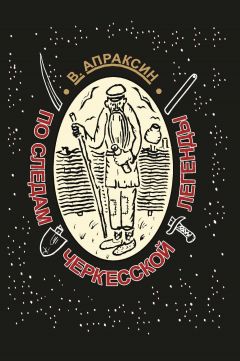
Автор книги: Вениамин Апраксин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава третья
Загадочные пенал и бумага
Следующий день для Чекменя начался с неудач. С утра первым делом проверил ловушку – слепец-вражина не попался, наоборот, подгрыз еще несколько картофельных кустов и вдобавок влез в рядом раскохавшуюся арбузную зелень – небольшой клочок бахчи для себя старики сажали всегда. Более того, сам капкан оказался забитый землей так, что дед его еле вытащил и в расчищенной ямке насторожил вновь.
Ничем закончился и его визит в колхозную контору, где хотел выписать немного зернеца (или хотя бы каких-нибудь азадков) курам, но – как он и ожидал – погоняли по кабинетам и отказали, ссылаясь на его отсутствие. Из конторы завернул на бригадный двор, к кузне, потолкался среди народа и вернулся домой. Пока вяло похлебал супку, солнышко уж к обеду поднялось, началась жара.
Перед тем как прилечь на обеденные «отды́хи», Чекмень зашел перекурить, под навес-царай. Сел в холодке на свой излюбленный, застеленный старой одежиной пенек, завернул «козью ножку» и неторопливо выпускал волны пахучего, приправленного степным донничком самосадного дымка. Под его запах дед любил предаваться размышлениям, обдумывать пройденную жизнь и грядущие дела. Вот и теперь мысли его вернулись к местному колхозу, и обидно было не столько тем, что отказали в его маленькой просьбе (бог с ней, – может, и правда зерна нет), а тем, что нагляделся и наслушался в конторе и среди хуторян, от чего в душе остался неприятный осадок.
«Хучь и носит наш колхоз громкое название имени Сталина, а черт-те что делается в нем! – вздыхал он, пуская дым себе в бороду. – Я склоняю голову в глубоком уважении перед хозяевами, но как раз таковых и нет.
Сколько на моей памяти сменилось колхозных председателей, сколько их, ученых, партийных, район присылал, а – не умаляя заслуг некоторых – дела в хозяйстве идут все хуже и хуже. Почти все как на одну колодку. Обживутся, обглядятся, хапнут себе, детям и внукам, и только их видели.
Вон и этот последний пред – голоштанником, в одной куфайчонке прибег, а теперь – смотри – шик с отлетом ходит, кирпичный домяка шабашники отхряпали, на лошадях не стал ездить – «козла» купил, а в кресле сидит, что твой удельный князёк, с такими, как я, нос задирает, дюже и разговаривать не хочет.
Не везет и на их помощников – колхозных секретарей парткома. Меняются, как тузы в колодной карте. Поболтался, глядь – прогнали или сам убёг, и тут же на смену, как из преисподней, лезут другие.
И что удивительно – все учат селянина, как жить, советуют, а сами от трудяги отворачиваются и ищут момент, чтоб из нашей глубинки дать деру.
И каких только парторгов не перебывало в нашем колхозе! То появится, два слова не свяжет, то с языком как помело – а хорошо подвешенный язык, как известно, всегда чешется.
Последний – Гений Олегович Поздеев (по инициалам ребята за глаза его звали «ГОП со смыком») – так вообще себя превзошел. Эгоистичный, двоедушный, снедаемый непомерным честолюбием и одержимый погоней за славой и деньгами. Повсюду ораторствует по поводу какого-то коммунизма, светлого будущего рая колхозной жизни. На голове всегда шляпа, а на уме пятилетний план: оброк, горох, кукуруза, лозунги, плакаты, – неужели не понятно, что языком державу не накормишь, бумажкой даже вшей с головы не изгонишь?! А высокомерный – за версту видно. Надысь кто-то по-пьяни запанибрата назвал «дружком» – так он добился извинения и впредь попросил называть себя «товарищ Гений Олегович».
А как весной опростоволосился я сам – чего-то спросил его и в фамилии ошибся всего одной буковкой – так что было, что было! – наверное, до сих пор помнит, вон как дайчека с папкой прожег мимо меня и даже не глянул.
А сколько конторщиков-холодовников по кабинетам развелось – набито, как селедки в бочке, скоро их на подоконник сажать будут и станет больше, чем колхозников. Контора для них как магнит. Скоро в поле, на ферме работать будет некому – все норовят стать начальником, скоро кинь палку – в начальника попадешь. Все мнят себя специалистами. Сам видал, сколько их с перьями сидит по кабинетам, потаясь колхозников чего-то между собой шушукаются, наперегонки на счетах бряцают, и двери не закрываются – туда-сюда смыкают, делают вид, что страсть как заняты делами. А когда столкнется поговорить с ними, то убеждаешься, что их диплом находится в явном противоречии с их умственными способностями.
А сколько их еще на подходе: по путевке колхоза (да и без направления) учится – и чем не больше учатся, тем, кажется, больше глупеют, а за многих из них – судя по делам их – институт, похоже, баран кончал. Эх, глаза не глядели бы и уши не слухали таких ученых и хозяев! Дохозяевались: куда ни глянь – прорехи, вечные неуправки, по их развязке ее, зимы, и не надо бы.
Да что там начальники – какие-то равнодушные сделались и простые колхозники. И технику не берегут – вон весь бугор у кузни завалили железяками, – по-моему, там сам черт ногу свернет. И к земле у людей охладело желание – куда ни пойдешь, где ни послухаешь – пьянство, воровство, равнодушие. Пошла мода жить на своей земле квартирантом, чуть что – легко снимаются и тоже бегут куда-то.
Нет, как ни крути, а колхоз на глазах тает. По всему видать, если и дальше так пойдут дела – хана колхозу, подведет он многострадальный филинский народ под монастырь, пустит по миру. И опять начнется, как до тридцатого года: кто молодой, семейный да при силе – будут жить, а такие, как я с бабкой, опять пойдем в батраки, и если попадет кулига земли – опять будем лопатой ковырять…»
Попыхивая самокруткой, крепко задумался дед Чекмень и бесцельно глядел, как из высокой хатошной трубы (дед в шутку звал ее «выхлопной») поднимался кольцами дым (у бабки ныне пироги); как в прозрачно-бездонной синеве туда-сюда сновали ласточки-касатки, чье слепленное гнездышко виднелось под жердинкой навеса; на красных, с черными точками божьих коровок, усеявших комель царайной сохи; на буйные заросли крапивы, на кучку хлама, который неизбежно скапливается в любом дворе, – глянул туда и задержал взгляд на вчерашней огородной находке.
Железка лежала на том же места, где он бросил ее вчера. От нечего делать Чекмень взял ее в руки и разглядел.
Это был ровно стесанный с торцов металлический круглый цилиндр длиной в добрую мужскую четверть и шириной вершка полтора (вершок – 4,5 см. – В. А.). По своему виду он походил на старинную банку из-под лампасет или, точнее, на школьный пенал, и дед с маху находку нарек «пеналом». Прищурившись, разглядел, что на всей его поверхности проступала резьба.
Интерес взял деда – подвернувшимся окамелком косы он очистил поверхность и обтер тряпкой. Под ржаво-бурым налетом засиял металл с радужно-желтым отливом, совсем не похожий на железо. Медь, наверное, решил дед. Потряс – вроде ничего нет, но когда он прикинул находку в руке, удивился несоответствию размера и веса:
такой величины железная, медная или бронзовая вещь должна быть тяжелой – эта же особым весом не отличалась, и деда озарила мысль, что она не целая, а, скорее всего, полая внутри. И раз так, то туда должен быть вход-выход.
Его догадка подтвердилась, когда среди узоров обнаружил еле видимую круговую черту, похожую на окантовочку. Он опять ее поскреб косой, но металл от времени спекся (скоррозировался).
Чекменю терпения не занимать. Целых битых полчаса потел он – даже цигарка потухла – со спайкой, ковырял, выкручивал, подовздевал и в конце концов своего добился: находка разъединилась на две половинки, которые тщательно входили одна в другую.
Но на это дед лишь скользнул взглядом, удивлению его не было границ, когда в одной половинке осталась торчать свернутая в трубку бумага. Видимая часть ее потемнела от времени и, казалось, готова была рассыпаться при малейшем прикосновении. Дрожащими от волнения руками он аккуратно вынул ее и, боясь, чтоб она не превратилась в труху, развернул.
Скруток оказался одним листком длиной сантиметров 50, шириной по размеру пенала – как он потом говорил – «в пядь» (пядь – от 18 до 20 с лишним сантиметров). Из себя бумага и впрямь была невзрачная – сухая, толстая, темно-желтого цвета, и валяйся она в доме, ее непременно выкинули бы, а на дороге – перешагнули и внимания никто бы на обратил. Но дотошный Чекмень выкидывать бумагу не стал: если с одной стороны она была чистая, то с другой – оказалась сплошь исписана как бы черной тушью, красивым – по одной букве – почерком. Наверное, от времени буквы поблекли, но разобрать их было еще можно.
Подслеповато щурясь, Чекмень поводил по строкам носом, но вскоре убедился, что текст какой-то малопонятный: вроде был похож на старославянский – который он знал немного – и в то же время отличался от него. «Ладно, – решил Чекмень, – как-нибудь Чику покажу».
Прошел в свою «берлогу», прилег на кровать. Но, против всегдашней привычки в эту пору соснуть, сон почему-то не шел, и виной тому стало смутное предчувствие загадочного пенала и бумаги в нем.
Поворочавшись с боку на бок и поняв, что не уснуть, он плюнул, встал, сунул за пояс рубахи пенал и, палимый обеденным зноем, споро перебрасывая костыль, направил свои стопы к Чикову. Идти к нему был резон – Чекмень да и все в хуторе знали, что он здорово разбирался в чтении божественных книг, авось прочтет и его бумажку.
Чиков жил недалеко и к приходу Чекменя успел пообедать и опять собирался на колхозную работу. Чекмень обрадовался, что захватил его дома, и без утайки рассказал ему о найденном пенале и бумаге в нем.
– Сдается мне, землячок, что тут какая-то мудреная старославянская писанина. Ты по этой части дока, погляди, может, прочтешь и мою бумагу, – закончил дед свой рассказ.
Чикова дважды просить не надо, ибо любопытство уже одолело и его.
– Ну-к, ну-к, поглядим! – живо откликнулся он, беря в руки находки. Внимательно разглядел пенал, бумагу, на тексте и остановился. – Интересно, о чем же в нем говорится? – Поводил головой слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, даже на свет и поднял глаза на гостя: – Це-це-це! И правда – написано так, что и не прочтешь: текст и впрямь вроде и старославянский, а скажу, что еще старинней, или вообще не тот, а какой-то другой. А какой – понятия не имею.
Въедливый Чиков опять уткнулся в бумагу, но через время отодвинул лист и с ноткой отчаяния и безнадежности покачал головой:
– Нет, Матвеич, не прочту, сдаюсь.
От его растерянного вида Чекмень недовольно нахмурился – вот будь ты неладно, и тут не повезло, но вида не подал. Сунув бумагу в пенал, поднялся:
– Ну что ж, извини за беспокойство и дюже не волнуйся, что не одолел писанину. Да ее вряд ли кто у нас в хуторе и прочтет… хотя стоп! А что, если Сечину показать? Ты вот что: не посчитай за труд, перекажи своему Виктору, чтоб как-нибудь добег до него, и гукни – авось Терентий Андреянович на неделе подойдет, может, сумеет разобраться и прочесть.
– А к нему и ходить домой не надо – вон на клубе и лавке объявления с утра висят: какую-то лекцию Сечин ныне в клубе проводить будет. Там вечером Виктор и передаст твою просьбу, – пообещал Чиков и засобирался на работу.
Глава четвертая
Черкесский клад
Всю обратную дорогу домой Чекмень негодовал: «Чиков считается в хуторе чуть ли не первым толкователем всяких церковных книг, а вот поди ж ты – не сумел прочесть мою бумажку. Тоже мне – грамотей! Ну уж дудки, поглядим». Смириться с поражением было не в его характере, и по дороге домой в его голове начал созревать план дальнейших действий, который он решил попробовать осуществить в одиночку.
Первым делом он открыл створки углового окна. В избе, стараясь поменьше делать шума, прошел мимо отдыхавшей в углу бабки, сдвинул с открытого окошка ситцевую занавеску и даже убрал с подоконника горшок с кустистой пахучей геранкой и, угнездившись на дощатый табурет, примостился на краешке стола возле своей старенькой машинки «Зингер». Света из окна шло достаточно, и довольный этим дед нацепил старенькие очки – не беда, что в них уцелело одно стеклышко, а вместо обломанных дужек красовались веревочные завязки, – и, обуреваемый любопытством, развернул перед собой найденную бумагу.
Текст, как он впервые подметил во дворе и как сказал Чиков, действительно был малопонятный – вроде и похож на старославянский и в то же время отличался от него. В старославянском языке он немного разбирался – этим решил и воспользоваться. Шлепая губами, Чекмень водил корявым, прокуренным пальцем по строкам, возвращался к непонятным словам, начинал опять снова, и так – до бесконечности.
– Так, – бормотал он, – вот это, кажется, написано «спроть… прогона…». Далее – целая кулига непонятного, а эта вот вроде «курган». Дальше опять какие-то завитушки, а вот тут ясно написано «ценности». Заследом – не моего ума буквы, пробросим; и тут не разберу; ага – а вот это, по-моему, читается как «поздний завтрак». Далее опять какая-то тарабарщина, а среди них можно разобрать отдельные слова: «бочки», «оружие»…
Бормочет дед в тишине, а тишина в хате такая, что слышно, как тикают часы да бьется муха на стекле. Бьется и дед над бумагой, морщится, вспотел в духоте – даже на лысине выступила испарина.
Обтираясь утиркой, сколько раз в сердцах намеревался плюнуть, закинуть бумажку на загнетку – бабке на разжижку, даже порывался порвать ее, но признаки бессилия подавлял в себе словами: «терпение, мой друг, терпение» и продолжал сидеть. Ведь не зря он еще дорогой поставил перед собой цель, не зря дал себе зарок не уйти с этого места до тех пор, пока не одолеет текст. Какой-то внутренний, настойчивый, доходящий до мании голос подсказывал, что тщательно закупоренный пенал и непохожая на нынешнюю бумага в нем – не простые. Эта крепко засевшая мысль теперь не давала ему покоя – более того, она настраивала на душевный порыв, одухотворенность, заставляла сосредоточить всю силу воли, всю житейскую мудрость и в конечном итоге доказать, что у него – не в пример более молодым грамотеям – голова еще не разучилась думать. И он снова погружался в текст, работал над ним в состоянии такого умственного напряжения и душевного подъема, что впоследствии поражался сам. Также не знает и сам, сколько просидел он над бумагой. Припуляясь опять, в бессчетный раз разбирал каждое неясное слово, опять к ним по смыслу подбирал следующие, даже кое-где позволял себе какие-то вольности. Досиделся до того, что в глазах стало рябить, потом слезиться, порой чувствовал, что на грани нервного срыва, но подспудное сознание, что он на пороге какого-то необычного открытия, заставляла его сидеть и выложить свои силы и знания да конца.
И не зря говорится: терпение и труд всегда принесут успех, иными словами – цель дает человеку крылья, а труд не есть невозможное. Как ни запарился весь, как ни устал, но в конце концов Чекмень – надо отдать ему должное – сумел разобрать и прочесть половину текста, который – даже не верилось – гласил:
«Выше садов… сбочь ковалевского прогона должен быть обложенный камнем и толстым слоем дуба курган. При отступлении черкесы зарыли в нем посуду, бочки с вином, оружие, обмундирование. Копать надо, когда солнце восходит, – отсюда вход, с противоположной стороны – выход. А пусть сей клад достанется доброму человеку, а худому на гибель». В конце – подпись: «раба божья», далее неразборчиво, но выходит, что писала какая-то женщина.
Когда до деда дошел смысл прочитанного, он даже крякнул от удивления: ведь схожая стародавняя притча бродила по хутору, сколько он себя помнит:
«Сбочь бывшего ковалевского выгона, с левой стороны, на склоне бугра есть безымянный курган, на котором в прошлом стоял Сомова Китая Ивановича – Китаев – ветряк. Ходили слухи, что на восход солнца от этого кургана черкесами зарыты какие-то ценности. Но понаслышке – если на поздний завтрак (примерно часов десять) стать на этом кургане, то куда показывает тень, отсчитать тридцать шагов, то на этом месте и должны быть зарыты какие-то ценности».
Эту отмирающую легенду из коренных жителей – а из молодежи тем более – никто и всерьез не воспринимал: она считалась обыкновенной ходячей байкой про клады, которых – насколько он себя помнит – на казачьей земле, по казачьим, без меры приукрашенным разговорам, хоть отбавляй. И тем не менее сообщение в найденной им бумаге заставляло насторожиться: исчезающая в хуторе старинная притча про черкесский клад словами безыменной женщины спустя время подтверждалась и словно оживала вновь. И самое главное: там и тут упоминается курган, а где он находился, ему приблизительно хорошо было известно.
– Матерь Божия! – Дед не верил своему неожиданному открытию. – Это что ж выходит? Сон оказался в руку? Выходит, моя бабка правильно разгадала мой сон! Выходит, клад есть! Вот тебе и вши, вот тебе и богатство! Выходит, права житейская народная мудрость, что никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь. Выходит, не зря я почитывал церковные книги – теперь вот все пригодилось. Первый узнал про клад! Едрит твою в кочерыжку, кто б подумал такое! Неужели на старости лет повезло? Да за такое… – он с умилением посмотрел в темный угол, откуда на божнице (киоте) в потускневшем окладе на него бесстрастно глядел темный лик какого-то святого, – да за такое – Богу свечку поставлю!
Радость хмелем била в голову. Волнение Чекменя было так велико, что он в первые минуты не мог устоять на месте и стал шагать по хате, задевая табуретки, спотыкаясь о бабкины самодельные ковришки и судорожно то расстегивал, то застегивал ворот рубашки. Когда возбуждение немного прошло, он лег на свою кровать и перед ним прошла вся его нелегкая жизнь.
Глава пятая
Трудная жизнь
«Мой дед – Чекменев Кондрат и его сын (а стало быть, мой отец) Матвей родом были с Тамбовской губернии Моршанского уезда Коршуновской волости деревни Липки. Родились они там, но не пригодились.
В 1861 году, после распущения крестьянства, там случился неурожай, можно сказать, весь Моршанский уезд сильно голодал, а потом начался повальный мор. Изо всей семьи Чекменевых Кондрат с маленьким Матвеем остались вдвоем. Что было бы с ними, останься они на месте, не известно, но судьба рассудила иначе. Чтобы не умереть с голода, они подались из своей деревни и, скитаясь, в конце концов забрели на хутор Красинский (или Красный), входящий тогда в юрт Федосеевской станицы Хоперского округа Всевеликого Войска Донского. В каком возрасте был дед – не помню, а отцу, Матвею, в это время было семь лет.
На хуторе Красинском они сперва жили в работниках у хуторского казака Голикова. Кондрат по профессии был портной, этому же рукомеслу он обучил подрастающего Матвея, а летом его нанимал еще пасти казачью скотину и овец. Жару и чичер, мошку и бзы – всего этого отец хватил с детства через край.
Дед Кондрат так неженатым и помер, а сына Матвея успел отдать в зятья к домовитому казаку Пристанскову Даниилу за его дочь-казачку Аксинью. Она была из себя красивая, но никто из казаков не брал ее, потому что правая рука у нее с детства была сращенная. Когда сватали, Аксинья и не знала, – стерегла овец, но и без нее усватали, и все.
Землей и правами иногородние (т. е. пришлые, неказаки) не пользовались. Матвей был не исключение, и это несмотря на то, что жена у него была казачка. Ему стали говорить: «Ты знаешь, что «чекмень» – это у казаков старинная суконная верхняя одежда под названием «кафтан». А раз у тебя фамилия казачья, то запишись в казаки. Для этого внеси в станичное правление 30 рублей, и ты будешь пользоваться землей и всеми казачьими правами». У отца Кондрата было 50 рублей, но он сказал:
«Какая разница, быть казаком или мужиком!» – и не дал денег. Только на свадьбе, на сорокрова, Даниил дал молодым в подарок десятину и за кладбищем выше мельницы (там ныне начинаются два ряда колхозных домиков. – В. А.) две-три сотки сада, и на этом пятачке построили домишко-кухоньку (стояла до 1924 года), в которой и стали жить. Этой дарственной землей Матвей пользовался до революции, до самой своей смерти (умер он в 1912–1913 годах), кроме того, ежегодно платил налог за родительские «отруба», оставшиеся в Тамбовской губернии.
У Матвея с Аксиньей, то есть у отца с матерью были дети, одним из них был я – Чекменев Иосиф (Осип) Матвеевич 1878 года рождения. Действительную службу служил в Санкт-Петербурге. По возращении – женился. У каждого, говорят, своя любовь. Была и у меня – я женился на домовитой казачке – Поповой Матрёне. Уж сколько лет с той поры прошло, а до сих пор помню: так невеста понравилась, что царства небесного не надо, – высокая, красивая. Молодой был, мечтал земли вдоволь, двор кольцом, во дворе живность всякая, а в хате – пятистенке, а то и круглом, с балясами, под жестью – Матрёна с ребятишками. Но мечты – окромя последней – так и остались мечтами, так всю жизнь и пришлось прожить сперва – до 1924 года – в отцовской кособокой хатенке, а после кое-как слепили вот этот плетнёвый «кремль»; лишь насчет детишек не ошибся – народили с Матрёной аж шестерых: Настя, Нюра, Поля, Емельян, Христиния и Никифор.
Нет, далеко не розами был усыпан мой жизненный путь. Хоть о покойниках принято говорить либо хорошее, либо ничего, но если сделать так, то это пойти против правды. Ох, хлебнули мы лиха до революции за отказ деда Кондрата вступить в казаки! Хоть мы и были тамбовскими мужиками и никакого отношения к воронежским и украинским переселенцам не имели, мы, Чекменевы, сразу попали в разряд иногородних, и казаки сразу окрестили нас хохлами. А что значило быть иногородним или хохлом среди казаков, я, наверное, буду помнить до гробовой доски.
До революции (да и после) иногородние попадали в донские края в поисках заработка и куска хлеба. Тут, у казаков, они работали: в мирное время за деньги, в голода – за продукты. Если кто желал осесть на жительство, то этот вопрос выносился на хуторском казачьем сходе: решат большинством голосов, – значит, примут, и то в первую очередь предпочтение отдавалось рукомесленным, то есть кто знал кузнечное, шорное, портняжное дело, кто имел, допустим, ветряк, лавку (магазин). В то же время, живя среди казаков, иногородние в сходах не участвовали, землей на пользовались. Разрешали строиться, но за землю заплати; если кто решил перестраиваться, то на месте прежнего жилья. Корова пасется в табуне – за выпаса плати. За дрова, сенокос – тоже давай деньги. Так всю жизнь и перебивались: то соломкой, то бурьяном, то хворостом, то кизеками (дед в шутку звал их «антрацитом». – В. А.). Не поощрялось казакам водиться с хохлами, причем неприязнь начиналась с детства. А как мне хотелось играть с казачатами! – вздыхал дед Чекмень на кровати, – а попробуй подойди…
Отчего была такая неприязнь? Казаки опасались, что иногородние заберут их владения и выгонят, поэтому и относились к ним враждебно. Враждебно, да не все – вот, например, дед Денис, дед Апраксин (его звали Красноносовым, потому что нос и одна щека у него от родимого пятна были красные) не гордились, что они казаки. Но таких было мало – в основном крыли нас вдоль и поперек последними словами: кто, бывало, поздоровкается, а кто и поздоровкаться с нами за порок считал. И не только унижали и оскорбляли – при случае даже занимались рукоприкладством. Например, если иногородние наденут казачьи штаны, фуражку, то атаман скажет: «Ну-ка, дайте ему!» Одежду в клочья изорвут и уберут так, таких фонарей наставят, что еле живой останешься. Если иногородний едет верхом, то казаки обязательно собьют и в морду навешают.
Вот так и получилось, что хотя я и не хохол, а тамбовский мужик, но так среди казаков и прожил «хохлом». Сколько я с этой кличкой оскорблений принял – несть числа.
Сейчас, конечно, того нет, не те времена – сжился с хутором, хуторянами, молодому поколению так и вовсе невдомек, что мы на Хопре пришлые. Но все равно, несмотря на то, что с революции прошло немало лет и в душе остался нехороший осадок, я на казаков не обижаюсь, более того, даже уважаю казачьи обычаи. Я сам видел, какая у них тяжелая жизнь. На своей земле они работали не покладая рук, и хотя за свою землю, угодья на ней они льготились, но за все это они с лошадей не слезали, верой и правдой служили царю и Отечеству. Может, поэтому их тяжелая жизнь и породила много песен – то бесшабашно-удалых, то берущих за душу, тягучих, протяжных, как наша окрестная степь. Скажу, что я как-то сразу полюбил их, научился играть и по себе знаю – во всяких передрягах они здорово помогают.
Иногородние жили почти по всем захоперским хуторам и станицам – в одном поселении побольше, в другом – поменьше. Чтобы прокормиться, занимались – как я говорил – каким-нибудь делом.
В хуторе Филинском и соседнем Сомском жило три семьи: Захар Трандин делал кирпичи и продавал; Роман Яковлевич (фамилию забыл) с женой Ефросиньей делали русские глинобитные и кирпичные печи; и мы – Чекменевы – портняжили, но от этого дела на жизнь нам не хватало, и мы еще работали на мельнице Абрамова Степана Григорьевича; помимо мельницы у него еще были маслобойка и крупорушка. Его мельница была сделана в хуторе Филинском в начале 1900-х годов. Сперва была меловая, на глине. После первой мировой войны ее развалили и сделали из красного кирпича. Но вскоре (до гражданской войны) само мельничное оборудование купил Швецов Петро Петрович с Зотовской станицы, а с установлением Советской власти здание мельницы перешло в ЕПО – Единое потребительское общество. Туда же перешли маслобойка и крупорушка. Сам Абрамов в гражданскую войну отступил и где-то в отступе в 1919 году умер.
Помня дедову, отцову и свою нелегкие жизни, я сразу принял сторону Советской власти. Во время Октябрьской революции был в Петрограде, брал Зимний дворец, хотя, признаться, воевать не люблю, считаю, чего война – это пиршество для воронья, слезы для женщин и упадок страны. При Советской власти мы, иногородние, вздохнули свободнее, новый закон запрещал всякие притеснения, хотя – чего греха таить – косые взгляды казаков, подковырки в наш адрес и даже угрозы долгое время были сплошь и рядом. Да и сама послеоктябрьская жизнь не баловала: продразверстки, голода, колхозы.
До коллективизации в нашей семье было 13–14 душ. Мы с женой и детьми (старшие уже стали обзаводиться своими семьями) жили всегда бедно. Жильем служила вот эта же плетневая, однокомнатная, с земляным полом, крытая камышом хатка с чуланом; при доме огород и садок. Жене за детей государство платило пособие. Я считался хорошим портным, но моего заработка опять не хватало, и я в колхозе работал то сторожем на бахче, то на той же Абрамовой маслобойке с бычьим приводом, которая была сперва у ЕПО, а потом перешла в колхоз им. Сталина. На ней же работал и до Отечественной войны. Эх, помнится до сих пор, какое подсолнечное масло вкусное, духовитое было! Ребятишки, бывало, хлебом окунали в него и ели; такая же духовитая была и макуха, которую при частной жизни отдавали людям, а с коллективизации шла в колхоз – ею и какими-нибудь азадками рассчитывались с колхозниками.
Еще помню предвоенные годы в хуторе: пока, бывало, не начнется колхозное собрание, деда Дениса, деда Апраксина(Красноносова) и меня председатель звал поиграть старинные казачьи песни. Старики и я уважали председателя, выходили, и люди с интересом слушали нас, и, по отзывам всех присутствующих, мы «очень хорошо играли, аж за душу брало». Давно это было, а вот поди ж ты – почему-то помнится, и даже теперь на душе радостно делается.
Но это так, между прочим. А если вспомнить прошедшее время, то слов нет – трудная жизнь выпала на наше поколение: холода, голода, войны, болезни, крутой мат, колхозная работа на износ за… пустые палочки-трудодни или какие-нибудь азадки.
И как переживали мы с Матрёной – лучше не вспоминать. Всю жизнь рвали жилы, пришлось и траву, и грибы, и камедь (древесный, вишневый, сливовый, абрикосовый клей) отведать, пустые щи чуть не гвоздем хлебали, только и думали, что о куске хлеба, как прокормить, обуть-одеть детей, заплатить налоги, займы, облигации – порой непосредственные заботы о пище, тепле, благополучии семьи поглощали все физические и умственные способности. Всю жизнь только и думали как-нибудь выбиться в люди, разбогатеть – да куда ж нам, с суконным рылом да в калашный ряд, – не по Сеньке шапка, видать.
Всё пришлось испытать нам с Матрёной: любовь и ненависть, милосердие и жестокость, добродетель и подлость. Но что бы ни приходилось преодолевать, между нами всегда царило взаимопонимание и взаимоуважение. Мы радовались тому, что есть, и никогда не огорчались тому, чего нет. Мы жили не тужили, никого не осуждали и никому не досаждали. Мы ни перед кем не пресмыкались, не гнались за карьерой, не приспосабливались, по возможности старались не поддаваться дурному настроению. Суровые жизненные условия вырабатывали твердость характера, заставляли не сломаться, выстоять. Нужде и бедности мы всегда противопоставляли неистощимый природный оптимизм, с неодолимым жизнелюбием, энергией и целеустремленностью, теми же песнями, шутками мы преодолевали невзгоды и надеялись на долгожданные перемены. Мы жили любовью, верой и надеждой в лучшее будущее, ибо хорошо знали, что любовь, вера и надежда спасают в трудное время, без них жизнь теряет смысл, да и по простому человеческому понятию не всегда же должно быть плохо – должно же когда-то быть и хорошо.
И как ни тяжело было жить, а жизнь продолжалась, как говорится – травку топчут, а она растет. Время шло, а вместе с ним пошли и перемены: незаметно выросли и разлетелись из родной хаты кто куда дети. Правда, Никифор – царство ему небесное – сложил свою голову в Отечественную войну.
Кем бы дети стали при старом режиме – трудно сказать, наверное, так же батрачили бы, как и я, мой отец, дед. Но при Советской власти они все получили школьное образование и стали кто колхозниками, кто служащими. А Емелька вон вообще всех общеголял, с восьмого года, а башковитый оказался. От меня научился портняжному ремеслу. До колхозов считался портным (кустарем-одиночкой), работал в моем хозяйстве – этим делом в свободное время он занимался потом всю жизнь. В 1932 году вступил в партию, а после армии работал в станице Кукановской весовщиком и парторгом. В 1935 году при организации Подтелковского района перешел работать продавцом-завкагизом – в станице Слащевской. После этого до начала войны работал инструктором комитета ВКП(б) в районе и инструктором орготдела – и это при своем начальном образовании.
Все дети ныне определены, живут своими семьями, работают, вроде все у них есть, а все равно вся жизнь прошла и проходит в заботах и думе о детях. Как говорится, «маленькие дети – спать не давали, а от больших сам не уснешь». Все думаешь, как они там, может, нуждаются в чем, так и норовишь чем-нибудь помочь. Вон дочь с зятем машину поговаривают купить, другая дочь перестраиваться хочет, а Емельян задумал переправиться на жительство в Михайловку. Кто ж от помощи откажется? А помощь откуда – и Пустозвону понятно: из черкесского клада. А в каком кургане спрятан он – я уже знаю. Не-ет, отмахнутся от столь невероятной новости, что я узнал из бумаги, никак нельзя. Остается только одно: самому откопать клад!» – От такой неожиданно пришедшей мысли у Чекменя захватило дух, и, сам того не замечая, начал разговаривать вслух.









































