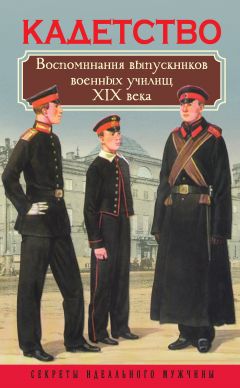
Автор книги: Вероника Богданова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Из воспоминаний
(Е. И. Топчиев, 1801–1869)
[42]42
Из воспоминаний Е. И. Топичева // Русская старина. 1880. Т. 28. № 8. С. 639–648.
[Закрыть]
В половине октября 1815 года меня отправили в Санкт-Петербург вместе с соучеником моим по Харьковской гимназии Василием Тихоцким. Москву мы застали еще мало обстроившейся после гибельного для нее 1812 года. Много каменных домов и других строений стояло обгорелых, полуразрушенных; чрез многие дворы ездили как бы по улицам; колокольни были большей частью с одним колоколом. Отдохнув в Петербурге не более суток, явились в канцелярию 2-го кадетского корпуса и были приняты по нашим документам в Дворянский полк.
Начальником 2-го кадетского корпуса и находившихся при нем Дворянского полка и Дворянского кавалерийского эскадрона считался генерал-адъютант <Дмитрий Дмитриевич> Курута, но его действительная служба была при лице великого князя Константина Павловича, в Варшаве. За его отсутствием заведовал <Андрей Иванович> Маркевич, кажется, генерал-майор, начальник собственно 2-го кадетского корпуса. <…>
В Дворянский полк и Дворянский кавалерийский эскадрон принимали дворян не моложе 16 лет, до каких же лет – не было ограничения. Собственно, кадеты 2-го корпуса были в составе одного батальона в четыре роты, одной гренадерской и трех мушкетерских; кто командовал батальоном кадет во фронте – не припомню. Определяющиеся в Дворянский полк зачислялись обыкновенно в мушкетерские роты; перевод в гренадерские роты и производство в унтер-офицеры и фельдфебеля вели к выпуску, то есть производству в офицеры в следующий выпуск. Для поступающего в Дворянский полк было довольно одного года, чтобы быть переведенным в гренадерскую роту. При мне выпуски были ежегодные, обыкновенно весной, по 500 человек в каждый, исключая 1818 год, потому что в предшествовавшем 1817 году было два выпуска, весной 500 и осенью 300.
После кампании 1812, 1813 и 1814 годов полки весьма нуждались в офицерах, следствием чего, полагаю, в Дворянском полку и Дворянском кавалерийском эскадроне не был ограничен прием молодых дворян комплектом, притом принимали без экзамена и дальнейшего разбора о дворянстве, основываясь на выданных документах в губерниях. Губернаторы имели предписание заохочивать недорослей из дворян определяться в Дворянский полк и Дворянский кавалерийский эскадрон и всем недостаточным выдавать прогоны за счет казны – до Петербурга.
Родившись 1 апреля 1801 года, в ноябре 1815 года я имел 14 лет, а по моим документам значилось 16. До самого определения в Дворянский полк я не знал, что в нем ничему не учат, кроме фронтовой службы. Теснота помещения в Дворянском полку, дурное содержание и вместе охота продолжать прерванное учение заставили меня хлопотать о переводе во 2-й кадетский корпус. Но перевод мой не состоялся по неимению вакансии, а более потому, что мне прибавили два года лишних: в высшие классы не принимали, а для средних, по документам, я перестарел. Брата я застал унтер-офицером в 4-й мушкетерской роте, куда и я назначен. Этой ротой командовал штабс-капитан Мансуров – большого роста, дебелый, мешковатый, который что бы ни надел на себя, все ему было не к лицу.
В 1813, 1814 и 1815 годах недоросли прибывали большими партиями с некоторых губерний, преимущественно с Рязанской, Курской и Смоленской; в числе этих недорослей были перезрелые, едва грамотные, дети мелкопоместных дворян, не служащих. Я застал такую тесноту помещения в Дворянском полку, что на двух вместе сдвинутых кроватях спали по пять воспитанников. Если кому, бывало, придется встать ночью по надобности, то находил, возвратясь назад, что спящие товарищи заняли собой оставленное место и нет возможности разбудить их, чтобы заставить раздвинуться. Одно средство – лечь сверху, на промежуток между двумя, и тяжестью тела мало-помалу выдавить свое прежнее местечко на кровати. Переворотиться на другой бок было дело несбыточное: на какой бок лег, засыпая, – с того и встанешь, проснувшись поутру.
Полы в комнатах не мылись, а вытирались кирпичом и после того высыпались песком, что лежало на обязанности воспитанников, как равно чистить себе платье, обувь, ружье и всю свою амуницию. Чесотка, цинга, зоб, простуда были господствующие болезни, особливо последняя <…>. Как было не простудиться даже неизнеженному крепкого телосложения взрослому воспитаннику? Второй батальон помещался в деревянных казармах, нештукатуреных, сложенных на мхе, рота – в отдельной казарме; печи топили один раз в сутки даже в самые жестокие морозы, обыкновенно за час до света, отчего ночью было холоднее, нежели днем. Одеяла из солдатского шинельного сукна – не на каждого воспитанника, а одно на кровать – не могли согреть ночью в холодных казармах, притом экономно отапливаемых. Шинелей не было, и не позволяли иметь собственных. Отхожие места устроены отдельно, в которые ходили чрез открытый двор. Считаю излишним объяснять, в чем ходили в отхожие места ночью полусонные воспитанники, у которых даже одеяла были не на каждого, а мундир и принадлежности к нему лежали на столе, складенные в требуемом порядке симметрией по распоряжению начальства, за чем строго наблюдал старший в камере унтер-офицер и дежурный по роте – и это в Петербурге, где зимой бывает до 30 градусов мороза! Обедали и ужинали в общей зале с кадетами, в которую нужно было пройти улицей более ста сажень и потом холодными коридорами поротно, строем, рота за ротой. Какая бы ни была погода – дождь, метель, сильный мороз, хочешь ли, не хочешь есть – иди непременно; а сядешь за стол – зимой холодно, во всякое время года голодно, крайне невкусно и нечисто изготовлено, особливо ужин. Зато госпиталь Дворянского полка был наполнен больными воспитанниками донельзя <…>, а Маркевич за свое короткое управление скопил миллион рублей благоразумной экономией. <…>
Воспитанникам Дворянского полка давали мундир, штаны и краги на один год и белые парусинные штиблеты – на лето; две пары сапог толстой кожи, сшитых без мерки, что называется, на живую нитку, вместо которых большая часть воспитанников носили собственные, на заказ сшитые. Рубахи, подштанники с длинными пришивными бумажными чулками и простыни переменялись сперва один раз в неделю, а уже впоследствии два раза (по воскресеньям и средам).
От тесноты помещения и других причин в 1815 году завелась чесотка у всех воспитанников Дворянского полка, в большей или меньшей степени у одного противу другого. Очистили особое помещение в казармах под названием карантина, куда помещали одних тех, у которых чесотка распространилась по всему телу, а у кого она была только на одних кистях рук, те оставались в своих ротах и только ходили в особый отдел карантина мыть руки в щелоке и принимать внутрь серный порошок. У некоторых чесотка доходила даже до злокачественных ран; таких отправляли в госпиталь. Зараза продолжалась до 1817 года. Она начала ослабевать, когда стали чаще менять белье, мыть полы, когда помещение в казармах пришло в то нормальное положение, что кровать была уже на одного воспитанника; а также тогда, когда число воспитанников Дворянского полка уменьшилось выпусками в офицеры <…> и гораздо меньшей прибылью вновь определяющихся по распространившимся слухам о дурном содержании воспитанников: случилось, что один воспитанник, Мячиков, застрелился с отчаяния, что оставлен от выпуску по малому росту и должен пробыть еще один год в том месте, которое сделалось ему уже невыносимым, – застрелился из казенного ружья. <…> Об этом происшествии многие воспитанники писали своим родным, а те разнесли по своим соседям, и таким образом узнала почти вся Россия. <…>
Определившись в ноябре 1815 года, с апреля 1816 года я уже участвовал во всех ротных, батальонных и полковых учениях. В том же 1816 году брат выпущен офицером в Нарвский пехотный полк, квартировавший в то время в Полтавской губернии. Год прошел для меня едва заметно – тяжелый для новичка слабого здоровья по климату, непривычке к строгой военной дисциплине, тесноте помещения – вообще по дурному содержанию в то время в Дворянском полку. Кормили нас нельзя сказать, что недостаточно. Супу или щей давали вдоволь – сколько бы кто ни требовал себе; но о них можно по справедливости выразиться пословицей: «За вкус не берусь, а подавались горячи». За щами, супом следовала говядина (вареная) – около четверти фунта на человека – обрезная, жесткая, разжевать которую требовались добрые зубы, а переварить – исправный желудок. Второе блюдо было под названием соуса… с пребывания моего в Дворянском полку я не могу есть ничего, приправленного соусами, как бы ни был голоден. Последнее блюдо было – кусок пирога, или по четыре пышки <…> – сносное блюдо, но которое не могло утолить голод воспитанника после четырех-пятичасового ученья на плацу, по безвкусию других кушаньев. Но это обед, а ужин состоял из тех же пустых щей или супу и пирога с гречневой кашей, получившего название «пирога с навозом», – ужин, от которого даже крайне голодный готов был отказаться, а тем более ради его идти в ненастье или трескучий мороз в 9 часов вечера в холодную залу: «игра не стоила свечей». По вторникам на ужин вместо «пирога с навозом» подавали гречневую кашу (крутую и размазню) и к ней ложки по две топленого масла. Кашу ели немногие, а большей частью захолаживали доставшееся масло квасом на тарелке, потом сбивали ложкой, пока побелеет, и ели с хлебом там или же уносили с собою в казарму, оставляя на завтрак. Хлеб был постоянно хороший, а квас – довольно сносный напиток, когда нет лучшего. Хлеба давали достаточно – один большой хлеб на десятерых, а квасу – пей за обедом и ужином, сколько кому угодно. На завтрак – несколько меньше хлеб и ничего больше.
На содержание кадета отпускалось из казны столько же денег, как и на воспитанника Дворянского полка. Для кадет готовили те же блюда, на той же кухне и те же повара, но не знаю, почему нас кормили гораздо хуже, нежели кадет. В столовой зале помещалось около тысячи человек; но как в одном Дворянском полку было более двух тысяч воспитанников, то кадеты ходили постоянно за первый стол, а два батальона Дворянского полка и Дворянский кавалерийский эскадрон – за второй, третий и четвертый, чередуясь между собой понедельно. На первый стол подавали все кушанья вкуснее и чаще изготовленные; выбирали лучшую говядину и большие куски, оставляя худшую для второго, третьего и четвертого столов, подливая в щи, суп и соусы теплой воды – до безвкусия. У двух рот, сидевших на средине залы, были ложки, солонки и бокалы (для питья квасу) серебряные, а у последних, которые сидели за ними, – оловянные. Столы стояли в четыре ряда – в длину столовой, каждый стол для 11 человек и двух унтер-офицеров, а весь ряд столов для одной роты, с необходимыми промежутками для разноса кушанья; посредине между двух рот был оставлен широкий промежуток, по которому ходили дежурные по полку и батальону для порядка и тишины во время обеда и ужина. <…>
При мне воспитанники Дворянского полка и Дворянского кавалерийского эскадрона несколько раз сговаривались ничего не есть за обедом и ужином, кроме хлеба с квасом, и так держались по нескольку дней, пока не подадут вкуснее и чище изготовленных кушаньев. <…>
С объявлением выпуска в офицеры формировали новую гренадерскую роту из мушкетерских рот того же батальона. Чтобы попасть в гренадеры, была необходима рекомендация ротного начальника о хорошем поведении и знании фронтовой службы, сколько требуется от нижнего чина, и особо выдержать экзамен, которым требовалось бегло читать по-русски, писать под диктовку без ошибок, первые четыре правила арифметики с дробями и рекрутскую школу. И этот легкий экзамен был камнем преткновения для некоторых; так что они засиживались в мушкетерских ротах года по три и по неспособности к военной службе увольнялись с четырнадцатым классом. <…>
В феврале 1817 года я произведен в гренадеры. Гренадерской ротой второго батальона командовал капитан Щепин, небольшого роста, болезненный человек, за всем тем энергический, хладнокровный, настойчивый. Несмотря на то что гренадеры уже прошли солдатскую школу еще в мушкетерских ротах, Щепин мучил нас постоянно длинным ученьем; до начала батальонного ученья наша рота уходила с учебного поля последней, нередко часом-двумя позже других рот. Каждый ружейный прием, каждое казавшееся ему не отлично сделанное построение он повторял по нескольку раз сряду, пока, бывало, не добьется до своего – как ему хотелось, настаивая терпеливо, с постоянной улыбочкой на устах и говоря при этом: «Не знаю, кто скорее устанет – вы ли, господа, исполняя мою команду, или я, командуя вами!» Он мучил себя и нас долгим ученьем, конечно, из желания отличиться пред другими ротными начальниками; но мне, а может быть, и другим метода его ученья пригодилась или принесла большую пользу впоследствии, когда я командовал ротой. На бывших смотрах в первой половине июня 2-я гренадерская рота признана первой в Дворянском полку во всем, до фронта относящемся. Сначала мы не полюбили Щепина; но скоро примирились с ним за его вежливое обращение, справедливость к нам.
В 1817 году смотрел Дворянский полк цесаревич Константин Павлович и остался очень доволен его ученьем, а вскоре за ним – государь император. <…> На третий день после смотра объявлен выпуск в офицеры из Дворянского полка (второй в 1817 году) – 300 человек. Всех гренадер (двух рот), унтер-офицеров и фельдфебелей, готовившихся к выпуску, было более 500, почему многие должны были остаться еще на год в Дворянском полку или до следующего выпуска, в числе которых и я, обракованный по малому росту и детскому телосложению, что было справедливо по моим настоящим летам.
При сформировании новой гренадерской роты я произведен в унтер-офицеры в 5-ю мушкетерскую роту, которой командовал капитан Вильк – оригинал своего рода. Его кадеты не уважали и не боялись, прозвали козлом. Отчасти он и походил на козла, когда, бывало, задумает принять на себя военный вид пред фронтом своей роты, натопырится, отдавая приказание своему подчиненному, удостаивая его ответом своим; но, быть может, эта кличка дана ему и по другой причине, более или менее основательной.

Офицеры Гренадерского полка.
Рисунок
В конце января месяца 1819 года объявлен выпуск в офицеры из Дворянского полка 500 воспитанников, в числе которых наконец вышел и я, пробыв в нем три с половиною года. В марте повели нас в Зимний дворец в кадетской форме, поместили в Георгиевском зале. Осмотрев нас, государь император поздравил всех прапорщиками. В то время мосты были разведены; нас посадили на какое-то судно и высадили противу дворца. То же судно перевезло нас обратно на Петербургскую сторону. Переезжая Неву, в первый раз я видел пароход на ходу, в то время едва ли не единственный во всей России.
Обмундировав в офицерскую форму, нас снова водили в Зимний дворец. В оба раза незабвенной памяти государь император Александр Павлович был весел, несколько раз прошелся по рядам воспитанников и так был милостив, что разговаривал со многими. В последний смотр сказал нам: «Прошу вас, господа, служить хорошо, усердно заниматься своим делом! Я дорожу офицерами – воспитанниками корпусов, и если кто из вас будет нуждаться впоследствии, то пишите ко мне откровенно, в собственные руки». Крайняя нужда предстояла впереди многим, но, по пословице: «До Бога – высоко, а до царя – далеко», кто бы из нас осмелился писать <…>?! О производстве моем в прапорщики с назначением в Полоцкий пехотный полк состоялся высочайший приказ 15 апреля 1819 года…
Первое Павловское военное училище
Павловское военное училище (1794–1917) – пехотное военное училище Российской империи, в Петербурге.
Юнкерские годы
(В. С. Кривенко, 1854–1931)
[43]43
Кривенко В.С. Юнкерские годы. 25 лет назад. СПб., 1898.
[Закрыть]
…После окончания курса в одной из провинциальных военных гимназий я приехал в Петербург в военное училище один, без товарищей, которые под руководством воспитателя «привезены» были ранее меня на несколько дней. Прямо с вокзала я направился в училище. Невский проспект меня не особенно поразил, по картинам и иллюстрациям я знал уже его, знал и столичные монументы; здание же училища показалось мне очень некрасиво, а подъезд и вестибюль очень небольшими по сравнению с тем, что я ожидал встретить.
Из-под маленькой лестницы, из своей конуры, откуда тянуло жареным кофе, выскочил старик-швейцар в красной ливрее и указал, как найти дежурного офицера. Пройдя через небольшую приемную, я уперся в большой стол, за которым сидел насупившийся, свирепый на вид капитан с лицом, обильно заросшим черными волосами. Офицер резко оборвал мою речь и приказал отправиться в роту.
Этот неласковый прием обдал меня холодом и укрепил желание скорее перебираться из «академии шагистики» в инженерное училище, на что я имел право. О своем желании я заявил по начальству и был убежден, что через несколько дней буду переведен, но вышло совсем иное. Меня позвали к начальнику заведения <А. В. Приговскому>, очень мягкому и доброму человеку, который заговорил со мною языком военно-гимназического воспитателя и советовал остаться под его началом, рисуя передо мною в будущем радужные картины. Говорил генерал очень хорошо, хотя имел дурную привычку прерывать плавно льющуюся речь какими-то, видимо ободрявшими его, звуками «пхе-пхе».
Корпусные товарищи отстаивали точку зрения начальника и окончательно убедили меня, махнув рукой пока на инженеров, оставаться <…>.
Кадетские страхи о строгости порядков «академии шагистики» оказались сильно преувеличенными. Мы здесь чувствовали себя несравненно свободнее, чем в военной гимназии. Не ограничиваясь ротным помещением, можно было бродить по длиннейшим коридорам и дортуарам всего исторического здания, гулять на громадном плацу и в саду. Любителей гулянья, впрочем, насчитывалось не особенно много, в особенности не в ясную погоду. Бывало, в свежее утро выскочишь в одном «бушлате» в сад, заложишь руки в обшлага и быстро маршируешь по пустым почти аллеям, встречая лишь сосредоточенные лица военных мечтателей, бродящих, точно послушники за монастырской стеной. В саду и на плацу тишина, а оттуда, из города, доносится вечный шум водопада – грохот столичных экипажей.
В числе немаловажных преимуществ училища, по сравнению с военной гимназией, был значительно более вкусный и обильный стол. В то время как в нашей военной гимназии полагалось на продовольствие человека в сутки коп., в училище выдавали ровно вдвое – 25 коп. Деньги небольшие, но в массе можно было кормиться. Кухней заведовали выборные из юнкеров артельщики, и, кроме того, по общей батальонной кухне назначался дежурный, который в этот день ел за четверых…
Меню обедов составляли юнкера, не отличавшиеся изобретательностью. Котлеты играли выдающуюся роль…
В торжественные дни[44]44
Торжественные дни – праздники, связанные с членами российской императорской фамилии (рождение, тезоименитство, восшествие на престол, коронование), а также главные церковные праздники.
[Закрыть] в громадной, сводчатой столовой играл оркестр, а юнкера заказывали, как особенный деликатес, кофе на молоке и шоколаде. Шутники уверяли, что училищные повара ухитрялись в одном кофейнике сразу варить и шоколад, и кофе… Разницы во вкусе не было никакой.
За плату у повара, не всегда впрочем, можно было получить пельмени и котлеты. <…>
В училище за каждым шагом уже не следил воспитатель. На все четыре роты был лишь один дежурный офицер, который раз или два в день обходил роты, а затем сидел в дежурной комнате. Офицеры не мозолили нам глаза своим присутствием, но зато, в случаях соприкосновения с ними, требовалось безусловное послушание и точное, беспрекословное исполнение всех требований. В случае недоразумений доказывать начальству свое право, «объясняться» было немыслимо. Исключение практиковалось лишь по отношению к преподавателям. Опоздать хотя на минуту в строй считалось преступлением. Вообще, в нашем училище на юнкеров смотрели не так, как прежде на кадет специальных классов, а как на лиц, действительно состоящих на военной службе, и потому строгая дисциплина проводилась систематичной, сильной рукой. <…>
Начальник училища ежедневно делал обход заведения, но не для «разноса» и устрашения, а больше для смягчения нравов. Всех юнкеров он знал не только по фамилиям, но и по успехам в науках. Плохо занимавшимся совестно было попадаться на глаза генералу, и они спешили заблаговременно скрыться и уклониться от отеческих нравоучений. <…> Начальник училища не выносил фигуры юнкера с опущенными в карманы руками, свист также выводил обыкновенного генерала из себя. <…>
Генерал любил искусство. Он поощрял музыкальное развитие. Устраивал юнкерский оркестр и очень покровительствовал певчим, предоставлял им лишний раз в неделю ходить в отпуск и на казенный счет давал ложи в оперу. Благодаря его стараниям и усилиям Николая Ивановича С-ва, вечно розовенького и аккуратненького учителя пения, юнкера пели на двух клиросах. На спевках все шло превосходно, но в церкви Николай Иванович не дирижировал, и некоторые яростные басы своим ревом портили иногда общий ансамбль.
В некоторых учебных заведениях существует и до сих пор взятое от немцев начальническое отношение старшего курса к младшему. У нас в училище этого положительно не было. В роте имели авторитетный голос фельдфебель и дежурный юнкер; другие же в офицеров не играли, и я не припомню случая присвоения себе старшим курсом каких-нибудь начальнических прав.
На фельдфебеле же и дежурном лежала очень трудная и щекотливая обязанность сохранять полный порядок и спокойствие в роте. Нужно было иметь много такта и силы воли, чтобы выйти победителем из этого положения.
При моем поступлении в училище фельдфебелем в нашей роте был Нал-н, стройный, бравый юнкер со смеющимися голубыми глазами и приятным голосом. Помню, с большим почтением приблизился я к его единственному в дортуаре письменному столику около постели, украшенной красной именной дощечкой, в отличие от синих, простых юнкерских, и сине-красных – портупей-юнкеров[45]45
Портупей-юнкер – звание, присваивавшееся за отличие юнкерам, уже имевшим чин унтер-офицера или фельдфебеля.
[Закрыть]. Нал-н быстро меня ободрил, и потом мы с ним очень сошлись. Он всей душой стремился из Петербурга, который, несмотря на то, что вырос в нем, органически ненавидел. Мечты о Кавказе и Туркестане, о казачестве, о боевой, бивуачной жизни одолели его настолько, что он бросил заниматься науками и все время, свободное от лекций и строевых учений, посвящал чтению путешествий, военной истории и атлетическим упражнениям. <…>
Два старших портупей-юнкера Ст-ч и Кин-в были соединены узами самой нежной дружбы, учились превосходно, вели себя безукоризненно и обещали сделаться образцовыми гвардейскими офицерами. Оба они были петербургские уроженцы и потому при первой возможности исчезали в отпуск. <…> Для соблюдения порядка в роте в помощь дежурному ежедневно назначались в его распоряжение два дневальных. Целые сутки приходилось ходить затянутыми в портупею, с неудобным тесаком и в кепи с султаном. Все бы это ничего, если бы не бодрствованье ночью, что для кадет, привыкших в военной гимназии ложиться в 9 часов, казалось очень тяжело. Неприятна была также обязанность будить юнкеров, в особенности после обеда. В течение дня строго было запрещено ложиться и даже садиться на постель; исключение делалось лишь после обеда, когда, по усмотрению дежурного офицера, разрешалось спать от получаса до часу. Этой льготой некоторые юнкера очень дорожили, несмотря на юный возраст, скоро приучились заваливаться после обеда спать, точно отяжелевшие майоры, и с благодарностью относились к тому офицеру, который давал больший срок для dolce far niente[46]46
Приятной праздности (ит.).
[Закрыть]. Поднять на ноги таких разоспавшихся «майоров» было очень трудно, приходилось несколько раз обходить дортуар, тормошить российских лентяев и выслушивать в ответ или неприятности, или воззвания к человеколюбию и к чувствам товарищества.
Ночью, когда все вокруг погружалось в здоровый молодой сон и лампы еле-еле освещали громадный зал, в уголку, у коптящего ночника, обрисовывалась фигура дневального в кепи с султаном[47]47
Султан – пучок перьев или стоячих конских волос – украшение на воинском головном уборе; обычно надевался только на смотрах, парадах и в иных торжественных случаях.
[Закрыть] и в серой шинели. Некоторые из дневальных на дежурстве клевали носом, но это было опасное занятие, так как можно было прозевать обход дежурного офицера и тогда в результате пришлось бы «получить несколько лишек», то есть не в очередь быть назначенным на дневальство. <…>
К главному старинному зданию училища примыкала под прямым углом двухэтажная пристройка, в которой помещались «классы». Бесконечный верстовой коридор, тянувшийся по всему почти дому, поворачивал сюда и обводил заботливым бордюром все учебные комнаты. Здесь уже не было глянцевого паркета, вместо него виднелся некрашеный пол, классная мебель также не отличалась ни изяществом, ни удобством. Несмотря на установившееся за училищем реноме[48]48
Реноме (от фр. renomme) – закрепившееся определенное мнение о человеке, группе людей или заведении вообще.
[Закрыть] «академии шагистики, а не наук», все-таки центр деятельности заведения был не в залах, не в манежах, не на плацу и военном поле, а здесь, в этих неказистых «классах». Самые заматерелые «фронтовики» уже понимали, что сила в голове, а не в носке… Какое бы значение начальство ни придавало строевым занятиям, но успех мог иметь только юнкер, хорошо аттестованный в науках, и отличные отметки не приносили желанных портупей-юнкерских нашивок лишь исключительным вахлакам и физическим неудачникам.
Некоторые предметы читались не в «классах», а в довольно обширных аудиториях, где собирался весь курс. Здесь в первый год мы слушали историю, статистику, законоведение, а впоследствии артиллерию и долговременную фортификацию.
Нам нравился, в особенности сначала, внушительный вид аудитории, наполненной многочисленными слушателями. Это уже не были корпусные лекции, перемешанные ответами учеников, замечаниями и выговорами преподавателя-учителя; здесь уже в течение часа профессор стремился произвести на нас впечатление своим красноречием и своей эрудицией.
Впрочем, артиллерист Ш., большой оригинал, держал себя иначе и не бил на эффекты. Он довольно часто обращался к слушателям и задавал всему курсу разнообразные вопросы, конечно, не с тем, чтобы делать оценку знаний, а желая лишь удостовериться в понимании. На неудачный ответ он разражался резкими выходками, вызывавшими юнкеров на возражение. Впрочем, он и перед офицерами не особенно сдерживался и непонимание и неточность выражений казнил беспощадно. Несмотря на полковничий чин, ученый артиллерист далек был от дисциплинарных правил и нисколько не смущался отсутствием чинопочитания к нему. Прежде он был грозой на репетициях и экзаменах и беспощадно казнил непонимание сложных математических выводов и положений. Один из юнкеров, потерпевший у него на экзамене, застрелился, и с тех пор полковник отказался от роли экзаменатора, баллов не ставил и лишь читал в аудитории, причем мы должны были следить за ним по особому печатному конспекту с вклеенными в него чистыми листами для записывания деталей. На лекциях Ш. присутствовали преподаватели-репетиторы, дававшие нам потом в «классах» пояснения. <…>
Кроме истории, статистики и Закона Божьего, из общеобразовательных предметов нам читали еще законоведение и историю русской литературы, да кроме того, обязательны были занятия по немецкому и французскому языкам. Вся совокупность этих предметов отнимала от нашей школы специально военный оттенок и придавала учебным занятиям много интереса. Хотя эти общеобразовательные науки и считались второстепенными, но тем не менее, за исключением, к сожалению, иностранных языков, на эти предметы в училище обращали внимание, и по требованиям на репетициях ничем они не отличались от специально военных.
Вообще вся учебная программа военного училища была выработана превосходно и давала возможность военным гимназистам докончить общее образование и осмысленно ознакомиться с основами военных наук. Средних способностей юнкер должен был поменьше развлекаться и усидчиво работать, чтобы не отставать от курса. Репетиционная система подбодряла малодушных и не позволяла запускать подготовку в долгий ящик; даже не имевшие никакого влечения к науке поневоле принимались за книги, а еще охотнее пристраивались к какому-нибудь «прилежному», который из чувства товарищеской поддержки, а также из желания проверить свои знания «объяснял» беспечным. Встречались из последних такие, которые так, «с голоса», не развертывая учебников, проходили весь курс, и иногда весьма удовлетворительно. <…>
В отпуск можно было ходить два раза, а певчим даже три раза в неделю. Большинство юнкеров были из провинциальных корпусов, не имели никаких знакомых семейных домов и потому выходили из училища только пофланировать по городу или в театр.
Во всей громадной столице у меня не было не только ни одного родственника, но ни одного знакомого, исключая, конечно, юнкеров. За двухлетнее пребывание в училище я все время находился точно на военном корабле. Время от времени заходил в новый порт, съезжал на берег, ходил по главным улицам иностранного города, кишевшего совершенно чужими мне людьми; а затем опять на шлюпку, опять в корабельную обстановку…
Там, далеко-далеко, на Кавказе, были родной угол, родная семья, от которой образовательная повинность оторвала меня с десяти лет. В милой Полтаве, в которой я воспитывался, также издали улыбались мне знакомые лица добрых, хлебосольных горожан и хуторян, приветливо относившихся к «своим кадетам». А в Петербурге никто на нас не обращал внимания. Никто, никто! Будущий генерал, быть может, фельдмаршал едет по улице, и на его серую солдатскую шинель, на его несчастное кепи с жалким султаном никто и не взглянет. Много было предметов более интересных. Подождите же, петербуржцы, узнаете вы нас!.. Но столичная толпа оставалась по-прежнему далека нам и не подозревала о чувствах, клокотавших в груди «молоденьких солдатиков»…
Товарищи мои были люди малосостоятельные, за малым исключением – беднота, получавшая из дому от своих отцов-офицеров незначительные суммы; но тем не менее денежные повестки ожидались с большим нетерпением.
Вместе с «синенькими»[49]49
«Синенькая» бумажка – пять рублей (по цвету ассигнации).
[Закрыть] и «красненькими» бумажками[50]50
«Красненькая» бумажка – десять рублей (по цвету ассигнации).
[Закрыть] юнкер получал и письма, большей частью наставительного характера, на тему о необходимости экономии, так как «жалованье у отца небольшое и другие дети подрастают». Большинство с грустно-сосредоточенными лицами углублялись в чтение весточек из далекого дома; но об экономии скоро забывали и быстро проедали бумажки. Все это мотовство не превосходило десятков рублей… Общее экономическое состояние родителей юнкеров было почти одинаковое, не особенно завидное. Те кадеты, которые были посостоятельнее, поступали в кавалерийское училище <…>.
Богатство, просто даже комфорт были так от нас далеки, что мы об этом даже и не мечтали. Столичная роскошь казалась нам созданною для другой породы совсем чуждых нам людей, а не для бывших кадет и юнкеров, которым суждено весь век жить на скромное жалованье. Помню твердо: богатству мы не завидовали, у нас были другие, нематериальные, но радостные приманки в жизни.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































