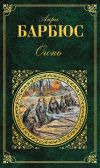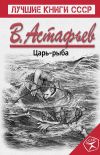Текст книги "Прокляты и убиты"

Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Виктор Петрович Астафьев
Прокляты и убиты
Расскажу о себе сам…
Автобиография
По деревенскому преданию, мой прадед Яков Максимович Астафьев (Мазов) пришел в Сибирь из Каргопольского уезда Архангельской губернии со слепою бабушкой как поводырь. Происходил он из старообрядческой семьи, не пил горькую, не курил, молился наособицу, был от рождения башковит и в преклонном возрасте тучен телом.
Еще будучи подростком, похоронив или с кем-то оставив бабушку (говаривали, что он с нею еще и в Овсянку переселился, но точных данных на этот счет нету, а очевидцы давно все померли), так вот, будучи еще подростком, прадед мой подался в верховские енисейские села, где нанимался работником на водяные мельницы. Там он освоил мельничное дело и заработал денег, которые зашил в драную меховую шапку и бросал ее где попало, чтобы капитал не украли и капиталиста не ограбили. Об этом со смехом рассказывал мой дедушка Павел Яковлевич Астафьев, единственный сын Мазовых Анны и Якова.
На капиталы, нажитые трудом праведным, Яков Максимович построил мельницу на речке Бадалык за городом Красноярском. Город бурно строился и развивался, леса вокруг него вырубались на строительство и выжигались под пашню. Речка Бадалык измельчилась, летами начала пересыхать. Мельничных мощностей хватало смолоть мешок зерна, а потом ждать накопления воды в пруду. В конце концов Яков Максимович бросил мельницу на Бадалыке и пошел искать новое место. Побывал он в селах Торгашино, Есаулово и еще где-то, везде на речках стояли мельницы и работали с полной нагрузкой. Прадед пошел в село Базаиху, а там на речке Базаихе стоят уже две мельницы, и одна их них на механическом ходу.
Были у прадеда в Базаихе родственники или знакомые, и они подсказали ему, что за перевалом бурно развивается село Овсянка, а мельницы в нем вроде и нету. Яков Максимович построил на краю села Овсянка маленькую избушку. И то ли оттого, что она была в пазах мазана глиной, иль потому, что примазался к селу, его здесь назвали Мазовым, а все его потомство, и меня в том числе, звали Мазовскими. Я не только поносил в детстве прозвище Витька Мазовский, но и пережил избушку прадеда. Еще в 1980 году, когда я переехал из Вологды на родину, избушка – подлаженная, с фундаментом и верандочкою и все еще мазанная по пазам – стояла на месте. Но затем ее продали хозяева, наездом бывавшие в ней, и на месте ее сейчас стоит кирпичный особняк в два этажа, пустующий и летом, и зимою. Кто-то вложил в это сооружение ворованные деньги и затаился.
Прадед же, Яков Максимович, переселившись в Овсянку, начал осваивать речку Большую Слизневку, которая в то время называлась Селезневкой. Был прадед могутен и трудолюбив, он на себе таскал бревна из лесу, а в прежние времена лес произрастал прямо от овсянской околицы и до обеих речек Малой и Большой Слизневки. Помню я, что Большая Слизневка была по обоим берегам заросшая красивым сосняком. Несколько сосен с обрубленными сучьями, напоминающие нищенку иль употребленную на ходу проститутку, еще стоят по огородам нынешнего поселка, где леспромхозовских рабочих и сплавщиков с их устарелыми хибарами окружили и под гору спустили со всех сторон напирающие, нахрапистые дачники, и где еще сохранился бугорок от насыпи, а в правом берегу часть сруба мельничной плотины.
Дед мой, Павел Яковлевич Астафьев, с детства человек бедовый, в детстве же потерявший глаз (левый), от пыльного, дисциплины требующего мельничного труда увильнул. Обучился играть на гармошке, плясать босиком (это считалось особым шиком в Овсянке), рано начал жениться и творить детей. И то ли роковым он был человеком, то ли диким темпераментом обладал и загонял жен до гробовой доски, но только одна за другой его жены мерли. И дело дошло до того, что ни в одном овсянском доме, ни одну девку в роковой дом не отдавали. Я не помню, где был первый дом деда, но тот, что был построен в начале двадцатых годов на берегу Енисея, помню довольно ясно, дом этот есть на фотографии овсянской школы. Судьбе было угодно часто шутить надо мною, и, не иначе как в шутку, первоклашкой ходил я в родной дом. Сейчас на месте этого давно сгубленного дома стоит двухэтажный особняк, построенный местной самогонщицей для своего сыночка, тоже промышляющего подпольным торговым делом и отравляющего впавших в пьянку паленкой, то есть древесным спиртом. Ему уже и самогонку гнать не надо, хотя под домом он устроил целое бетонное помещение для самогонного цеха. Вероятно, сейчас там склад с бочонками травленой жидкости.
Ну да бог с ними, с этими жлобами, что заполонили мое родное село, наседающими на него со всех сторон особняками, виллами и современными дворцами. А когда-то наш дом с первою в деревне терраской был самым видным и, однако, самым шумным. Дед Павел, устремясь к торговому делу, сшибал какие-то подряды, пытался проникнуть в потребиловку и винополку, на недолгое время проникал, но в силу сверхобщительного характера и склонности царить в винополке не только на правах хозяина, но и потребителя быстренько оттудова вылетал. Старший его сын и мой отец, Петр Павлович, был из дома отца изъят Яковом Максимовичем и под крылом его, лупимый часто кулаком, порой и палкою, обучен мельничному делу – как оказалось впоследствии, на беду и горе нашей семьи.
Когда пала третья жена Павла Яковлевича, остался полный дом детей, приблудного люду. Печник Махунцов, например, знаменитая на всю округу личность, годами тут обретался. А во дворе ревела и била стойла некормленая скотина. Дед проделал еще одну дерзкую операцию – раз за него никто замуж не идет, женил старшего сына на Лидии Ильиничне Потылицыной, моей будущей маме. Так вот в содомном, часто пьяном доме моего деда появилась работница из большой, трудовой и крепкой семьи. И хотя ломила она работу день и ночь, справиться с таким разгильдяйским домом и хозяйством одна была не в силах. И тогда дед задумал и провел еще одну очень простую, но предерзкую операцию.
Надев все «выходное» на себя, начистив хромовые сапоги, прихватив гармошку, он с верховскими обозниками подался вверх по Енисею искать себе жену. На самом Енисее ничего у него не получилось, и он, как опытный стрелок и рыбак, ринулся на его притоки, где и сопутствовала ему удача.
На волшебно-красивой реке Сиси, в одноименном селе, ныне не существующем – затоплено, – высватал он сироту, вошедшую в лета и уже немалые, Марию Егоровну Осипову. Поскольку дед был человеком с коммерческими наклонностями, для начала наполовину обсчитал ее на детях. «Бабушка из Сисима», – так звал я ее маленький, так и написал на ее могильной плите. Она была очень красива, бела лицом, нраву несколько скрытного и невероятная чистюля. Ох, сколько горя и мук она приняла за свою жизнь в семейке Астафьевых и за семейку Астафьевых!
Мария Егоровна обихаживала дом, стряпала, варила, стирала. Мама моя, почти ровесница свекрови, ломила во дворе, папа мой и дед Павел, свалив дом и хозяйство на двух молодых женщин, гуляли и плясали, хвастались ружьями, собаками и конями. Яков Максимович с мельницы почти не вылезал, видеть он не мог, как живут и правят жизнь в доме его сын и внук.
Папа мой был темпераментом награжден от отца своего и быстренько изладил маме двух девочек, но те не выдержали бурной жизни в мазовском доме и умерли маленькими, и я по сию пору не знаю, скорбеть ли по ним иль радоваться, что Бог их прибрал во младенческом возрасте. Однако я всю жизнь ощущал и ощущаю тоску по сестре и на всех женщин, которых любил и люблю, смотрю глазами брата. И они каким-то образом всегда это чувствовали, старались заменить мне сестер, и, видимо, не напрасно первой любовью наградил меня Господь к сестре милосердия, в госпитале.
Но вот пришла пора и мне родиться. В доме гульба, дым коромыслом, и мама ушла рожать в баню, благо это была одна из первых «белых» бань в деревне, и все завершилось благополучно. Дед Павел последнее время водился с городской знатью – зубоставами, парикмахерами, лавочниками, адвокатами иль скорее судебными ярыжками, на более высокое городское сословие он не тянул, но ему и этой шушеры вполне хватало для удовлетворения честолюбия и умной беседы.
Утром мама пришла в дом с узелком и показала деду его первого внука. Восторг, рев, звон бокалов, «аблокаты» вызвались меня крестить и дали мне модное городское имя. Я был первым на всю деревню Виктором. Федек, Петек, Сережек, особенно Колек и Иванов дополна, а Виктор один. Вероятно, роды были тяжелые – попробуй легко родить такого типа, как я. Через несколько дней мама вышла из горницы больная, бледная и, естественно, спросила, окрестили ль парнишку и если крестили, кто крестные, где они и как их звать.
Дед замельтешил, стушевался – имен крестных он не помнил, и тогда мама заплакала и сказала: ну ладно, с ней как с собачонкой обращаются, а с парнишкой-то зачем так? Маму дед уважал и всю жизнь вспоминал с почтением и виновностью перед нею. Он пошел в церковь и как-то уломал попа окрестить меня снова под тем же многозвучным, модно-городским именем. Поп, скорее всего, пьяных «аблокатов» всерьез за крестных не принял и в церковную книгу их не записал. Вторыми крестными у меня были сестра мамы Апраксинья Ильинична и юный брат отца Василий Павлович.
Какое-то время семья Мазовых жила мирно и спокойно. Мария Егоровна не убереглась от пылкого деда и родила сыночка, назвали его Николаем. В 1927 году отец мой съездил в устье Енисея под Гольчиху на рыбалку, изрядно заработал и по возвращении с путины широко загулял. Будучи деревенским красавчиком и маломальским гармонистом и плясуном, был он большой волокита, отчего сомневался во всех женщинах, в том числе и в маме. В компаниях он ее ревновал к мужикам и шиньгал все время, то есть щипал и толкал локтем. И дощипался до того, что однажды мама моя, человек твердого характера, но без вспыльчивости, что передалось и мне, сгребла мужа в беремя и потащила его топить в Енисей.
Отобрали добрые люди папу. «И здря, и здря отобрали», – заверяла потом бабушка моя, Екатерина Петровна, на дух не переносившая гулевого зятька. Несколько раз мама уходила из дома Мазовых, но, имея доброе сердце, начинала жалеть мазовских ребятишек, необихоженную скотину, тосковала по дому свекра, да и папу, видать, любила, на горе свое и беду, вот и возвращалась батрачить в надсадном хозяйстве Мазовых.
Тем временем на страну Россию, на село наше и на безалаберное семейство Мазовых надвинулись эпохальные события и перемены, началось раскулачивание и коллективизация. Везде и всюду по Руси великой мельник был первым кандидатом в кулаки, и Яков Максимович Мазов не избежал этой участи. Ему перевалило за сто, на мельнице он давно не работал, сдавал ее в аренду сельской общине, и в любом разум не потерявшем государстве трясти его, кулачить и затем из дома гнать было бы предосудительно. Но у нас все моральные устои – уважение к старости, понятия чести и совести как-то сразу и охотно были похерены. Оказались мы, русский народ, исторически к этому подготовлены. И уроки костолома сумасшедшего Ивана Грозного, и реформы пощады не знавшего Великого Петра, и затем кликушество народившейся интеллигенции, породившее безверие, высокомерное культурничество нигилистов, плавно перешедшее и переродившееся в народничество, метавшее бомбы направо и налево, наконец, наплыв на Россию революционеров сплошь нерусских, оголтелых фанатиков – не прошло даром.
Темная, неграмотная страна продрала спросонья очи и круто взялась за преобразованья, поднялась на борьбу не только за свое счастье, но и всего мирового пролетариата. Дед Мазов, дни и ночи игравший с бабкой Анной в карты и люто ее ревновавший, раньше-то некогда было – на мельнице обретался круглые сутки, времени на причуды не оставалось, вот он и наверстывал упущенное, изводил тоже столетнюю жену свою. Как вскоре оказалось, был он уже «не в себе», и когда Мазовых всем табором и его с женой вытряхнули из дому, не сразу догадался, что произошло. Его с бабкой Анной переселили в баню, и оттудова несся по окрестностям дребезжащий боевой напев: «Ето есь наш последний и решительный бой…» Кто завез на мельницу эту славную песню, дед уже не помнил.
Песенка эта так прилипла к деду Мазову, что и на пароходе «Спартак», везомый на Север, в ссылку, он, приплясывая в кальсонах на палубе, повторял и повторял эти слова…
А до этого была тяжелая высылка из дома, из разоренного села, в котором из 250 домов после завершения коллективизации осталось 85, остальные были сведены с земли, растасканы на дрова, сожжены ради потехи, но большей частью уплавлены со всем скарбом, иногда и с разобранной печью, в Красноярск. Закачинский поселок по улице Лассаля (ныне Брянская), вся почти Покровка, дальние окраины Николаевки выросли за счет сбежавших от коллективизации приенисейских крестьян.
Самая тяжкая ноша, или, точнее, доля, досталась Марии Егоровне, бабушке моей из Сисима.
Отец мой был с семьей отделен от семьи заранее предусмотрительным отцом, Павлом Яковлевичем, и семья наша обреталась в зимовье, где мама до высылки спасала ребятишек и стариков мазовских. Затем бдительная власть, пуще огня боящаяся своего народа, пересадила глав раскулаченных семейств в тюрьму. И Вася, мой крестный, вслед за отцом был посажен в тюрьму, как только ему исполнилось 16 лет. Бабушка из Сисима со всей оравой попала на пересылку в Николаевку. Там, неподалеку от кладбища, на пустыре был огорожен колючей проволокой загон, в котором томились тысячи семей спецпереселенцев. В загоне не было никаких построек, даже нужников не было. Люди растоптали, размесили загон, скоро тут началась дизентерия, подкрадывались и другие страшные болезни, которые преследовали и преследуют скученных, обездоленных людей.
Видимо, в загон загнали людей на короткое время, но бардак и разгильдяйство, порожденные советской властью и до се не изжитые, привели к тому, что люди начали гибнуть. Прежде всего дети. Их ночами выносили за проволоку и возле въезда складывали в кучи. Слово «сибиряк» в ту пору произносилось реже, чем сейчас, но истинные сибиряки были! Они, объявляя себя родственниками, разбирали и хоронили мертвых детей, помогали затворникам, чем могли, иных и выкупили у охранников, забрали к себе.
И вот избавление от нечаянного концлагеря – везут на Север, строить новый порт Игарку. Во главе мазовской оравы, где нет ни одного трудоспособного человека, и таких семей здесь большинство, – Мария Егоровна. Расположились удобно, в трюме, и ехали ладно до Енисейска и Подтесово. Там на пароход ввалилась орда пролетариев под названием «ирбованные» и подняла хай – как так, вражеский элемент расположен с комфортом, а сознательные советские трудящиеся загибаются на палубе.
Вытряхнули Марью Егоровну, вытряхнули из трюма вместе с помешавшимся стариком и ребятишками. Попали они табором за пароходную трубу. Пароход отапливали дровами, и, хотя на трубе была решетка, мелкие уголья вылетали наружу, падали на половики, одеялья, одежонку, которыми были укрыты спящие Мазовские. Бабушка обирала пальцами уголья, и, когда пароход пристал к берегу возле Черной речки на карантин, брюшки ее пальцев были сожжены до костей.
Все это и дальнейшая судьба Марии Егоровны и детей Мазовых описаны в «Последнем поклоне», «Краже», в рассказах, и повторяться нет надобности. Скажу только, что Мария Егоровна полной мерой изведала муки за чужую семью, за верность и преданность семье, из которой в Игарке смог работать только один Иван Павлович, четырнадцати лет от роду. Был он человеком неунывным, башковитым, скоро выучился на рубщика и стал зарабатывать деньги, кормить семью. Погиб он в Отечественную войну под Сталинградом и похоронен в братской могиле в деревне Селиванове, в 17 верстах от волжской твердыни.
Осенью, уже в начале октября, с шугой вместе прибыли из тюрьмы Павел Яковлевич и Василий Павлович. Марья Егоровна перевела дух, но рановато. Зима, лютая, заполярная, убавила семейство. Умер от цинги дед Мазов, мучительно и долго боролся за жизнь один из сыновей деда Павла горбатый Алеша, но на горбу у него открылся свищ, и он пал, приняв все муки, какие уготовила судьба ему, и без того несчастному человеку. Остальных Мария Егоровна сохранила, сберегла, прежде всего в люльке привезенного в ссылку сыночка своего, Николая.
А в это время в Овсянке преобразования и борьба за счастье человека набирали мощь и силу. По пустым избам гулял ветер, по селу гуляли местные коммунисты Ганька Болтухин, Шимка Вершков, хитро к ним прильнувший Федор Фокин, он же Федоран. И наша невестка, жена дяди Дмитрия Татьяна, женщина здоровая, четверых уже детей нарожавшая, но никакого внимания ни на них, ни на мужа, ни на дом (а жили они долго в зимовье, на подворье Потылицыных) не обращавшая. Вся она была охвачена революционным энтузиазмом, одной из первых вступила в партию и, поскольку была маленько грамотная, занимала какую-то должностишку в комбеде, активно боролась с кулачеством.
Лиза, одна из сестер моего отца, красивая и работящая деваха, гулявшая с хорошим парнем Федором Сидоровым, пристроилась к сидоровской семье. Папа и мама мои жили случайными заработками. Но вот наступили совсем тяжкие времена: пашни и огороды запущены, колхоз имени Щетинкина, наспех сколоченный, на ладан дышит, в деревне нечего жрать – мельница-то деда Мазова умолкнула, замерзла. Нашли, призвали моего папу мельничать, пообещав зачислить его и маму в колхоз, чему мама была безмерно рада. Но потрудиться ей на счастливой коллективной сельхозниве не довелось.
Папа мой, восстановив мельницу, снова загулял, закуролесил, не понимая текущего момента, и однажды сотворил аварию. Но мельница-то не его уже и не дедова – это уже социалистическая собственность. И папу посадили в тюрьму, в красноярскую, ту самую, что и сейчас красуется на проспекте Свободном. Мама нанималась на поденные работы, пилила дрова на продажу и плавила их в город, где собирала посылку заключенному мужу.
В 1931 году семью нашу постигла еще одна, всю нашу жизнь потрясшая трагедия: плывя с передачей в Красноярск, мама моя, Лидия Ильинична, утонула прямо напротив деревни. Вскоре отца осудили на пять лет как врага народа и послали на строительство Беломоро-Балтийского канала имени товарища Сталина.
В это тяжелое, смутное время случилась еще одна драма, впоследствии обернувшаяся трагедией. Федор Сидоров, муж Лизы, работавший в колхозе кладовщиком, сделал растрату. Был он человек добрый и отзывчивый: кому совок крупы, кому пудовку зерна даст взаймы, чтобы накормить голодных детей, а отдавать-то нечем. На нем и так висело клеймо «ненадежного человека», как же – женат на подкулачнице. Однажды Федор с Лизой из села бежали, оказались в городе Черемхово, сменили фамилию, достали документы, Федор работал шахтером, а Лиза поваром на той же шахте, где и муж.
Они родили двух детей, жили благополучно, насколько это можно в замордованной, несчастной стране. Накануне войны, в ночь на 22 июня, с Лизой случилось несчастье: паром, выбившимся из котла, ей ошпарило глаза. Какое-то время она жила и мучилась слепая, потом к ней привязался рак, и еще одну страдалицу, русскую женщину, смыло с забедованной русской земли.
В 1934 году, построив великий канал, папа возвратился из заключения, начал гулять и активно свататься. В деревне Бирюсе охмурил он молодую, красивую деваху из большой семьи Черкасовых, Таисью Ивановну, и быстренько сотворил ей младенца, которого без мудростей назвали Николаем. Хватили бед и горя и мачеха моя, и младенец Коля, и я вместе с ними. В повести «Перевал» почти с точностью описана первая зима, проведенная боевой семейкой в поселке Сосновка, в повести переименованном в Шипичиху.
В 1935 году нас унесло в Заполярье, на большие заработки. Что из этого получилось, можно узнать из повести «Последний поклон», прочитавши главы «Без приюта» и «Карасиная погибель».
В 1939 году утонул дед Павел, и вскоре подоспела война. Иван, а спустя год Василий угодили на фронт, где и погибли, защищая столь к ним любезное отечество.
Бабушка из Сисима, Мария Егоровна, с сыночком всю войну отбедовала в Игарке, а мой егозливый папа с неизлечимой страшной болезнью псориазом как-то умудрился попасть на фронт, командовал там сорокапяткой, был ранен в голову и из госпиталя комиссован домой, где вместе с пылкой мачехой, Таисьей Ивановной, сотворил еще четверых детей – двух парней и двух девочек. И они хватили горя не меньше, чем я, давно семьею отверженный и забытый.
В 1942 году я окончил железнодорожную школу ФЗО № 1 на станции Енисей и недолго проработал по распределению на пригородной станции Базаиха составителем поездов.
Отсюда добровольно ушел в армию, угодил сперва в 21-й стрелковый полк, располагавшийся под Бердском, а затем в 22-й автополк, что стоял в военном городке Новосибирска.
Весной 1943 года вместе со всем полком был отправлен на фронт и угодил в гаубичную 92-ю бригаду, переброшенную с Дальнего Востока, в которой и воевал до сентября 1944 года, выбыв из нее по тяжелому ранению.
Более в строй я не годился и начал мыкаться по нестроевым частям, которые то мне не подходили, то я им. Так продолжалось, покуда не угодил в военно-почтовую часть, располагавшуюся неподалеку от станции Жмеринка, в местечке Станиславчик. Здесь я повстречал военнослужащую Марию Семеновну Корякину, сразу же после демобилизации женился на ней и поехал на ее родину, в город Чусовой Пермской (в ту пору Молотовской) области. В этом городе мы прожили 18 лет, хватили полной мерой счастливой жизни в самом счастливом и свободном государстве под названием СССР.
Здесь родились и выросли наши дети – дочь Ирина и сын Андрей, а первого ребенка, дочку Лидию, названную в честь моей мамы, мы потеряли. И здесь же, в этом незабываемом городе, я начал пописывать, попал работать в местную газету «Чусовской рабочий», затем недолго поработал собкором Пермского областного радио. Здесь же в 1951 году опубликовал в «Чусовском рабочем» первый свой рассказ. Он был замечен, и я начал заниматься литературным трудом.
Отсюда, из города Чусового, осенью 1959 года я уехал учиться на Высшие литературные курсы в Москву, которые и окончил в 1961 году. Из тяжелого города с тяжелой промышленностью, загазованного, задымленного, где нравы и мораль не способствовали творческому труду, а даже, наоборот, угрюмой провинциальностью не прощали «выскочек» и вообще всякую грамоту, надо было уезжать.
Тянуло на родину, в Сибирь, но обстановка в красноярской писательской организации была как в зэковском бараке, где правят и мордуют всех, кто им не нравится, местные литературные паханы.
Остались на Урале, в Перми. Наконец-то дали нам квартиру-хрущевку, где работать даже такому неизбалованному сочинителю, как я, было невозможно. Стали искать домик в деревне. Мой давний покровитель, а затем и старший верный друг, главный редактор Молотовского издательства Борис Никандрович Назаровский предложил съездить за Камское водохранилище на винный завод, названный так потому, что еще при императрице Екатерине здесь курили вино. Ничего не скажешь, царевы подданные умели устраиваться! Винный завод, даже подтопленный водохранилищем, сохранивший с десяток домиков, стоял на шикарном месте. Песчаные пляжи по берегам, в лог втекал светлый ключ, сзади поселка могучий сосновый бор. Поскольку электричество и все достижения прогресса из-за образования нового моря-водохранилища были отключены и ликвидированы, заречные жители покинули свои гнездовья. Избы продавались по всему берегу. А уже начиналась дачная стихия, и как я представил себе, что будет делаться на этих берегах через десять лет, то и попросился куда-нибудь поглуше и попроще. Через желтоствольный бор, в котором велись черника, брусника, а по опушкам и возле дороги земляника, Борис Никандрович повел меня в почти уже опустевшую деревню Быковку, что стояла на берегах одноименной речки. По дороге я увидел, как много птиц и всего прочего обитало в бору, здесь был даже полуразбитый глухариный ток.
В деревне Быковке мы выбрали и купили вконец запущенную избу, да и как она могла быть незапущенной, если за последние годы в ней успело пожить тринадцать колхозников с семьями. Последний, четырнадцатый, был мельник, но мельницу он сгубил по пьянке, вовремя не отдолбив ворота для весенней воды, которая напором своим промыла часть плотины. Вода из пруда укатилась, мельница умолкла, да и молоть здесь уже было нечего и не для кого.
В Быковке, приведя избу в порядок, мы прообретались лет семь – как оказалось потом, самых плодотворных в моей работе и самых счастливых в нашей жизни. Здесь была еще приличная охота, в речке водилась рыба, природа была хоть и повреждена лесозаготовками, но еще не убита до конца. Но в море вырубок и уцелевших лесочков свирепствовал клещ, и у меня сразу двое – Марья Семеновна и ее племянник, выросший в нашей семье, – смертельно заболели энцефалитом. Спаслись оба, но по существу сделались инвалидами.
В Быковке я написал «Кражу», первую книгу «Последнего поклона», повесть «Пастух и пастушка», до десятка рассказов и там же начал писать «Затеси». Однако от Урала успел устать, дела в писательской организации после ухода на пенсию ее руководителя Клавдии Васильевны Рождественской шли к развалу, здесь царило пьянство и тунеядство, и я решил покинуть опостылевший мне край.
В 1969 году я переехал с женой и дочерью в Вологду, сын в это время служил в армии, племянник жены обзавелся семьей, которая скоро распалась. Связь с Уралом не ослабела по той причине, что у Марьи Семеновны остались там все родственники, и сын Андрей по возвращении из армии поступил в Пермский университет.
В Вологде мы прожили десять лет, очень для меня плодотворных и более или менее благополучных в смысле быта.
И чем дальше я жил среди вологжан, чем больше читал о «тихой моей родине» воистину сыновних признаний, написанных с преданной любовью, тем более ощущал, что живу все-таки вне дома своего. В это время я часто летал в Сибирь, еще было много родных в Овсянке и в городе. Писательская жизнь в Красноярске шла по-прежнему в склоках, все еще угнетали здешнюю литературу графоманы и нахрапистые партийцы, поддерживаемые крайкомом партии.
Борис Васильевич Гуськов, тогдашний заведующий отделом культуры крайкома, все настойчивей звал меня «домой». И однажды я поставил ему условие – квартиру за городом, желательно в Академгородке. Ибо, живя в центре Вологды, побыл уже в осаде графоманов и праздношатающихся творческих людей. Еще просил в дела мои не вмешиваться, помочь с ремонтом, с оформлением покупки дома в родном селе.
Дом этот, принадлежавший односельчанину Василию Юшкову, я уже подсмотрел давно и с хозяином его договорился – дом был запущенный, полугнилой, но в родном переулке, напротив дедова дома, где прошли мои самые памятные детские годы. В одной его половине жила моя тетка и крестная Апраксинья Ильинична.
Осенью 1980 года я переехал «домой». Марья Семеновна устраивала в Вологде детей и внуков, она это умеет делать лучше меня, и в Красноярск приехала гораздо позднее.
«Дома» мне сделалось спокойней и, поборов рутину, склоки, прямой и явный давеж со стороны крайкома, где уже устали «бороться» с местными писателями и охотно уступили поле брани тем, кто хотел навести здесь хоть какой-то порядок, удалось успокоить писателей, упорядочить творческую жизнь.
И сам я принялся жадно работать в своем домике в родном селе, совсем перестал ездить на Урал. Домик в Быковке отдали мы жене племянника, а она продала его другу нашего сына, который женился в Вологде, где и живет со своей семьей до сих пор. Деревенский же домик позапрошлой зимой спалили забравшиеся в него бомжи. И как-то остро я почувствовал еще одну заплатку, приклеившуюся к сердцу, – все же многое меня связывало с Уралом, а пока стоял дом в Быковке, связь эта была более осязаема. А вот в домике, иль точнее домишке, построенном мною в городе Чусовом, затеян литературный музей, и дела в нем, сколь мне известно, идут к завершению. Вообще на Урале после того, как я уехал, «любить» и даже ценить меня стали больше. А вот в Вологде вроде как обиделись, что я уехал, не понимая, что не одним им хочется жить дома и писать о своей Родине и любить ее не издаля, а живя и вместе с нею перебарывая время, перенося все страдания, муки и постоянное ощущение счастья соприкосновения с нею.
В Вологде похоронен мой отец, Петр Павлович. Досрочно освободившись из заключения, он завербовался в рыбаки на Каспий, долго жил в Астрахани, там снова женился и снова овдовел. Он в последующие годы почти каждое лето наезжал к нам в отпуск, очень любил жить в Быковке, а затем и в вологодской деревне, где я купил дом, и тоже все собирался «домой», в Сибирь. Но пить не перестал, оброс хворями и через пятнадцать лет совместной жизни, не дотянув года до моего приезда в Сибирь, скончался и поместился на городском кладбище, в сырой глине.
Умерли все родственники Марьи Семеновны на Урале, почти не стало близкой родни и у меня в Сибири. Лет шесть назад я похоронил в Дивногорске мачеху Таисью Ивановну, поместив ее рядом с дочерью Ниной и сыном Анатолием. Юная дочь ее была бойкая, красотка, в Петра Павловича удавшаяся. Мечтала стать альпинисткой и сорвалась со скалы, что против Дивногорска, с той самой скалы, на которой шибко любившими родную партию патриотами было крупно написано «Слава КПСС».
Анатолий умер от алкоголизма. Николай, старший сын мачехи, переехал из Игарки в Ярцево, растил двух парней, Владимира и Анатолия, но заболел раком и умер в мучениях двадцать с лишним лет назад. Одного из его сыновей, Владимира, убили в Афганистане, второй живет в Ярцево.
В Игарке живет и рыбачит один из средних сыновей отца – Владимир. Выехала из Игарки, живет и работает в Красноярске очень похожая на отца Галина Петровна.
Очень печальна судьба тех родичей и овсянцев, что были разорены и из родного дома выгнаны, в ссылки увезены, в бега ударились – Лиза, Елизавета Павловна, получив инвалидность, умерла от неизлечимой болезни в день начала войны, 22 июня 1941 года. Федор женился вторично и с новой женой нажил еще двух дочерей, одна из которых, названная Лизой, однажды написала мне письмо с Сахалина. И я ей послал ответ, но не надеясь, что женщине удастся разобрать мои каракули, попросил его напечатать на машинке, чем напугал человека, выросшего в страхе и навечном подозрении.
Сам Федор, почуяв приближающийся конец жизни, тайком приехал в Овсянку, потому как всю жизнь тосковал по ней, а как по ней тоскуют, мне объяснять не надо, я знаю это по себе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?