Читать книгу "Сентиментальное путешествие"
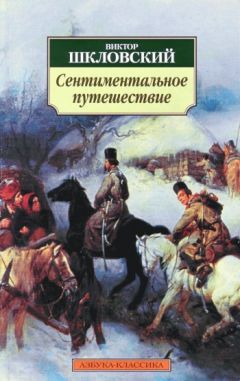
Автор книги: Виктор Шкловский
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Сахар и масло. Хлеб не так притягателен, хотя я жил года́ с мыслью о хлебе в уме.
Говорят, что сахар и жиры нужны для работы мозга.
А о советской вобле когда-нибудь напишут поэмы, как о манне. Это была священная пища голодных.
Этой осенью я был избран в профессора Института истории искусств. Мне это приятно, я люблю институт. Работать приходилось всю жизнь урывками. В 15 лет я не умел отличать часы, сейчас с трудом помню порядок месяцев. Как-то не уложились они в моей голове. Но работал по-своему много, много читал романов и знаю свое дело до конца.
Я воскресил в России Стерна, сумев его прочитать.
Когда мой друг Эйхенбаум, уезжая из Петербурга в Саратов, спросил у своего приятеля профессора-англиста «Тристрама Шенди» Стерна на дорогу, – тот ответил ему: «Брось, страшная скука». Сейчас для него Стерн интересный писатель. Я оживил Стерна, поняв его строй. Показал его связь с Байроном.
В основе формальный метод прост. Возвращение к мастерству. Самое замечательное в нем то, что он не отрицает идейного содержания искусства, но считает так называемое содержание одним из явлений формы.
Мысль так же противопоставляется мысли, как слово слову, образ образу.
Искусство в основе иронично и разрушительно. Оно оживляет мир. Задача его – создание неравенств. Оно создает их путем сопоставлений.
Новые формы в искусстве создаются путем канонизации форм низкого искусства.
Пушкин произошел от малого искусства альбомов, роман – из рассказов ужаса, вроде современных Пинкертонов. Некрасов – из водевиля. Блок – из цыганского романса. Маяковский – из юмористической поэзии.
Все: и судьба героев, и эпоха, в которой совершается действие, все – мотивировка форм.
Мотивировка форм изменяется быстрей самой формы.
Пример мотивировки.
Канон начала XIX века был в разрушении обрамляющей новеллы в романах и поэмах.
«Тристрам Шенди» Стерна не дописан, «Сентиментальное путешествие» Стерна прервано на эротическом месте, в середине того же «Сентиментального путешествия» вставная новелла прервана с мотивировкой потерей листов рукописи; та же мотивировка у Гоголя, «Шпонька и его тетушка»; «Дон Жуан» Байрона, «Евгений Онегин» Пушкина, «Кот Мур» Гофмана не кончены.
Другой пример: временна́я перестановка.
Так называемому романтизму (понятие несуществующее) соответствует временна́я перестановка.
Обычная мотивировка – рассказ.
То есть с середины романа действие возвращается назад, путем чтения найденной рукописи, сном или воспоминаниями героя (Чичиков, Лаврецкий).
Цель этого приема – торможение.
Мотивировка, как я уже говорил, рассказ, рукопись, воспоминание, ошибка переплетчика (Иммерман), забывчивость автора (Стерн, Пушкин), вмешательство кошки, спутавшей листья (Гофман).
Вопроса о беспредметном искусстве не существует: есть вопрос о мотивированном и о немотивированном искусстве. Искусство развивается разумом своей техники. Техника романа создала «тип». Гамлет создан техникой сцены.
Я ненавижу Иванова-Разумника, Горнфельда, Василевских всех сортов, убийцу русской литературы (неудачного) Белинского.
Я ненавижу всю газетную мелочь критиков современности. Если бы у меня была лошадь, я ездил бы на ней и ею топтал бы их. Теперь стопчу их ножками своего письменного стола.
Ненавижу людей, обламывающих острие меча. Они губят созданное художником.
Подумайте – Кони утверждает, что значение Пушкина в том, что он защищал суд присяжных!
Масло же человеку совершенно необходимо. Моя маленькая племянница Марина, когда болела, все просила масла, хоть на язычок.
И я хотел масла и сахара все время.
Если бы я был поэт, я написал бы поэму о масле, положив ее на цимбалы.
Сколько жадности к жиру в Библии и у Гомера!
Петроградские писатели и ученые поняли теперь эту жадность.
Читал лекции в Институте истории искусств.
Ученики работали очень хорошо. Холодно. У института, кажется, есть дрова, но нет денег их распилить. Стынешь. Стынут портьеры и каменные стены пышного зубовского дома. В канцелярии пухнут от мороза и голода машинистки.
Пар над нами.
Разбираем какие-то романы. Говоришь внимательно, и все слушают.
И слушает нас также мороз и Северный полярный круг. Эта русская великая культура – не умирает и не сдается.
Передо мною сидит ученик, из рабочих. Литограф.
С каждым днем он становится прозрачней. На днях он читал доклад о Филдинге. У него просвечивали уши, и не розовым, а белым. Шел с доклада, упал на улице. Подобрали, привезли в больницу. Голод. Я пошел к Кристи.
Он ничего не мог дать.
Достали хлеба товарищи, ученики. Ходили к нему.
А он вылежал в больнице, выполз из нее. Продал книги, уплатил долги и опять ходит в институт.
А до института катает вагонетки с углем и имеет за это два фунта хлеба и пять фунтов угля в день. Глаза у него, как подведенные. И кругом почти у всех так.
Вы не думайте, что вам не нужны теоретики искусства.
Человек живет не тем, что он ест, а тем, что переваривает. Искусство нужно, как фермент.
Дома я топил печку бумагой.
Представьте себе странный город.
Дров не выдают. То есть выдают где-то, но очередь в тысячу человек ждет и не может дождаться. Специально заведена волокита, чтобы человек, обессиленный, ушел. Все равно не хватит.
И выдают-то одну вязанку.
Столы, стулья, карнизы, ящики для бабочек уже стоплены.
Мой товарищ топил библиотекой. Но это страшная работа. Нужно разрывать книги на страницы и топить комочками.
Он чуть не погиб той зимой, но доктор, который пришел к нему в день, когда вся семья была больна, велел им всем поселиться в крохотной комнате.
Они надышали там и выжили. В этой комнатке Борис Эйхенбаум написал книгу «Молодой Толстой».
Я плавал среди этого морозного моря, как спасательный круг.
Помогало отсутствие привычки к культуре – мне не тяжело быть эскимосом.
Я приходил к товарищам и накачивал в них бодрости; думать же я могу при любых условиях.
Вернемся к топке печей.
Жил я в спальне Елисеева. В углу стояла большая печка, расписанная глухарями.
В доме был прежде Центральный банк. Выпросишь ключ от банка, войдешь в него, и начинает кружиться голова.
Комнаты, комнаты, комнаты на Невский и комнаты на Морскую, комнаты на Мойку. Отворенные несгораемые шкафы, весь пол усеян бумагами, квитанционными книжками, папками. Топил печку почти год папкой.
У Дома искусств, правда, были дрова, но такие сырые, что без папки их нельзя было растопить.
Вот и ходишь по пустым комнатам, роешься в бумагах.
Почему-то кружится голова. Почему-то тошнит.
А вечером сидишь спиной к печке за маленьким круглым елисеевским мозаичным столиком и поешь.
Я люблю петь, когда работаю. Поэт Осип Мандельштам прозвал меня за это «веселым сапожником».
Уже кругом образовался быт.
Выдали нам в Доме ученых по зеленым карточкам каждому один мешок и одну деревянную чашку, завели мы саночки.
Вообще приспособили жизнь.
Большинство работало сразу в нескольких местах, получало везде пайки. Нас попрекали этими пайками. Сам я сразу никогда два пайка не получал, но – нехорошо попрекать людей хлебом. У людей есть дети, и они тоже хотят есть.
У некоторых же, кроме того, существовал психический голод и культ еды.
Зашел раз к одному довольно известному писателю, его не было дома. Заговорил с его седоволосой и чернобровой женой. Она мне сказала: «В этот месяц мы съели двадцать пять фунтов свинины».
Она очень уважала себя за эту свинину, за то, что она у них есть. Презирала тех, кто свинины не ел.
С этой свининой в то время съедали много людей.
Я жил сравнительно легко, так как часть дров получал от Дома искусств.
Свинины не ел и о ней не думал.
В нижних залах дома шли концерты.
В комнате с амурами на потолке жил Аким Волынский.
Он сидел в пальто и в шапке и читал Отцов Церкви по-гречески.
Вечером пил чай на кухне.
Я занимался вселением людей в дом. У нас было два течения: аристократическое, которое стремилось сжать количество «обдисков» – обитателей Дома искусств, – и я, который лазил по дому, находил квартиры и вселял в них новых людей.
Появлялись новые люди.
Ходасевич Владислав в меховой потертой шубе на плечах, с перевязанной шеей.
У него шляхетский герб, общий с гербом Мицкевича, и лицо обтянуто кожей и муравьиный спирт вместо крови.
Жил он в номере 30; из окна виден Невский вдоль. Комната почти круглая, а сам он шаманит:
Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей,
Смотрю в штукатурное небо,
На солнце в шестнадцать свечей.
Кругом – освещенные тоже —
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу и в смущенье не знаю,
Куда бы мне руки девать.
Морозные белые пальмы
На стеклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.
Когда он пишет, его носит сухим и горьким смерчем.
В крови его микробы жить не могут. Дохнут.
По дому, закинув голову, ходил Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно. И кажется все это почти шуткой, так нагружено все собственными именами и славянизмами. Так, как будто писал Козьма Прутков. Эти стихи написаны на границе смешного.
Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.
Осип Мандельштам пасся, как овца, по дому, скитался по комнатам, как Гомер.
Человек он в разговоре чрезвычайно умный. Покойный Хлебников назвал его «Мраморная муха». Ахматова говорит про него, что он величайший поэт.
Мандельштам истерически любил сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным.
Его какая-то женская распущенность и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле, он, как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает, чтобы ее не заставили работать.
Внизу ходил, не сгибаясь в пояснице, Николай Степанович Гумилев. У этого человека была воля, он гипнотизировал себя. Вокруг него водилась молодежь. Я не люблю его школу, но знаю, что он умел по-своему растить людей. Он запрещал своим ученикам писать про весну, говоря, что нет такого времени года. Вы представляете, какую гору слизи несет в себе массовое стихотворство. Гумилев организовывал стихотворцев. Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера. Чужие стихи он понимал хорошо, даже если они далеко выходили из его орбиты.
Для меня он человек чужой, и мне о нем писать трудно. Убивать его было не нужно. Никому. Помню, как он рассказывал мне про пролетарских поэтов, в студии которых читал: «Я уважаю их, они пишут стихи, едят картофель и берут соль за столом, стесняясь, как мы сахар».
Умер Гумилев спокойно.
У меня сидел в тюрьме смертником один товарищ. Мы переписывались. Это было около трех или четырех лет тому назад. Письма выносил конвойный в кобуре. Друг писал мне:
«Я подавляю в себе желание жить, я запретил себе думать о семье. Меня страшит одно (очевидно, это была его мания) – меня страшит, что мне скажут: „Снимай сапоги", – у меня высокие шнурованные сапоги до колен (шоферские), я боюсь запутаться в шнуровке».
Граждане!
Граждане, бросьте убивать! Уже люди не боятся смерти! Уже есть привычки и способы, как сообщать жене о смерти мужа.
И ничего не изменяется, только становится еще тяжелей.
Блок умер тяжелей, чем Гумилев, он умер от отчаяния.
Этот человек не был эстетом по складу: в основе его прежнего мастерства лежало восстание цыганского романса. Он писал, используя банальный образ.
Сила Блока в том, что связан он с простейшими видами лиризма; недаром он брал эпиграфы для стихов из романсов.
Он не был эпигоном, потому что он был канонизатором.
Старую человеческую культуру он осудил. Осудил гуманизм. Парламент. Чиновника и интеллигента. Осудил Цицерона и признал Катилину. Революцию он принял.
Шейлока надули. Венецианский сенат предложил ему фунт мяса Антонио, но без крови. А вырезать мясо и совершить революцию без крови невозможно.
Блок принял революцию с кровью. Ему, родившемуся в здании Петербургского университета, сделать это было трудно.
Говоря про признание революции, я не ссылаюсь на «Двенадцать». «Двенадцать» – ироническая вещь, как ироничен во многом Блок.
Беру здесь понятие «ирония» не как «насмешка», а как прием одновременного восприятия двух разноречивых явлений или как одновременное отнесение одного и того же явления к двум семантическим рядам.
Не поэзия Владимира Соловьева и не его философия и московские зори 1901 – 1902 годов, о которых так хорошо пишет Андрей Белый, вырастили Блока.
Блок, как и Розанов, – восстание. В Розанове восстание того, что мы считали мещанским, – задней комнаты, хлева; а он воспринял, как священное логово, восстание «пара» над духом. Это в народе иногда говорят, что у животных нет души, а только пар.
В Блоке восстал чистый лиризм. Банальная и вечная тема лиризма. По образу, по словосочетанию Блок примитивный поэт. Тема цыганского романса, который пелся улицей, к мотивировке которых прибегали великие поэты Пушкин, Аполлон Григорьев, Фет, – формы этого романса были вновь канонизованы Блоком.
Это он посмел, как Розанов, введший в свои вещи приходо-расходную книгу и тревогу о своих 35 000, нажитых у Суворина, ввести пошлый образ в свою поэзию.
Но Блок не совершил до конца дела поднятия формы, прославления ее. Камень, отверженный строителями, не лег во главу угла. Он одновременно воспринимал иногда свою тему как уже претворенную и взятую в то же время как таковую, то есть в ее обыденном значении.
На этом он построил свое искусство.
Так, Лесков, гениальный художник, создавший до Хлебникова переживаемое слово, не смог дать его вне мотивировки. Только в комический сказ он смог ввести новое слово; но что же делать в стране, в которой Белинский упрекал Тургенева за то, что тот дал в своей вещи слово «зеленя» вне разговора действующих лиц, а в речи автора.
У нас не понимают неизобразительного искусства.
«Двенадцать» – ироническая вещь. Она написана даже не частушечным стилем, она сделана «блатным» стилем. Стилем уличного куплета вроде савояровских. Неожиданный конец с Христом заново освещает всю вещь. Понимаешь число «двенадцать». Но вещь остается двойственной – и рассчитана на это.
Сам же Блок принял революцию не двойственно. Шум крушения старого мира околдовал его.
Время шло. Трудно написать, чем отличался 1921 год от 1919-го и 1918-го. В первые годы революции не было быта или бытом была буря. Нет крупного человека, который не пережил бы полосы веры в революцию. Минутами верилось в большевиков. Вот рухнут Германия, Англия, и плуг распашет не нужные никому рубежи! А небо совьется, как свиток пергамента.
Но тяжесть привычек мира притягивала к земле брошенный революцией горизонтально камень жизни.
Полет превращался в падение.
Мы, многие из нас, радовались, когда заметили, что в новой России можно жить без денег. Радовались слишком рано.
Мы верили в студии красноармейцев. Одни поверили раньше, другие позже. Еще в феврале 1918 года говорил мне один скульптор:
«Вот я бываю в Зимнем дворце, а они оттуда звонят – Псковская коммуна – соедините меня, товарищи, с телефоном Псковской коммуны! Хорошо. Майн Рид прямо».
Когда Юденич подходил к Петербургу, мой отец сказал мне:
«Витя, нужно было бы пойти к белым и сказать им: „Господа, зачем вы с нами воюете? Мы такие же люди, как и вы, но только мы работаем сами, а вы хотите нанимать рабочих"».
Для Блока все это было грозней. Но земля притягивала камень, и полет превращался в паденье. А кровь революции превратилась в быт.
Блок говорил: «Убийство можно обратить в худшее из ремесел».
Блок потерпел крушение дела, в которое он вложил свою душу.
От старой дореволюционной культуры он уже отказался. Новой не создалось.
Уже носили галифе. И новые офицеры ходили со стеками, как старые. Катьку посадили в концентрационный лагерь. А потом все стало как прежде.
Не вышло.
Блок умер от отчаяния.
Он не знал, от чего умереть.
Болел цингой, хотя жил не хуже других, болел жабой, еще чем-то и умер от переутомления.
С «Двенадцати» – не писал.
Работал во «Всемирной литературе», написал для какой-то секции исторических картин очень плохую вещь «Рамзес». Быт уже втягивал его. Но он предпочел смерть от отчаяния.
Перед смертью бредил. Он хлопотал о выезде за границу. Уже получил разрешение. Не знаю, помог ли бы отъезд. Может быть, Россия лучше на расстоянии. Ему казалось, что выносят уже вещи. Он едет за границу.
Иногда же садился и придумывал особое устройство шкафа для своей библиотеки.
Библиотека же его уже была продана.
Умер Блок.
Несли его до Смоленского кладбища на руках.
Народу было мало. Все, кто остался.
Неверующие хоронили того, кто верил.
Возвращался с кладбища трамваем. Спрашивают меня, кого это хоронили. «Блока, – говорю. – Александра». – «Генриха Блока?» – переспрашивают. И не раз, много раз так спросили за день.
Генрих же Блок был банкиром.
Смерть Блока была эпохой в жизни русской интеллигенции. Пропала последняя вера.
Озлобились. Смотрели на своих хозяев волками. Не брали пищи из рук.
И, может быть, стали больше любить друг друга. Друг друга беречь.
Хороша ли или нет наша культура – нет другой!
Умер Блок. Похоронен на Смоленском, среди полянки. Над гробом ничего не говорили.
Следующая зима была уже с бытом. В начале зимы поставил печку. Трубы 20 аршин. Когда топишь – тепло. Бумагу уже не таскали из банка, дрова можно было купить. Купить воз. Но воз – это дорого. Обычно покупали мешок дров. В мешке полен, кажется, пятнадцать. Простите, если ошибаюсь. И дрова обыкновенно сухие. Березовые дрова, если кора на них очень белая, не покупайте, это свежеспиленные.
Покупали дрова каждую неделю. Домой везешь на санках.
В ту ночь, когда пришли меня арестовать – это было 4 марта 1922 года, – привез я к дому уже поздно вечером дрова на санках. Задержался с ними в городе.
Перед этим мне снилось, что падает на меня потолок.
Увидал с Полицейского моста, что моя комната и комната рядом с ней – уборная Елисеева (он в ней на бесколесном велосипеде катался), большая комната в четыре окна, – освещены.
Посмотрел я на освещенные в неурочное время окна и не поднялся наверх, а тихонько поехал к знакомым вместе с дровами. Так и не был с тех пор ни дома, ни у родных.
В ту зиму я получал академический паек как писатель, значит, голодать не приходилось. Был хлеб, когда не приходило много гостей – хватало, было американское сало и даже горчица. Присылали продукты финны, чехи. От чехов получили раз по десяти фунтов сахару. Не знаю, как передать свой восторг! Город шумел. Сахар, сахар, десять фунтов! Об этом и говорили друг с другом. Сахар я ел, когда он у меня был, ложками. Мозг требует сахару и жиру, и его ничем не уговоришь. Выдавали кур, но больше сельдей. Сельди сопровождали всю мою советскую жизнь.
Итак, было в комнате не холодно, хотя часто угарно, есть было что. Работать можно было тоже. В это время я занимался издательством. Издательство в России один из видов спорта. При мне для занятия им денег не требовалось.
Я начал издание таким образом.
«Поэтику» помог издать мне Владимир Маяковский на деньги, взятые в Наркомпросе. Забавной была история с маленькой книжкой «Розанов». Я работал в «Жизни искусства». Из редакционной коллегии уже ушел. Кажется, наша коллегия была просто распущена. Сделано это было правильно. С газетой я делал странные вещи. Конечно, я не печатал в ней контрреволюционных статей (и не хотел их ни писать, ни печатать), но печатал академические статьи. Статьи были сами по себе хороши, но не в театральной газете. Место им было в специальном журнале. Но журналы не выходили. Отдельные номера «Жизни искусства» получались очень ценные. Помню очень хорошие статьи Бориса Эйхенбаума «О трагическом», статьи Романа Якобсона, статьи Юрия Анненкова и ряд своих статей о «Дон Кихоте»; газета давала мне возможность работать.
После изменения состава редакции газета стала чисто театральной, но героическая пора ее прошла. Я дал в газету большую статью в лист о Розанове.
Это доклад, который я только что читал в ОПОЯЗе. Смысл его – понимание Розанова не как философа, а как художника. На докладе присутствовал случайно приехавший из Харькова Столпнер. Столпнер один из самых умных людей в России, писать же он не умеет, умеет говорить. Избрали его в профессора Харьковского университета и выдали шубу с бобровым воротником по ордеру. В этой шубе и приехал Столпнер в Петербург за книгами. Толкнулся к одному знакомому, к другому, дома их не было. Ночь наступала. Не волнуясь и считая, что поступает очень благоразумно, вошел Столпнер в чужой подъезд, поднялся до верху и улегся спать вместе с шубой. Темно. Ночью открылась дверь, у которой спал Столпнер, вышел человек, наступил на него и спросил:
«Что это?»
Столпнер ответил правду, хотя ему хотелось спать: «Профессор Харьковского университета». Тот иссек огонь из кремня зажигалки, проверил документы, впустил друга Розанова, философа Столпнера, в квартиру и разрешил ему спать в нетопленой комнате.
«Жизнь искусства» в это время выходила одним листком.
«Розанов» появлялся маленькими кусочками. В типографии я просил сохранить набор. «Розанова» в газете так и не дотянули, а я переверстал его и тиснул маленькой книжкой. Эта книжка вышла в тот момент, когда печатать еще было нельзя. Разошлась быстро, и я жил на нее. Рассказал я это для характеристики русских издательств.
Я не был исключением. Издавали без денег очень многие. Типографии относились к нам очень хорошо.
Привет типографиям. В наборных было холодно, а шрифт холодит руки. Дымно. Головы наборщиков закутаны платками. Холодно так, что вал печатной машины замер и не хочет идти плавно, а прыгает, накатывая краску. Краска… нет краски, печатаем чуть ли не водой. А книги издавали неплохо. Умели работать люди. В типографии любят книги, и хороший метранпаж не выпустит плохо сверстанной книги. Люди, которые умеют работать, всегда хорошие люди.
Если бы Семенов не был полуинтеллигентом, если бы он имел свое мастерство, он не пошел бы доносить. А у него в душе торричеллиева пустота и незанятые руки, делать ничего не умеет, ему жалко не рассказать, что и он крутил политику.
Нет, ни шофер, ни слесарь не сделали бы так.
Книг я издал довольного много, больше, конечно, своих. Перед самым побегом выпустил из печати «Мелодику стиха» Эйхенбаума в 15 печатных листов. Бумагу нам дал Ионов в долг. Часть издания продана из расчета на золотой рубль украинскому Всеиздату, и мы бы, конечно, заплатили за бумагу. Но, к сожалению, Григорий Иванович Семенов, не умеющий работать, помешал работать Виктору Шкловскому, знающему свое ремесло.
Печатникам же и всей работающей России мой привет!

С книг я жил уже почти хорошо. Утром на печурке кипятил какао, мог кормить приходящих ко мне. Жил я, конечно, хуже, чем живут в Берлине небогатые люди, но сало в России как-то драгоценней, и свой черный хлеб как-то белей немецкой булки.
Я даю свои показания. Заявляю: я прожил революцию честно. Никого не топил, никого не топтал, от голода ни с кем не мирился. Работал все время. И если у меня был свой крест, то я носил его всегда под мышкой. Виновен же я перед русской революцией за этот период в одном: колол дрова в комнате. От этого отлетают куски штукатурки в нижнем этаже. Силы было еще достаточно, чтобы ходить колоть дрова и к знакомым, ставить печки, помогать молодым поэтам издавать книжки, ручаясь в типографии: «Такой-то человек хороший».
Уставал очень сильно. Спал днем на диване под тигром. Иногда было тяжело, что нет времени работать. Книги писались наспех. Не было времени заняться собой всерьез. Больше сказано, чем записано.
Письменный стол в Доме искусств был хороший. С мраморной доской и на витых ножках.
Но я за ним не работал, а работал в углу у печки.
Поздно осенью случайно встретил одного знакомого айсора.
Вы помните маленьких черных людей, которые сидят в России на углах с сапожными щетками? Они же водят обезьян по дворам. Древни они, как булыжники мостовой; это айсоры – горные ассирийцы.
Раз шел я по улице и решил вычистить сапоги. Подошел к человеку на углу, сидящему на низеньком венском стуле со спиленными ножками, и, не глядя на него, поставил свою ногу на ящик.
Было еще не холодно, но я надел белую заячью шапку, и пот щипал мне лоб.
Один сапог уже был вычищен.
– Шкловский, – сказал чистильщик, когда я снял шапку. – Шкловский, – сказал он и положил сапожные щетки на землю.
Я узнал его – это был айсор Лазарь Зервандов, командовавший конной батареей в ассирийских войсках в Северной Персии.
Я посмотрел кругом.
Все было спокойно, только четыре черные лошади рвались на Аничковом мосту в разные стороны.
Айсоры, или ассирийцы, живут в Месопотамии и в Ванском вилайете в Турции, в Персии же вокруг Дильмана и Урмии и в русском Закавказье. Разделяются они на маронитов и якобитов, живущих вокруг места, где была древняя Ниневия, а теперь город Мосул (откуда муслин), нагорных айсоров, которых персы неправильно называют «джелу» (на самом деле «джелу» – название одного только горного ассирийского рода), и на персидских айсоров.
По вероисповеданию горные айсоры несториане, то есть не признают Иисуса Богом, марониты и якобиты перешли в католичество, а в Урмии за древнехристианскими, но еретическими душами айсоров охотятся миссии всех вероисповеданий: англичане, американцы-баптисты, французы-католики, православные, немцы-протестанты и еще кто-то.
В горах айсорских миссий нет. Живут айсоры там деревнями, управляемыми священниками, несколько деревень вместе составляют один род – клан, управляемый меликом – князем, а все мелики слушаются патриарха Мар-Шимуна.
Право на сан патриарха принадлежит одному только роду, производящему себя от Симока, брата Господня.
В январе 1918 года пошли русские солдаты домой.
Айсорам дом был в Персии, а которые и были из Турции, все равно в Персии сидели, потому что дома курд зарежет.
Составилось у айсоров свое войско.
Еще при царе русские набрали два ассирийских батальона. Часть айсоров не пошла в батальоны, а осталась партизанским отрядом под предводительством одного бывалого человека – Ага-Петроса.
Этого самого Ага-Петроса отнял я раз от солдат третьего пограничного полка, которые его резали.
Друг мой Ага-Петрос! Увидимся ли мы когда-нибудь здесь, на Востоке! Потому что идет Восток от Пскова, а раньше шел от Вержболова, и идет он непрерывно через Индию на Борнео, Суматру, Яву до утконоса в Австралии.
Только посадили утконоса английские колонисты в банку со спиртом и сделали в Австралии Запад.
Нет, не увижу никогда я Ага-Петроса, так и умру на Невском против Казанского собора.
Так писал я в Петербурге; теперь место предполагаемой смерти изменено: я умру в летучем гробу унтергрунда.
Ага-Петрос был человеком плотным, с грудью необыкновенной, как-то нарочно выпуклой, и с свежечищенным золотым Георгием первой степени на ней.
Был Ага-Петрос чистильщиком сапог в Нью-Йорке, а может быть, водил обезьяну по Буэнос-Айресу.
Во всяком случае, он сидел на каторге в Филадельфии.
Потом дома был в горах разбойником; был у турок вице-губернатором и сильно ограбил область; потом стал большим человеком в Персии. Как-то, рассердившись, арестовал урмийского губернатора, посадил в подвал и отпустил, только обменяв шаха на звезду.
У нас он состоял нештатным драгоманом посольства и командовал партизанским отрядом.
Ушли домой русские солдаты, как пролитая вода в землю. Оружия оставили много.
Вооружились айсоры. Собрались национальные дружины армян.
Начали отбирать оружие от персов.
Тут сказались старые счеты.
При первом отходе русских из Персии (в 1914 году) местное персидское население вырезывало оставшихся айсоров за то, что они держали русскую сторону.
Айсоры заперлись в бест в американскую миссию к доктору Шеду, тогда персы подсыпали в муку, из которой пекли в миссии для беженцев хлеб, толченое стекло и железные опилки. И вымерли люди сплошь, как рыба в маленьком пруду от брошенной бомбы.
Партизанский отряд Ага-Петроса еще больше увеличивал вражду персов к айсорам, так как мы партизан не кормили, а своего хлеба у них не было, все ведь больше-то был народ пришлый.
Значит, грабеж.
Ходили дружинники по базару, в штанах из кусочков ситца, кожаных броднях, с бомбой за широким поясом, и персиянки показывали на них детям и говорили: «Вот идет смерть».
И я, будь я в то время в Персии, встрял бы в эту драку на сторону айсоров.
И не знаю почему.
Неужели потому, что я привык видеть на Измайловском турецкие пушки на памятнике Славы?
Турки же меня, наверно бы, зарезали, и не по ошибке, а по убеждению.
При отходе русских произошла стычка, персы напали на последних отходящих русских, айсоры напали на персов.
Ага-Петрос (вспомнил его фамилию – Элов) поставил пушки на Еврейской горе (что сейчас же за городом Урмией) и выгромил город.
Вообще айсоры понимают значение занятия командных высот.
Со стороны персов дрались персидские казаки, когда-то выученные русскими инструкторами (помните Ляхова) и являющиеся опорой персидской контрреволюции.
В данных же боях они выступили не как представители партии (шахской), а как представители нации.
Предводительствовал персами полковник Штольдер, человек очень влиятельный при персидском дворе, армянами и айсорами командовал полковник Кондратьев и оставшиеся на службе в новых национальных войсках русские офицеры и унтер-офицеры.
Многие из них и сейчас в Месопотамии. Разбрызганы по миру, как капли крови по траве.
Персы были разбиты. Штольдер с дочерью взяты в плен и затем зарезаны.
Началось обезоруживание персов.
Действовали артиллерией и в каждую деревню послали по сорок, по пятьдесят снарядов.
Деревни в Персии глиняные.
Отобрано было около тридцати тысяч винтовок.
Тогда сказал курд Синко:
«Мар-Шимун, приезжай ко мне: я тоже хочу сдать оружие».
Курд Синко сидел на Кущинском перевале между Урмией и Дильманом.
Курды никогда не имели государства, живут родами и племенами.
Роды соединяются в племена под предводительством ханов.
Синко не был ханом по рождению.
Он возвысился умом и хитростью до ханского своего кушинского престола, обошел бывшего великого князя Николая Николаевича, желавшего привлечь на свою сторону часть курдов, получал от него винтовки и даже пулеметы и еще больше возвысился.
Синко обманывал нас все время, и из-за него мы потеряли сено на Дизе Геверской. Обещал дать верблюдов и не дал. Нас он уже не боялся. Говорил, что 40 курдов разгонят русский полк.









































