Читать книгу "Сентиментальное путешествие"
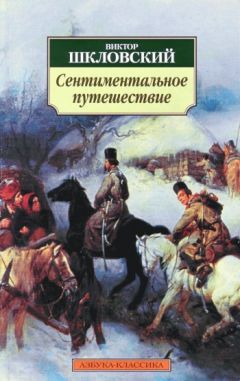
Автор книги: Виктор Шкловский
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Люди, которые это сделали без всякого озлобления, были страшны и своевременны для России.
Они продолжали линию самосудов, тех самосудов, когда бросали в Фонтанку воров.
Мне рассказывал про самосуд один солдат.
– Тогда покойник и говорит, – рассказывал он.
– Как это покойник говорит?
– А тот, значит, которого убьют сейчас, говорит.
Видите, как бесповоротно.
В это время меня вызвали в Чека, потому что ко мне зашел Филоненко.
Филоненко я сейчас не люблю и тогда не любил, но помню, как на фронте спал в автомобиле, опершись на него. Этот нервный, неприятный и ненадежный человек жил в Петербурге под чужой фамилией или под несколькими чужими фамилиями.
Его выследили, и за ним ходили по пятам.
Он зашел ко мне, ел у меня, пил кофе, а на другой день у моего дома стояло штук восемь чекистов.
Я раскланивался с ними, проходя мимо них. Они отвечали.
Меня вызвали в Чека, допрашивал Отто.
Спросили: знаю ли я Филоненко? Я ответил, что знаю, и признал, что он ко мне заходил.
Меня спросили – зачем? Я ответил, что для справки о знаках зодиака. Как это ни странно, но это была правда.
Филоненко увлекался астрологией.
Следователь предложил мне дать показание о себе.
Я рассказал ему о Персии. Он слушал, слушал конвойный и даже другой арестованный, приведенный для допроса.
Меня отпустили. Я профессиональный рассказчик.
Арестовали моего отца и тоже скоро отпустили его. Кажется, всего держали два месяца.
Между тем положение переменилось. Сперва революция была чудесно самоуверенная. Потом удар Брестского мира.
Не раз я ждал чуда. Ведь большевики имеют веру в чудо.
Они делают чудеса, но чудеса плохо делаются.
Вы помните, как в сказке черт перековывал старого на молодого: сперва сжигает человека, а потом восстанавливает его помолодевшим.
Потом чудо берется проделать наученный дьяволом ученик: он умеет сжечь, но не может обновить.
Но, когда большевики открыли фронт и не подписали мира, они верили в чудо долго, но сожженный не воскрес.
И в открытый фронт вошли немцы.
Перед подписанием Брестского мира большевики снеслись телеграфно со всеми крупными Советами с вопросом, заключать ли мир.
Все ответили не заключать. Особенно решителен был Владивосток. Это выглядело иронией.
Мир был подписан.
Очевидно – звонили из любопытства.
Чудо не вышло, и это уже знали.
Интересно отметить, что на одном митинге в Народном доме, когда немцы уже наступали на разоруженную Россию, Зиновьев умолял остатки нескольких неразоруженных полков старой армии выступить «за отечество», не прибавляя даже «за социалистическое».
Они наивны, большевики, они переоценивают силу старого, они верили в «гвардию». Они думали, что люди любят «матушку Родину».
А ее не было.
И сейчас, когда они дают концессии и множат купцов, они только переменили объект веры, а все еще верят в чудо.
И если сегодня вы выйдете на Невский, на улицы сегодняшнего прекрасного, синенебого Петрограда, на улицы Петрограда, где так зелена трава, когда вы увидите этих людей, новых людей, которых позвали, чтобы они создали чудо, то вы увидите также, что они сумели только открыть кафе.
Только простреленным на углу Гребецкой и Пушкарской остался трамвайный столб.
Если вы не верите, что революция была, то пойдите и вложите руку в рану. Она широка, столб пробит трехдюймовым снарядом.
И все же, если от всей России останутся одни рубежи, если станет она понятием только пространственным, если от России не останется ничего, все же я знаю – нет вины, нет виновных.
И я виновен в том, что не умею пропускать мимо жизнь, как погоду, виновен и в том, что слишком мало верил в чудо, – среди нас есть люди, хотевшие закончить революцию, на второй день революции.
Мы не верили в чудо.
Чудес же нет, и вера их не производит.
И замкнутым кругом все вернулось на свои места.
А «местов»-то и не оказалось!
Мои товарищи шоферы хотели драться с немцами в Петербурге на Невском.
Положение изменилось.
Совет Народных Комиссаров переехал в Москву. Считалось, что центр тяжести работы должен быть перенесен туда же или на Поволжье.
Но я на Волгу ехать не мог, так как моя организация была неперевозима.
К этому времени я связался еще с броневиками.
В работе пришлось встретиться мне с одним офицером, я не знаю, где он сейчас.
У него были чудные, какие-то вымытые глаза.
Изранен он был страшно: у него не было куска черепа, были изранены и плохо срослись ноги и руки.
В бою (кажется, 1916 года) ему как-то пришлось с пушечной броневой машиной погнаться за броневым поездом, что является неправильным, так как бронированный поезд «в общем и целом», как говорят большевики, сильнее автомобиля. Броневой поезд начал убегать, что тоже неправильно.
Автомобиль в погоне въехал на платформу вокзала, но здесь был взят под огонь батарей; тогда шофер проломил тяжелой машиной широкие двери вокзального буфета, проехал по столикам, проломил вторые двери, съехал по лестнице и ушел через площадь, обстреляв отряд кавалерии.
Образование у него было военное, но он умел очень много понимать и, между прочим, превосходно оценивал предметы искусства, то есть знал, хороша ли вещь.
Я сблизился с ним – это был очень хороший и честный человек.
В одном помещении, хранителем которого он был, у него оказался остов пушечного броневика «гарфорд», брошенный как лом. Тогда мы сняли в нескольких гаражах части сломанных броневиков и отремонтировали свои.
Шоферы утащили у неприятеля даже трехдюймовую пушку с затвором, два пулемета, снаряды и ленты. Это очень трудно, так как снаряды тяжелые, носить их нужно на себе под пальто или шубой по два за раз и смотреть, чтобы они не бились друг о друга и не звенели.
Затвор принесли мне так. Пришел низкорослый шофер. Достал из кармана вилку (не знаю ее технического названия), которая вынимает из ствола пушки гильзу после выстрела, подал мне и спрашивает: «Виктор, это затвор?» – «Нет», – говорю. «Ну а это?» – Он вобрал в себя живот и из-за поясного ремня вынул тяжеленную громадную штуку. Это был затвор. Как он смог вобрать его в себя – непонятно.
Броневик собрали и даже катались на нем по двору, но в ход его так и не пустили, хотя с ним взятие любого гаража при опытности нашей команды было дело совершенно верное.
Ремонтировали машину открыто, среди бела дня, и оттого, конечно, не попались.
Значит – я уехать не мог.
В это время произошел провал. Организация не может существовать годами и со временем, конечно, проваливается.
А мы были так неосторожны, что даже устраивали собрания всей организации, с речами, с прениями.
Попалась «красноармейская часть» организации при аресте на Николаевской улице. В оттоманке нашли фальшивые бланки.
К этому времени Семенов уже уехал на Волгу.
Арестован был Леппер, в записной книжке которого нашли все адреса и фамилии, записанные шифром, который был прочитан Чекой через два часа.
Был арестован на службе (в Красной Армии) мой брат.
Я убежал и поселился на окраине города, не в комнате, а в углу.
Паспорт мне выдали в комиссариате по бланку одной части.
К этому времени в организации появилось более правое течение; мы сблизились с н. с, в частности, большую роль играл В. Игнатьев.
Организация распадалась: одни уехали в Архангельск через Вологду, другие на Волгу.
Я предлагал взять тюрьму – говорили, что это невозможно.
Я жил на Черной речке в квартире одного садовника.
Это было время голода. Сам я ел очень плохо, но не было времени думать об этом.
Семья садовника питалась липовым листом и ботвой овощей; в отдельной маленькой комнатке этой же квартиры жила старая учительница. Я узнал о ее существовании только тогда, когда приехали увозить ее тело. Она умерла от голода.
В это время от голода умирали многие. Не нужно думать, что это происходит внезапно.
Человек умеет находить в своем положении много оттенков.
Я помню, как удивлялся в Персии, что курды, лишенные своих домов, живут в городе около стен его, выбирая места, где в стене есть хоть маленькая впадина, хоть на четверть аршина.
Очевидно, им казалось, что так теплей.
И голодая, человек живет так: все суетится, думает, что вкусней, вареная ботва или липовый лист, даже волнуется от этих вопросов, и так, тихонечко погруженный в оттенки, умирает.
В это время в Питере была холера, но людей еще не ели.
Правда, говорили о каком-то почтальоне, который съел свою жену, но не знаю, была ли это правда.
Было тихо, солнечно и голодно, очень голодно.
Утром пили кофе из ржи. Сахар продавали на улице, кусок 75 копеек.
Можно было выпить стакан кофе или без молока или без сахара: на то и другое сразу не хватало денег.
На улице же продавали ржаные лепешки. Ели овсяную похлебку. Овес парили в горшке, потом пропускали через мясорубку – «через машинку», как тогда говорили, – несколько раз, – это трудная работа, – затем протирали через сито – получалась похлебка из овсяной муки. Когда ее варят, за ней нужно смотреть, а не то она убежит, как молоко.
Перед тем как молоть овес, из него нужно выбрать «черненькие» – я не знаю, что это, очевидно, зерна какой-то сорной травы.
Для этого рассыпают по столу овес, и вся семья выбирает из него мусор. Так около овса и возятся целый день.
Из картофельной шелухи делали очень невкусные, тонкие, как персидский лаваш, коржики. Хлеб выдавали по ⅛, иногда ¼ в день. Выдавали иногда сельдей.
Выдавали и таких сельдей, от которых, по словам официального объявления, нужно было до еды отрезать конечности – голову и хвост – они уже загнили.
Сроков мы уже не назначали; где-то на востоке наступали чехи, гремело ярославское восстание; у нас было тихо.
Я еще не распустил своих друзей.
Да, нам было легко держаться вместе, так как все мы распадались на пять-шесть компаний, человек по 5 – 10, связанных старой дружбой и родством. Дела не было.
Помню, раз просили меня достать крытый автомобиль, очевидно, для экспроприации. Просил Семенов.
Я сказал об этом одному шоферу.
Он пошел в соседний незнакомый гараж, выбрал машину, завел, сел на нее и уехал.
Но экспроприация не была произведена.
Странна судьба этого шофера. Он жил в квартире, где хозяйкой была одна старая, совершенно отцветшая женщина. Она берегла его и кормила компотом. В результате он на ней женился.
Брак на старой женщине – судьба многих авантюристически живущих людей, я видал десятки примеров.
Мне было всегда от них грустно. Мы даже знали это и предупреждали друг друга – «не есть компота».
В этом – какая-то усталость или жажда покоя.
Вообще авантюризм кончается гниением.
Я помню, как после приезда из Персии встретился с одним своим учеником.
«Чем занимаетесь?»
«Налетами, господин инструктор, не хотите ли указать квартиру – 10%!»
Строго деловое предложение.
Его потом расстреляли.
Был шофер как шофер.
На такую же штуку, как реквизиция спирта, то есть вообще на полуграбеж, готовы были почти все. Законы были отменены, и все пересматривалось.
Конечно, не все увлекались этим.
Я знал шоферов, которые так и остались на своих машинах, не брали ничего, кроме керосина со своей машины, и очень любили Россию, не спали ночи от мыслей о ней.
Такие люди обычно были женаты на молодых и имели детей.
Разложение было, конечно, не среди одних шоферов.
Как-то зашел к другу К.
Он мне рассказал: «Знаешь, сейчас ко мне приехала компания знакомых. Спрашивали лом. Я говорю: „Вам длинный?" Показывают руками: „Нет, нам такой". – „Так вам фомку нужно, так и скажите: фомку. А зачем?" – „Шкаф ломать!"».
И вот одни ломали шкафы, другие ушли на восток к Врангелю и Деникину, третьи были расстреляны, четвертые ненавидели большевиков соленой ненавистью и оттого не гнили.
К большевикам ушло довольно много народу.
Я говорю о революционной толпе, о тех людях, которые в общем исполняют приказания, а не приказывают.
А я сидел на Черной речке и писал работу на тему «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля». Писал на маленьком круглом столике. Книги для справок держал на коленях.
Прислали за мной и сказали, чтобы я ехал в Саратов, дали билет.
В Питере можно было оставаться только на гибель. Меня искали. Я уехал.
За себя я оставил К. и того человека, который прежде руководил дивизионом. К. не был арестован, и потом, когда броневик был обнаружен у него, благополучно уехал на Юг.
Он говорил, что необходимо добиться национализации копей в Донецком бассейне. Но все же офицерство привело его в белую армию.
Не знаю, как приняли его у Деникина в Добровольческой армии.
Я уехал.
Шоферы разошлись. Впоследствии я потерял их из виду.
Арестованные товарищи были расстреляны. Расстрелян был мой брат. Он не был правым. Он в тысячу раз больше любил революцию, чем три четверти «красных командиров».
Он только не верил, что большевики воскресят сожженную Россию. У него осталось двое детей. Добровольческая армия была для него неприемлема, как стремящаяся вернуть Россию назад.
Почему он боролся?
Я не сказал самого главного.
У нас были герои.
И мы, и вы – люди. Вот я и пишу, какие мы были люди.
Брата убили после убийства Урицкого.
Его расстреляли на полигоне у Охты.
Расстреливали его солдаты его же полка. Мне рассказал это офицер, который его убивал.
Позднее убивали специальные люди.
Полк оказался дежурным.
Брат был внешне спокоен. Умер он храбро.
Имя его Николай, было ему 27 лет.
В расстреле самое страшное, что с убитого снимают сапоги и куртку. То есть заставляют снять, до смерти.
20 мая 1922 года.
Продолжаю писать.
Давно не писал так много, как будто собираюсь умереть. Тоска и красное солнце. Вечер.
Приехал в Москву. Явка была на Сыромятниках. Она скоро провалилась.
В Москве видал Лидию Коноплеву, это блондинка с розовыми щеками. Говор – вологодский. Она уже и тогда левела. Кстати. Говорила, что в деревне, где она сельская учительница, крестьяне признают большевиков.
Об убийстве Володарского ничего не знаю, оно было организовано Семеновым отдельно. Узнал о том, кто убил Володарского, только в марте 1922 года из показаний Семенова.
Поехал в Саратов. С подложным документом. По документам этого типа было уже много провалов.
Организация в Саратове была партийная, эсеровская.
Главным образом занималась она переотправкой людей в Самару.
Но были, очевидно, и планы местного восстания.
Я попал в Саратов и закрутился в нескольких чрезвычайно сложных явках, изменяемых со днями недели.

Это не помешало им провалиться при помощи провокации.
В Саратове жило довольно много народу.
Военной организацией управлял один полусумасшедший человек, имя которого забыл, знаю, что он потом поехал в Самару и был заколот солдатами Колчака при перевороте.
Жили мы конспиративно, но очень наивно, все чуть ли не в одной комнате.
Жить в этом подвале мне не пришлось, уж очень много набралось в нем народу.
Меня устроили в сумасшедший дом под Саратовом, верстах в семи от города.
Это тихое место, окруженное большим и неогороженным садом, освещенным фонарями.
Я жил там довольно долго.
Иногда же, не помню почему, спал в стогу сена под самым Саратовом.
В сене спать щекотно, и сразу принимаешь очень негородской вид.
А ночью проснешься и смотришь, выползши немного наверх, на черное небо со звездами и думаешь о нелепости жизни.
Нелепость, идущая за нелепостью, выглядит очень обоснованно, но не в поле под звездами.
При мне отправляли австрийских пленных на родину. Многие из них ехать не хотели. Прижились уже к чужим бабам. Бабы плакали.
Кругом в деревнях были восстания, т<о> е<сть> не отдавали хлеб; тогда приезжали красноармейцы на грузовиках.
Каждая деревня восставала отдельно; комитет в Саратове сидел тоже отдельно.
Комната была в полуподвале.
Старшие жили где-то в другом месте.
Совещаться ездили за город на гору, но раз, поехав, убедились, что все едем на одном трамвае.
Город пустой, но хлеба много, красноармейцы ходят в широкополых шляпах и сами боятся своей формы.
То есть красноармейцы боятся своих шляп, потому что думают, что они им – в случае наступления из Самары – помешают прятаться.
Волга пустая. С обрыва видны пески и полосы воды. На берегу пустые лавочки базаров.
В Саратове я чувствовал себя неважно; меня скоро послали в Аткарск.
Аткарск город маленький, весь одноэтажный: два каменных здания – бывшая городская дума и гимназия.
Город делится на две части, из которых одна зовется Пахотной – обитатели ее пашут.
Таким образом, это полугород.
А против здания Совета – бывшая гимназия – стояли пушки, из них стреляют по Пахотной стороне, когда там «крестьянские восстания».
Улицы немощеные.
Домики крыты тесом. Хлеб – полтинник фунт. Петербургских узнают по тому, что они едят хлеб на улице.
На базаре все лавки закрыты. Несколько баб продают мелкие груши «бергамоты». Какой-то неопределенный человек показывает панораму «О Гришке и его делишках».
Посреди города – сад густой, в нем вечером гуляют.
А посреди сада – павильончик, в нем советская столовая: можно обедать, но без вилок и ножей, руками.
Дают мясо и даже пиво. Официант не мылся с начала империалистической войны.
На Пахотной стороне скирды хлеба.
В городе едят сытно, но очень скверно, масло сурепное, мучительное.
И весь город одет в один цвет – синенький с белой полоской, так выдали.
А вообще все пореквизировано, до чайных ложек со стола.
Страшно голо все. И было, вероятно, все голо. Только раньше жили сытнее.
Остановился жить, т<о> е<сть> дали мне комнату через Совет, у одного сапожника.
Сапожник с двумя сыновьями раньше работал и имел ларек на базаре; арестовали его как представителя буржуазии, подержали, потом стало смешно, отпустили, только запретили частную работу.
Вот и жил потихонечку.
Я благодаря связям получил место агента по использованию военного имущества, «негодного своим названием», то есть не могущего быть использованным по своему прямому назначению.
Это – старые сапоги, штаны, старое железо и вообще разный хлам.
Должен был принять этот хлам, его рассортировать и переслать в Саратов. Я же предлагал устроить починочную мастерскую в Аткарске.
Мне дали хлебные амбары, доверху наполненные старыми сапогами и разной рванью.
Я взял своего хозяина с его сыновьями, принанял еще несколько человек, и мы начали работу.
Работа меня, как ни странно, интересовала.
Жил же я вместе с сапожниками, отделенный от них перегородкой со щелками, спал на деревянном диване, и ночью на меня так нападали клопы, что я обливался кровью.
Но как-то это не замечалось. Обратил на это внимание хозяин и перевел меня спать с дивана на прилавок.
Я уже считал себя сапожником.
Иногда меня вызывали в местную Чека, которая чуть ли не ежедневно проверяла всех приезжих.
Спрашивали по пунктам: кто вы такой, чем занимались до войны, во время войны, с февраля до октября и так дальше.
Я по паспорту был техник, меня спрашивали по специальности, например название частей станков.
Я их тогда знал. Держался очень уверенно.
Хорошо потерять себя. Забыть свою фамилию, выпасть из своих привычек. Придумать какого-нибудь человека и считать себя им. Если бы не письменный стол, не работа, я никогда не стал бы снова Виктором Шкловским. Писал книгу «Сюжет как явление стиля». Книги, нужные для цитат, привез, расшив их на листы, отдельными клочками.
Писать пришлось на подоконнике.
Рассматривая свой – фальшивый – паспорт, в графе изменения семейного положения нашел черный штемпель с надписью, что такой-то такого-то числа умер в Обуховской больнице. Хороший разговор мог бы получиться между мной и Чека: «Вы такой-то?» – «Я». – «А почему вы уже умерли?»
В город приезжали двухпудники: это служащие и рабочие, которым Совет разрешил привезти себе по два пуда муки, было такое разрешение.
Они заполнили все уезды.
Потом разрешение отменили.
Один человек застрелился. Он не мог больше жить без муки.
Приехал ко мне один офицер, бежавший из Ярославля с женой. И он, и жена его были ранены и скрывали свои раны.
После восстания он, приехав в Москву, жил у храма Спасителя в кустах.
Он ел много хлеба и был чрезвычайно бледен.
Ярославль защищался, говорил он, отчаянно.
Я ходил обедать в сад в городе, где давали обед по мандату.
Вилок не было, ели руками. Обед с мясом.
Там был гимназист из гимназии Лентовской, с которым я подружился. Он жаловался, что в их гимназии мало социалистов.
Он был лет 17 и принимал участие в карательной экспедиции.
Сейчас у него были неприятности.
У города Баланды расстрелял он лишних тринадцать человек, и на него рассердились.
Он решил искать другого места.
Разведчики с того берега Волги переходили на наш и однажды случайно взяли Вольск, из которого красноармейцы убежали.
Из Аткарска тоже убежал отряд, испугавшись грозы.
Они убежали в овраг, захватив свои вещи.
Разведчики, однако, не могли наступать на Саратов, так как их было 15 человек.
А с другой стороны наступали донские казаки, но они были плохо вооружены, и из-за Волги пришедшие люди говорили, что белые стреляли часто учебными патронами с дробинкой, как на стрельбе в цель. Так же рассказывали мне красноармейцы.
Все было очень неустойчиво.
Про казаков говорили, что они бьют в трещотки, чтобы изобразить выстрелы.
В боях и усмирениях принимали участие броневики, но я не мог найти с ними связи.
Моих учеников там не было.
В Аткарске узнал о покушении на Ленина и об убийстве Урицкого.
В Саратове произошел очередной провал, все были арестованы.
Я приехал и узнал об этом случайно; все же решился зайти на одну квартиру, где, знал, можно достать паспорт.
Мой – я считал испорченным.
Пришел. Пусто. Мне открыла прислуга.
Большой еж ходил по полу, стуча своими тяжелыми лапами. Хозяина увезли. Не знаю, увидел ли он когда-нибудь своего ежа.
Я повторил обыск, нашел паспорт, впрыгнул в трамвай и в тот же час уехал на нефтяном поезде в Аткарск.
Там я собрал свои книги, по которым я писал статью «О связи приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (эта статья как у киплинговской сказки о ките: «Подтяжки не забудьте, пожалуйста, подтяжки!»), и отправил их почтой в Петербург.
А сам уехал в Москву.
Одет я был нелепо. В непромокаемый плащ, в матросскую рубашку и красноармейскую шапку.
Мои товарищи говорили, что я прямо просился на арест.
Ехал в теплушке с матросами из Баку и с беженцами, которые везли с собой десять мешков с сухарями. Это было все в их жизни.
Приехал в Москву, сведения о провале подтвердились, я решил ехать на Украину.
В Москве у меня украли деньги и документы в то время, как я покупал краску для волос.
Попал к одному товарищу (который политикой не занимался), красился у него, вышел лиловым. Очень смеялись. Пришлось бриться. Ночевать у него было нельзя.
Я пошел к другому, тот отвел меня в архив, запер и сказал:
«Если ночью будет обыск, то шурши и говори, что ты бумага».

Прочел в Москве небольшой доклад на тему «Сюжет в стихе».
В Москве я опять встретил Лидию Коноплеву, блондинку с розовыми щеками; она была недовольна, говорила, что политика партии неправильная, народ не за нас, и еще одну старую женщину, которая мне все говорила: «И что мы делаем, ведь ничего не выходит!» На другой день они обе были арестованы.
Саратовская организация провалилась до провокации. Семенов был арестован в Москве в кафе у Покровских ворот. При аресте отстреливался. Он везде носил большой маузер на животе. Его привезли в тюрьму, и во дворе он вытащил второй маленький маузер, стрелял и ранил провокатора.
Его судили и оправдали по амнистии.
Я поехал на Украину.
Ехало много народу. В Курске все служили: какая-нибудь старуха на улице идет, и она служит где-нибудь в комиссариате. В Курске спутал явки и испугал людей.
От Курска или Орла пересели на Львов, доехали до Желобовки, а там сошли все с поезда и пошли пешком на Украину.
Шли открыто, шло народу много, все с узелками через плечо.
Идут навстречу солдаты, останавливают меня и одного маленького еврея в необыкновенно длинной шинели.
«Идите за нами!»
Пошли, но не в сторону станции, а в поле.
Вышли во впадину. Тихо, ветер не дует.
Была на мне кожаная куртка с дырочкой на животе: ее прострелило на мне во время одной атаки на войне.
Я пробовал часто эту дырочку пальцем.
А кожаная куртка была трепаная. Лежал я в ней под всеми автомобилями.
Сверх нее была короткая куртка из старой солдатской шинели, еще свитер.
Говорят мне – раздевайтесь!
Солдат посмотрел на меня задумчиво и сказал: «Вы, товарищ, переодетый, у вас с собой деньги есть!»
Я вынул деньги и показал, было у меня с собой денег 500 рублей царскими.
«Нет, это не то, у вас деньги крупные, и заклеены они или в голенищах, или…»
Он долго мне объяснял, как прячут деньги, и осматривал мои вещи.
Посмотрел на меня с уважением и сказал: «Вы мне все-таки скажите, где спрятали деньги, мне интересно».
Говорю: «Денег нет».
«Ну одевайтесь».
Я оделся, а он осмотрел еврея, потом развернул мои вещи, но смотрел их невнимательно и сказал:
«Ну в вещах ничего нет, я знаю, что никто в вещах ничего не держит, все на себе».
Потом разложил все вещи, и мои, и другого, отобрал, что хотел. Тихо, спокойно, не обидно даже. Просто, как в магазине.
У меня взял денег немного и куртку вместе с дырочкой.
Во впадине было тихо, поговорил я с солдатом о Третьем Интернационале, – разговор наш еще начался, когда он с меня сапоги снимал, – поговорил об Украине, и пошел он нас провожать короткой дорогой.
Пошли, встретились с другим солдатом, но наш провожатый сказал ему: «Осмотрены» – и показал нам в поле: «Вот идите на те тополя».
Шел дождь, под ногами была пашня, я брел долго, потерял своего спутника, в отдалении люди пахали, я удивлялся, глядя на них.
Теперь знаю, что пахать нужно даже между двумя фронтами, даже под пулями, а на тех, которые идут и мечутся, не нужно и удивляться.
Пришел я к проволочному заграждению, за ним немецкий солдат.
Как тяжело было идти под немца!
Собрал все слова, какие знал по-немецки, и сказал часовому. Он меня пропустил, и я попал в маленькую деревушку, всю заваленную вещами и беженцами, Коренево.
Здесь было много желтых булок, красной колбасы и синего колотого сахара.
Мы сели за самовар в одной лачуге; я и какой-то офицер, убежавший босиком из России, пили чай с сахаром и ели булки.
Все аналогии с чечевичной похлебкой я знаю сам, не подсказывайте!
Приехал в Харьков, побывал у родных.
В Харькове увидал своего старшего брата, доктора Евгения Шкловского.
Через год он был убит.
Он вел поезд с ранеными; напали на поезд и начали убивать раненых.
Он стал объяснять, что этого нельзя делать. До революции ему раз удалось остановить в г<ороде> Острове холерный бунт. Здесь это было невозможно. Его избили, раздели, заперли в пустом вагоне и повезли.
Фельдшер дал ему пальто.
Его перевезли в Харьков, здесь он отправил записку к родным.
Те долго искали на путях. Нашли, вымолили и положили в госпиталь, где он умер от побоев в полном сознании. Сам щупал, как останавливается его пульс.
Он сильно плакал перед смертью.
Убили его белые или красные.
Не помню, действительно – не помню. Убит был он несправедливо.
Умер 35 лет. В молодости был в ссылке, убежал. В Париже кончил архитектурное отделение Академии.
В России, вернувшись, стал врачом. Был удачливым хирургом Служил в клинике Отто.
Как-то раз, зайдя на вокзал, я решил ехать в Киев на несколько дней. Уехал с вокзала, не предупредив никого.
Киев был полон людей. Буржуазия и интеллигенция России зимовала в нем.
Нигде я не видел такого количества офицеров, как в нем.
На Крещатике все время мелькали «владимиры» и «георгии».
Город шумел, было много ресторанов.
Я увидел, как нищий, вынув из сумы кусок хлеба, предложил его извозчичьей лошади.
Лошадь отвернулась.
Это было время, когда на Украине собралась вся русская буржуазия, когда Украина была занята немцами, но немцы не смогли ее высосать начисто.
На улицах развевались трехцветные флаги. Это были штабы добровольческих отрядов Кирпичева и гр<афа> Келлера и еще, кажется, под названием «Наша родина».
А на одной улице висел никогда прежде не виданный флаг. Кажется, желтый с черным, а в окне портреты Николая и Александры Феодоровны; то было посольство Астраханского войска.
Гетманских войск почти не было видно, хотя раз в день проходили отряды русских офицеров, сменявшихся с караула на гетманском дворце. У них была своя форма с маленькой кокардой и узкими погонами.
На постах стояли немцы в громадных сапогах на толстой деревянной подошве, сделанных специально для караулов.
Пока я метался – наступила зима.
Город был русский, украинцев не видно было совсем.
Выходили русские газеты; из них помню «Киевскую мысль», что-то вроде «Дня», и «Чертову перечницу».
«Киевская мысль», конечно, выходила и раньше, но время было не ее, а «Чертовой перечницы», Петра Пильского и Ильи Василевского (Не-Буква).
Я думаю, что они еще издают и сейчас где-нибудь «Чертову перечницу» («Кузькина мать» она же).
Был кабачок – «Кривой Джимми», кажется, а в нем – Агнивцев и Лев Никулин, потом ставший заведующим политической частью Балтфлота, а сейчас член афганской миссии.
Здесь я встретился с несколькими членами партии с. р., которые в это время были связаны с Союзом возрождения России, главой которого был Станкевич.
Немцы кончались. Они были разбиты союзниками, это чувствовалось.
Значит, накануне смерти была и власть Скоропадского, и даже с этой точки зрения нужно было что-то предпринимать.
Из Украины двигались петлюровцы.
Но Союз возрождения, да и вообще весь русский Киев, кроме большевиков, конечно, был связан волей союзников.
Воля союзников олицетворялась в Киеве именем консула, сидящего, кажется, в Одессе, фамилия его была Энно.
Энно не хотел, чтобы в политическом положении Украины происходили перемены.
В Германии уже была революция, немцы образовывали Советы, правда – правые, и готовились уезжать.
Уже шли поезда с салом и сахаром из Украины для Германии. Увозили автомобили русской армии, прекрасные «паккарды».
Отступление немцев не имело характера бегства.
На Украине были следующие силы: в Киеве Скоропадский, поддерживаемый офицерскими отрядами, – офицеры сами не знали, для чего они его поддерживали, но так велел Энно.
Кругом Киева Петлюра с целой армией.
В Киеве немцы, которым было приказано французами поддерживать Скоропадского.
Так, по крайней мере, выглядело со стороны.
И в Киеве же городская дума и вокруг нее группа русских социалистов, связанных с местными рабочими.
Они хотели произвести демократический переворот, но Энно не позволял.
А в отдалении – «вас всех давишь» – голодные большевики.
Меня попросили поступить в броневой дивизион на случай. Я сперва пошел в крепость, в отряд Скоропадского.
Меня спрашивали там, как прибывшего из России, будут ли большевики сопротивляться, а один подпрапорщик все интересовался вопросом, кованы ли у большевиков лошади.









































