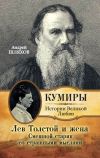Читать книгу "Лев Толстой"

Автор книги: Виктор Шкловский
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Хуже дело обстояло тогда, когда помещик мечтал об изменении имущественных, социальных отношений между собой и своими крестьянами.
Нехлюдов – так в этот раз называется герой, которому на время, для того чтобы освободиться от самого себя, Толстой передает часть своих интересов и сомнений. Нехлюдов живет в деревне и с записной книжкой и с деньгами выходит на деревенскую улицу. Люди, с которыми он будет сейчас разговаривать, в его распоряжении, он им может приказывать. Он от них хочет немного: он хочет поднять благосостояние бедных, помочь среднему мужику, опереться на богатого мужика, вступить с ним в союз, соединить деньги богатеев со своими деньгами и прикупить землю. Стараться, чтобы мужики не занимались извозом, чтобы они жили дома землей.
Крестьянские избы разорены – падают у бедняков. Нехлюдов может дать лесу, и, кроме того, он придумал, вернее, принял чужую придумку, новые избы: «каменные герардовские избы» с пустыми стенами, с засыпкой.
Между тем Иван Чурисенок – крестьянин, действительно существующий в Ясной Поляне, толстовский сосед, – просит от барина только сошек для того, чтобы подпереть падающий потолок. Разговор идет в подопрелом срубе Чурисенка; изба осела углами, порог выгнил. Когда-то и двор и изба были покрыты одной крышей, теперь видны решетник, стропила и обрывки старой гнилой соломы.
У колодца сруб развалился, от столбов и колеса мало что осталось; над колодцем стоят две старые ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями; ракиты тоже надломлены.
Иван Чурис не стар, лицо его красиво и выразительно, темно-голубые глаза глядят умно и добродушно-беззаботно, но ноги согнуты, кожа на шее, лице и руках загрубела. Красавец сутулится. Он в белых посконных портках с синими заплатками на коленях и в грязной, расползающейся на спине и руках рубахе. Иван Чурис просит пять сошек, хотя он знает, что только тронь его избу – дерева дельного не найдешь.
Старая изба падает – сам Чурисенок говорит, что накатина с потолка «по спине как полыхнет ее (бабу. – В.Ш.), так она до ночи замертво пролежала».
Барин предлагает мужику переселиться на новое место и жить в избе с двойными кирпичными стенками, между которыми засыпана для тепла земля.
Барин улыбается торжествующей скромной детской улыбкой, чувствуя себя благодетелем.
Бабы начинают вой. Чурисенок сам теперь видит, что дело его пропащее.
Переселиться Чурисенок не хочет: «Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? Голь. Ни плетней, ни овинов, ни сараев, – ничего нетути».
Чурисенок держится за свое бедное житье, которое хоть «искони заведенное». Тут и гумно, и огород, и ветлы.
Чурисенок хочет, чтобы его не трогали.
Чурисенок пропадает, хотя он мужик рабочий.
По-другому пропадает Юхванка Мудреный. Пропадает и Давыдка Белый – смирный, тихий, не могущий работать мужик.
Хорошо только в доме богатого мужика, у которого пять троек работают на извозе, и чистая изба, и пчельник.
Нехлюдов предлагает богатому Дутлову: «Купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю…
Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика».
Он доказывает, что купить ему не на что, что это про него злые люди говорят, а у него, кроме пятнадцати целковых, ничего нет.
Нехлюдов уходит ни с чем.
Старик по-своему прав: дать он барину может, но получить обратно от барина не сможет.
Барин захочет – отдаст, захочет – не отдаст. А если барин продаст землю, то и не выполнит уговора.
Конечно, Нехлюдов не Толстой; но Толстой где-то рядом, и Нехлюдов может оказаться Толстым. А Толстой все время пишет в эти годы братьям: в марте 1849 года он просит брата Сергея продать лошадей да поторопить раздел пустоши Гончуровки. Тоже, вероятно, собирается продать. Тогда же он пишет приказчику о продаже леса, а в апреле брату Сергею опять о продаже. И опять тому же брату пишет недели через две: «Кончи как-нибудь с этими купцами».
В мае он просит брата продать Малую Воротынку – имение с двадцатью двумя душами, и в мае же он опять настаивает, чтобы продавали скорее землю и хлеб. В декабре следующего года он хлопочет о перезалоге и в декабре же пишет тетке Ергольской опять о деньгах.
Он горит, и продает, и торопится, и путает. И как же с таким барином стать компаньоном, товарищем в деле? Деньги Дутлова могут пропасть.
Дурит барин. Ночь, месяц светит, вору острастка, ночь светла. А барин не спит, играет большими руками на пожелтевших, покоробленных костях теткиного пианино, а иногда возьмет собаку и ее желтыми собачьими лапами хлопает по клавишам.
На перекладине занимается: висит вниз головой и в таком виде с приказчиком разговаривает – дает приказанья. Хотя барин добрый, но лучше ему деньги не показывать.
Дело господское. И лучше уйти в далекий извоз, на Одессу.
Об этом мечтает не Толстой, а его Нехлюдов. Он бы хотел быть ямщиком Ильюшкой. Сны видит: «Видит Одест, и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами, и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше…»
Он молод, силен, он дворянин, он скоро достанет бумагу из Герольдии на графа и, хотя он разорен наполовину, еще имеет дом и землю. Он знает музыку, говорит на разных языках, но хочется бежать отсюда, хоть на край света, хочется лететь все дальше и дальше, как тому гоголевскому бедняге, чтобы не видно было ничего, ничего…
«Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик…»
Толстой читает
В Ясной Поляне Лев Николаевич усиленно занимался хозяйством; ему казалось, что бедность крестьян и отсутствие дохода от имения происходят потому, что люди работают неправильно – не так пашут, не так молотят, не то сеют и разводят не тот скот.
Он сам сконструировал и построил молотилку, о которой рассказывает в «Утре помещика». Молотилку опробовали при народе. Машина шумела и свистела, но не молотила, и мужики смеялись.
У соседа Гагарина в имении Сергиевское продавали тирольских телят.
Лев Николаевич поехал смотреть новую породу.
Бычки были прелестны – курносые, коричневые, с обводами вокруг глаз и с розовыми мордочками, от них сильно и хорошо пахло. Лев Николаевич остался ночевать у управляющего и на сон грядущий попросил почитать какую-нибудь книгу или взял первую попавшуюся. Оказались стихи. Он стал читать и прочел всё до конца; потом стал читать вторично сначала и так и не заснул всю ночь до самого утра. Это был «Евгений Онегин».
Случилось это тогда, когда Льву Николаевичу было восемнадцать лет.
Книга пришла вовремя, пришла к человеку уже думающему, читавшему. Молодой помещик узнал, что то, что он видит вокруг себя, не только может быть описано, но и может быть понято через анализ – описанием. Лев Николаевич, вероятно, в то время уже знал Стерна. Цитаты из Стерна идут у него не случайно; Стерн научил его распутывать нити добра и зла, которые так сплетены в жизни.
Руссо и Стерн научили Толстого дорожить человеческим чувством. Но Стерн играет с человеческим чувством, играет с описанием, обманывает читателя, кокетничает своим превосходством над читателем, искусственно тормозит действие, задерживая все на описании чувства. Он учил людей понимать чувство, но одновременно учил пренебрегать действием.
У Пушкина за чувствами Евгения Онегина, Татьяны, Ленского лежит не только человеческое чувство, но и серьезные человеческие отношения. План человеческой души как бы положен на карту страны и включен в ее историю.
Автор многократно истолковывает своего героя, принимает на себя суд над ним и наблюдает его рост.
Та ночь, которую провел Толстой над «Евгением Онегиным», была ночью нового его, не читательского, а писательского, отношения к литературе.
Очень рано Толстой поставил перед литературой задачи учительства. Он познает душу для того, чтобы эту душу переделывать.
Первоначально представления Толстого о своих задачах наивны.
Есть у него отрывок «Для чего пишут люди». Оказывается, люди пишут для того, чтобы их читали, а читают люди для того, чтобы быть счастливыми, а для того, чтобы быть счастливыми, надо овладеть добродетелью, надо склонять человека к рассудительным поступкам, а не развивать его страсти, влекущие его к деяниям безрассудным. Добродетель – это подчинение страстей рассудку.
Это юношеские строки.
Это как будто бы еще XVIII век.
Великий человек, вырастая, переворачивает пласты культуры, и для него паханое поле оказывается целиной.
Лев Николаевич читал в ранней юности очень посредственную книгу Д. Н. Бегичева. Эта книга, сильно проредактированная умным журналистом Николаем Полевым, вышла в 1832 году и имела большой успех. Она многопланна, описывает жизнь дворянства того времени; называется – «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян».
Люди, которые в ней описаны, очень похожи на людей, окружавших Толстого.
Это умные люди, увлекающиеся музыкой и картами, дуэлянты, любители цыганского пения и больше всего – обиженные люди.
«Семейство Холмских», несмотря на очень небольшое мастерство автора, показало Толстому возможность реалистического русского романа. Дворянский роман Бегичева стоит между романом последекабрьским и романом новым – толстовским.
Искусство рождается на общей работе человечества, раскрывается сразу, оно и твое собственное, и то, что ты узнал от другого. Оно использует те способы связи людей, которые были созданы раньше, и в то же время сообщает людям новое о твоей душе.
Толстой любил, скажем точнее, Толстой поразился наивной для нашего сегодняшнего восприятия повестью Григоровича «Антон Горемыка». Это была повесть о разоренном мужике, и Лев Николаевич в 1893 году, когда пришел пятидесятилетний юбилей литературной работы Григоровича, писал старому полузабытому писателю:
«Вы мне дороги… в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня, вместе с „Записками охотника“, ваши первые повести. Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда 16-летнего мальчика, не смевшего верить себе, „Антоном Горемыкой“, бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и – хочется сказать – нашего учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом».
Читал в это время Толстой «Героя нашего времени» Лермонтова, читал по-своему; вероятно, у Лермонтова он научился смело вводить в художественное произведение точное географическое описание – не романтический пейзаж и противопоставлять романтическому герою простого человека.
Русская литература дала Толстому очень много, она его научила. Он начинал писать среди большого хора великих и средних писателей.
Ему не хватало жизни, биографии.
Что же касается тирольских телят, которых хотел купить Толстой, то как будто в тот раз он их не купил, но и не раздумал покупать.
В усадьбе
Было время, когда декабристское движение магнитом прошло над железной Россией и притянуло к себе все лучшее, что было в дворянстве. Толстой справедливо отмечал, что крестьянского слоя тот магнит не коснулся.
Напрасно послал Гоголь доверчивого Митеньку Толстого по деревне делать добро. Сам же он писал, что история смотрит на него лицом смотрителя почтовой станции и говорит: «Нет лошадей».
Кончилась история, остановлена; лучшие убиты.
А мечта растет.
Бестужев убит на Кавказе. Пушкинский Алеко с медведем ушел к цыганам, все дальше, чтобы не видно было ничего, ничего, дальше от неразрешимого вопроса – как быть с совестью, с Россией, с крестьянством им, молодым, добрым, сильным.
Что его гонит из родного дома, превращая в скитальца? Не долги же!
Человек, много раз самому себе изменивший, Достоевский в речи на Пушкинском юбилее, вспоминая об Алеко и Евгении Онегине, говорил, что русскому скитальцу нужно всемирное счастье.
Лев Николаевич недавно уже садился в чужую повозку, когда двоюродный брат уезжал в Сибирь. Но поехал он пока в Петербург – в феврале 1849 года.
Тихо катятся яснополянские сани, яснополянские кони по заснеженному Петербургу. Белы замерзшие глаза домов. Белы кровли. Бела Нева.
Лев Толстой живет на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта. Ищет старых знакомых, находит новых. Отыскался в Питере старый друг Володя Милютин, который гимназистом сообщил братьям Толстым как последнюю новость, что «бога нет». Теперь, через десять лет, он стал писателем. Милютин писал: «…совершенство, как для отдельного человека, так и для целого человечества, состоит в гармоническом, всестороннем развитии его способностей и сил и в полном удовлетворении всем законным его потребностям, данным ему природой и развитым образованностью. Другими словами, истинное призвание человечества заключается в непрерывном стремлении к счастью, к блаженству, к развитию своего благосостояния в физическом, материальном, умственном и нравственном отношениях».
Эта вера заменила веру в бога.
Под этими скромными словами скрыта закипающая мысль о социальном переустройстве.
Тогда над Россией проходил новый магнит – идея полнейшего переустройства мира, превращение городов рабства и праздности в города свободы и гармонии. Идея преобразования мира, новой любви, новых производственных отношений. Слово «социализм» появилось в России, хотя еще не точно знали, что оно значит.
В тетрадях толстовского дневника есть записи взволнованные, удивленные. Он размышляет о народном искусстве и говорит: «Пускай идет вперед высший круг, и народ не отстанет; он не сольется с высшим кругом, но он тоже подвинется».
Толстой пишет: «Зачем говорить утонченности, когда еще остается высказать столько крупных истин», – и тут же продолжает: «Искали философальный камень, нашли много химических соединений. Ищут добродетели с точки зрения социализма, то есть отсутствия пороков, найдут много полезных моральных истин».
Это об утопическом социализме как о системе, предписывающей то, что еще не найдено.
О поисках философского камня и о химии писал в показаниях на процессе петрашевцев Ф. М. Достоевский, пытаясь убедить судей в безвредности утопий и отодвинутости их в будущее.
Но об этом же говорил и Маркс: «Первые социалисты (Фурье, Оуэн, Сен-Симон и др.) должны были неизбежно… ограничиваться мечтами об образцовом обществе будущего и осуждать все попытки рабочего класса, такие, как стачки, союзы и политические выступления, направленные хотя бы на некоторое улучшение его участи. Но если мы не должны отрекаться от этих патриархов социализма, как современные химики не могут отречься от своих родоначальников, от алхимиков, то мы должны, во всяком случае, стараться не впасть в их ошибки, так как с нашей стороны они были бы непростительны».
Толстой остался алхимиком, потому что его интересовал философский камень – добродетель, которая должна была превратить все в золото счастья, не трогая основ общества.
Он дружит с В. А. Милютиным и пишет брату в 1849 году из Петербурга, что он в этом городе «намерен остаться навеки»; перечисляет новых своих знакомых, говорит, что они по достоинству выше московских; думает о службе и умоляет, конечно, продать Савин лес и взять еще где-нибудь деньги вперед и продать хлеб.
Он гуляет в Петербурге, кутит с Костенькой – К. А. Иславиным – незаконным сыном Исленьева.
Костенька был блестяще одаренным музыкантом, но дилетантом. Многое в своей молодости Толстой делал из подражания Косте. Он записал 29 ноября 1851 года в Тифлисе: «Любовь моя к Иславину испортила для меня целых 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему».
Сам Костя, бездомный человек, не могущий занять в обществе своего положения, человек, почти завистливо называющий Сергея Николаевича Толстого «грозным владельцем трехсот тринадцати пироговских невольников», оказывается Мефистофелем Льва Николаевича. И у Льва Николаевича и у Сергея Николаевича есть крепостные. У Иславина нет ничего, кроме денег, которые дает ему отец трудными, обходными путями.
Это человек толстовского круга, но уже совсем без корней. Он был дядей Софьи Андреевны – будущей жены Льва Николаевича. Впоследствии в Ясной Поляне звали его «дядя Костя».
Лев Николаевич в Петербурге обставляет комнаты мебелью, что с ним бывает редко, играет, занимает деньги, запутывается и в то же время растет и пишет.
Толстой в Петербурге сдавал кандидатские экзамены, причем сдавал удачно. Как ни огромны толстовские способности, как ни была велика его память, но он должен был и заниматься. Он сдал два экзамена по уголовному праву и вдруг уехал в Ясную Поляну с немцем Рудольфом.
В мае он берет обратно документы, ищет деньги, хочет уехать юнкером на венгерскую кампанию и вместо этого забивается в Ясную Поляну.
Лев Николаевич попытался ворваться в жизнь в новом вооружении, преодолеть то, что Оленин называет «не гармоническим прошлым». Он вернулся в Ясную Поляну, и вот тут и началась цыганщина, и музыка Рудольфа, и в то же время, как всегда у Толстого, изучение новой музыки.
Пока что он недовольно и ребячливо следит за собой, делает сам себе выговоры, ведет штрафную книгу о самом себе.
Надо сказать о Льве Николаевиче, что он пишет о себе тогда, когда недоволен. Его дневники – записи неудач, ошибок, неловких положений. О работе пишет часто, но коротко. Поэтому появление удач всегда поразительно.
Не только соседи-помещики, но и братья считают Льва Николаевича самым пустячным малым.
Немец Рудольф живет в оранжерее, которую дедушка еще, князь Волконский, построил. Там персиковые деревья, персики поспевают, и продать можно в Тулу и в Москву, а их едят цыгане.
Собрал молодой граф старых дворовых, отыскали по их квартирам скрипки, флейты, играют непонятное – хуже цыганского пения – без слов.
У Толстого в доме шумно: брат Сергей приезжает с цыганами, поют, кутят. Сергей выкупает за большие деньги из хора цыганку Машу Шишкину, долго будет с ней жить, а потом женится на ней. Чуть и брата Льва не женил на цыганке, а пока только научил говорить по-цыгански.
В ту пору многие увлекались цыганским пением. Цыганские романсы с гитарой в руках пел Аполлон Григорьев и сам создавал романсы с полупонятными цыганскими словами. Вместе с ним слушал эти песни и подпевал саперный офицер, будущий великий физиолог Сеченов, учитель Павлова, создатель теории рефлексов.
В Ясной Поляне цыган любили. Большой двухсветный зал яснополянского дома наполнялся курчавыми людьми с черными блестящими глазами, с лицами темными, как будто кирпичного цвета. Старухи размахивали руками и кричали пронзительными голосами, ходили мужчины, одетые в голубые, плотно стягивающие их стройные талии казакины, широкие шаровары и сапоги, женщины в лисьих, крытых атласом салопах, с яркими шелковыми платками на головах; они снимали салопы, осторожно клали их на стулья и оказывались в красивых и дорогих, ярких и немодных платьях.
Говорили, шумели. Командовал Сергей Николаевич. Потом цыган с длинными волосами садился, брал аккорд, подкинув ногой гитару, и плавно запевал:
Ведь ли да как ты слы-ыш-ишь…
Хор подтягивал плавно и дружно.
Пели сперва плавно, потом все живей и живей, с необыкновенной энергией и неподражаемым искусством. Хор неожиданно замолкал. Снова первоначальный аккорд, и тот же мотив повторялся нежным, сладким, звучным голоском; с необыкновенно оригинальными украшениями и интонациями голос становится все сильнее и энергичнее, и вот мотив передается в незаметно вступающий хор.
Толстой любил цыганское пение и много раз по-разному описывал его. Он жил в промежутках между вдохновеньем в голосе ветра цыганской песни. Для него это была и степь, и отказ от всего привычного, от всего найденного, переход через потери к широкому, свободному; он по десять раз записывал одну и ту же песню, и один и вместе с Рудольфом, и удивлялся искусству и разнообразию цыганских напевов.
Он любил, когда цыгане пели старинные, хорошие русские песни. В этом у Толстого был одинаковый вкус со своими братьями и с приятелями, но он сразу же попытался понять, что такое музыка, расчленив, какова она в сознании музыканта и в сознании слушателя.
Начинается анализ, что такое музыка «на бумаге, на инструменте, и для нашего уха». Со своей всегдашней обстоятельностью, исследуя «отношение звуков в отношении силы», Толстой создает тут же схему изучения музыки; схема выполнена графически, она напоминает графическое изображение большого, разветвленного промышленного предприятия с рядом подсобных заводов.
Странно думать, что рядом с этой работой теоретика и схематизатора шло веселье и цыгане пели в двухсветном, плохо меблированном зале большого дома Ясной Поляны.
Цыганское пение затягивалось до утра, пока не светлели окна, ничем не завешенные.
Цыганка – о ней вспоминал Толстой в станице Старогладковской – говорила ему неверные, влюбленные слова.
Толстой вспоминает о них, переживая тоску перед вдохновеньем.
Его первый литературный замысел – «Повесть из цыганского быта». О цыганском пении он напишет вдохновенные слова пятьдесят лет спустя, в пьесе «Живой труп».
Когда жизнь не сразу тебя подымает, рождается тоска о несвершенном.
Сверстники Толстого лечили тоску цыганским пением и картами. Их веселье было невесело. Толстой мучался, смотря на веселье умного, любимого брата Николеньки.
Карты приходили, уходили, приходили в разных комбинациях, они как будто заменяли судьбу и даже давали судьбу: надежду на выигрыш. Карты становились между человеком и беспощадным временем и защищали от времени.
Толстой в Ясной Поляне, и на Кавказе, и в Севастополе, и в Петербурге, и за границей много играл.
Что ж, тетка его, Ергольская, раскладывала пасьянс – это тоже было утешением для человека незавершенной и неудавшейся судьбы.
Толстому забываться было трудно, потому что жил он и был несчастлив в деревне, которую очень хорошо знал.
Умолкают цыганские песни. На старых бостонных столах с инкрустациями, с углублениями для фишек лежат карты. Свечи погашены.
За парком выплывает среди сталкивающихся друг с другом и как будто остановившихся туч солнце.
В просвете между деревьями серая земляная пыль встает над сохами и весенними худыми спинами крестьянских коней. Пашут: Иван Чурисенок, Юхванка Мудреный, Давыдка Белый.
Отдельно за исправными конями ведет прямую борозду Карп Дутлов – рыжебородый и мрачный.