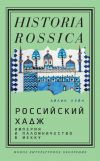Текст книги "Царь и султан: Османская империя глазами россиян"

Автор книги: Виктор Таки
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Виктор Таки
Царь и султан: Османская империя глазами россиян
Victor Taki
Tsar and Sultan
RUSSIAN ENCOUNTERS WITH THE OTTOMAN EMPIRE
Редакционная коллегия серии HISTORIA ROSSICA
Е. Анисимов, А. Зорин, А. Каменский, Ю. Слёзкин, Р. Уортман
Редактор серии
И. Жданова
Издание подготовлено при поддержке Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
В оформлении обложки использованы фрагменты картин: Неизвестный художник. Султан Абдул-Меджид I © Pera Museum, Istanbul; Неизвестный художник. Портрет императора Николая I. 1830-е гг. © Государственный Эрмитаж, С. – Петербург, 2016. Фотографы Ю. А. Молодковец, В. С. Теребенин, Л. Г. Хейфец.
© 2016, 2017, Victor Taki. Published by arrangement with I.B. Tauris & Co Ltd, London. Опубликовано по соглашению с I.B. Tauris & Co Ltd, London. Англоязычное издание книги под названием «Tsar and Sultan: Russian Encounters with the ottoman Empire» осуществлено I.B. Tauris & Co Ltd, London.
© Таки В., пер. с английского языка, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
* * *
Посвящается моей матери Зинаиде, моей жене Ольге и моей дочери Софье
Введение
На протяжении всей своей истории Россия воевала с Турцией чаще, чем с любой другой державой. С конца XVII столетия русско-турецкие войны случались каждые 15–30 лет, и это помимо других контактов, включая посольства, научные путешествия и туризм. Дневники и воспоминания участников «турецких кампаний», рассказы пленников, дипломатическая переписка, статистические публикации и описания путешествий составляют обширную литературу, отражающую восприятие военными, дипломатами и образованной публикой в целом исторического соперника России[1]1
Сверчевская A.K., Черман Т.П. Библиография Турции. М.: Восточная литература, 1961. Т. 1; Russian Travellers to the Christian East From the Twelfth to the Twentieth Century / Eds. Theophanes George Stavrou and Peter R. Weisensel. Bloomington, IN: Slavica Publishers, 1986.
[Закрыть]. Основываясь на этих источниках, данная книга представляет собой первый опыт культурной истории русско-турецких контактов с момента установления дипломатических отношений в конце XV века и вплоть до Крымской войны. Она демонстрирует, что претерпевшие серьезную эволюцию российские представления об Османской империи являются важным аспектом российского открытия Востока и не менее важной главой в истории вестернизации российских элит. В данной книге предпринимается попытка рассмотреть под новым углом зрения ориентализм в целом и российский ориентализм в частности, а также внести вклад в культурную историю империи, дипломатии и войны.
Настоящее исследование рассматривает различные формы русско-турецких культурных контактов, сыгравших важную и не до конца изученную роль в культурной истории России XVIII и XIX столетий. Российские посольства в Константинополь в раннемодерную эпоху послужили пространством символической борьбы за утверждение и поддержание имперского статуса державы. В этот же период многие десятки, а может быть, и сотни тысяч царских подданных оказались пленниками, чей опыт мы можем реконструировать на основании свидетельств, которые были оставлены теми немногими, кому удалось бежать и вернуться в Россию. Шесть русско-турецких войн, произошедших в XVIII – первой половине XIX века, предоставили русским офицерам достаточно возможностей поразмышлять над особенностями турецкой манеры ведения военных действий. Дипломатические контакты и военные столкновения способствовали формированию российских представлений об империи султана и подданных ему народах. Начиная с XVIII столетия клонящаяся к упадку османская держава представлялась противоположностью постпетровской России, которой вплоть до Крымской войны удавалось с видимым успехом перенимать западное знание и технологии власти. В то же время наблюдаемые российскими авторами национальные качества греков, сербов, болгар и румын, а также взаимоотношения между этими народами и их османскими властителями способствовали формированию эллинофильского и панславистского дискурсов, которые сыграли центральную роль в дебатах о российской идентичности в конце XVIII и в XIX столетии.
Россия была первой не западной нацией, вставшей на путь сознательной и целенаправленной вестернизации, которой удалось при этом не утратить суверенитета и не превратиться из субъекта международных отношений в их объект. Разумеется, под «Западом» в XVIII и XIX столетиях не стоит понимать существующую ныне общность ценностей или геополитический союз. На дискурсивном уровне единство Запада сформировалось достаточно поздно. Книга Ларри Вульфа об изобретении Восточной Европы демонстрирует, что деление на Запад и Восток стало преобладающим в символической географии европейского континента только к концу XVIII века. До эпохи Просвещения более значимым было деление на Южную и Северную Европу по линии Альп. Закат Швеции как великой северной державы и рост могущества России в контексте Северной войны 1700–1721 годов дали первоначальный импульс формированию дискурса о Восточной Европе, после чего разделение Европейского континента на Запад и Восток стало все более и более общеупотребительным[2]2
Wolff L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of Enlightenment. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994 (см. рус. пер.: Вульф Л.Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003).
[Закрыть].
Как геополитическая реальность «Запад» возник совсем недавно. До Второй мировой войны конфликты между государствами, ныне называемыми «западными», были более частыми и интенсивными, чем конфликты между последними и обитателями других частей света. В то же время вовлеченность в эти конфликты наделила западных соседей Московии определенной общностью исторического опыта (Ренессанс, Реформация, научная революция), которая едва ли распространялась на царей и их подданных. Желание компенсировать этот недостаток и сохранить суверенитет в условиях все более обостряющейся международной конкуренции заставляло московских правителей имитировать «немецкие» и «латинские» технологии и культурные практики[3]3
О восприятии западных соседей в допетровский период см.: James H. Billington. The Icon and the Axe. An Interpretative History of Russian Culture. New York: Knopf, 1966. P. 84–102. О символической географии раннемодерной Европы, структурированной вдоль оси Север – Юг, а не Запад – Восток, см.: Wolff L. Inventing Eastern Europe.
[Закрыть]. Хотя эти заимствования почти всегда касались дипломатии и войны, их общественный резонанс распространялся за пределы сферы государственного управления. В царствование Петра I разрозненные действия в этом направлении превращаются в последовательную политику вестернизации, которую разделяют различные группы российских элит, несмотря на постоянно продолжающуюся внутриэлитную борьбу.
Наглядную иллюстрацию процесса вестернизации элит представляет собой биография российского дипломата и государственного деятеля Петра Андреевича Толстого, чье имя будет неоднократно фигурировать на страницах этой книги. Будучи представителем верхушки среднего служилого класса, Толстой долгое время довольствовался достаточно заурядной карьерой в традиционной московской иерархии. В возрасте пятидесяти двух лет Петр I отправил Толстого наряду с десятками других представителей дворянства изучать морское дело в Венецию и Голландию. В ходе двухлетнего путешествия по Южной Европе Толстой, по словам его биографа Макса Окенфуса, осуществил переход «от Московской провинциальности к европейскому космополитизму», не потеряв при этом связи с православной традицией[4]4
Okenfuss М. Translator’s Introduction // The Travel Diary of Peter Tolstoi. A Muscovite in Early Modern Europe / Еd. M. Okenfuss. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1987. Р. xvi.
[Закрыть]. Помимо усердного, хотя и не очень успешного изучения морского дела, Толстой освоил итальянский, приобрел понимание европейской политики и начал вести дневник. По словам Окенфуса, он также «приобрел привычку рассуждать логически» и «выработал новое отношение к богатству и времени»[5]5
Okenfuss М. Translator’s Introduction // The Travel Diary of Peter Tolstoi. A Muscovite in Early Modern Europe / Еd. M. Okenfuss. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1987. Р. xvi.
[Закрыть]. Благодаря этим навыкам и качествам Толстой внес существенный вклад в петровские реформы, занимая ряд важных постов в Коллегии иностранных дел и в гражданской администрации, и превратился к моменту смерти Петра I в крупнейшего российского государственного деятеля. Последующая история рода Толстых демонстрирует важность контактов с европейской культурой в эволюции российского общества. Многочисленные потомки Петра Андреевича включали поэта Алексея Константиновича Толстого, художника и скульптора Федора Петровича Толстого, министра народного просвещения Дмитрия Андреевича Толстого и, конечно же, великого писателя Льва Николаевича Толстого[6]6
Там же. P. xiv – xv.
[Закрыть].
На протяжении всего раннемодерного периода подданные российских царей осознавали гетерогенность того культурно-политического феномена, который мы теперь называем «Западом». Для русского языка XVIII века характерно употребление слова «Европа» во множественном числе («в Европах»), несмотря на то что завершение религиозных войн сделало традиционное для московского периода различие между «немцами» (протестантами) и «латинянами» (католиками) менее актуальным. Это словоупотребление свидетельствовало как о том, что представители российской элиты осознавали свое культурное отличие от западных соседей, так и о том, что взоры русских были обращены на запад. В результате «Запад» отразился в качестве некого единства во взоре подражающего наблюдателя задолго до того, как превратился в геополитическую реальность. Разумеется, русские были не единственной нацией, позиционировавшей себя подобным образом. В эту же категорию можно отнести Турцию и Японию. Однако подданные царя в своей попытке стать частью «Европы» пошли дальше, чем османские правители в XIX веке или последователи Ататюрка в XX, а западные влияния в русской культуре гораздо более очевидны, чем в японской[7]7
См. сравнительный анализ позиционирования России, Турции и Японии по отношению к Западу: Zarakol А. After Defeat: How the East Learned to Live with the West. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.
[Закрыть].
В то же время любой, кто хоть сколько-нибудь знаком с ролью Европы в российской интеллектуальной традиции, затруднится объяснить, почему количество русскоязычных публикаций об Османской империи превосходит количество публикаций, посвященных Франции или Германии. Это обстоятельство нельзя объяснить исключительно частотой русско-турецких войн. Не менее важной была и та роль, которую Османская империя сыграла в отношениях России с ее западными соседями. Историю вестернизации России первоначально отсчитывали с 1703 года, когда Петр I, по крылатому выражению Пушкина, заимствованному у Франческо Альгаротти, «окно в Европу прорубил», основав Санкт-Петербург. Будучи исходным моментом модерной истории России, этот акт царя-реформатора рассматривается как способствовавший установлению прямых связей между Россией и передовыми государствами Северной и Западной Европы. Позднее историки обратили внимание на другие регионы, служившие каналами западных влияний на Россию, такие как Гетманщина, Балтийские провинции или «земли, возвращенные от Польши». Однако пространство контакта России с европейской культурой не исчерпывается новой столицей России и ее западными окраинами. Пребывание в Османской империи также мотивировало российских дипломатов, офицеров, ученых и частных путешественников воспринимать европейскую идентичность и одновременно критически ее переосмысливать. Наблюдения османского дипломатического ритуала, способов ведения войны и обращения с пленными подталкивали образованных россиян делать вывод о превосходстве европейских практик и принципов и одновременно высказывать критические замечания относительно определенных форм европеизации.
Противостояние России и Османской империи оставило столь много письменных памятников именно потому, что это противостояние послужило одной из форм взаимодействия России и Европы. Хотя раннемодерные европейцы воспринимали Османов как культурно чуждых завоевателей, победы России над последними в какой-то момент стали угрожать балансу сил в Европе, частью которого Османская империя являлась с тех пор, как «Его наихристианнейшее Величество» король Франции Франциск I счел возможным заключить союз с Сулейманом Великолепным для предотвращения гегемонии Габсбургов. Вот почему победы российского оружия над османским в конце концов заставили прочие великие державы преодолеть свои противоречия и сформировать антироссийскую коалицию, которая впервые на короткий момент превратила «Европу» из географического и культурного явления в геополитическое. Крымская война была кульминацией противоречий между Россией и европейскими державами, однако появление трехстороннего противостояния между Россией, Османской империей и «Европой» можно наблюдать уже в момент возникновения «восточного вопроса» в конце XVIII столетия. Переплетение российско-османских и российско-европейских культурных контактов в этом геополитическом контексте позволило царским дипломатам, военным, ученым и путешественникам артикулировать собственную идентичность, отличную от обоих конституирующих «других» – османского и европейского.
На протяжении более чем столетия изучение российско-османских отношений было уделом историков дипломатии и войн. Дореволюционные историки естественным образом стали первопроходцами благодаря доступности архивных материалов и сохраняющейся актуальности «восточного вопроса»[8]8
Ульяницкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII в. M.: Гацюк, 1883; Татищев С.С. Внешняя политика императора Николая Первого. Введение в историю внешних сношений России в эпоху Севастопольской войны. СПб.: Скороходов, 1887; Жигарев С.А. Российская политика в восточном вопросе (ее история в XVI–XIX веках, критические оценки и будущие задачи). Историко-юридические очерки. В 2 т. М.: Университетская типография, 1896; Горяинов С.М. Босфор и Дарданеллы. Исследование вопроса о проливах по переписке, хранящейся в Государственном и Санкт-Петербургском главных архивах. СПб.: Скороходов, 1907. Среди исследований русско-турецких войн наиболее примечательна серия работ А.Н. Петрова: Петров А.Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами. В 5 Т. СПб.: Веймар, 1866–1874; Он же. Вторая турецкая война в царствование Екатерины Второй. СПб.: Голике, 1880; Он же. Война России с Турцией, 1806–1812. В 3 Т. СПб.: Военная типография, 1885–1887; Он же. Война России с Турцией. Дунайская кампания, 1853–1854. В 2 т. СПб.: Военная типография, 1890.
[Закрыть]. Интерес к истории российско-османских отношений в период советского доминирования в Юго-Восточной Европе и попыток СССР проецировать влияние в Средиземноморском регионе поощрял западных историков продолжать традицию дореволюционной российской историографии[9]9
См. прежде всего: Sumner H.B. Peter the Great and the Ottoman Empire. Oxford, UK: B. Blackwell, 1949; Saul N. Russia and the Mediterranean, 1797–1807. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1970; Jewsbury G. Russian Annexation of Bessarabia, 1774–1828. A Study of Imperial Expansion. New York: Eastern European Monographs, 1976; Jelavich B. Russia and the Romanian National Cause, 1858–1859. Bloomington, IN: Slavic and East European Series, Indiana University Press, 1959; Jelavich B. Russia and the Formation of the Romanian Nation-State. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1984; Meriage L. Russia and the First Serbian Uprising, 1804–1813. New York: Garland Publishers, 1987.
[Закрыть]. В период холодной войны необходимость легитимировать советское господство в Восточной Европе подвигла ряд советских ученых изучать российско-греческие, российско-сербские, российско-болгарские и российско-румынские отношения, акцентируя внимание на вкладе России в формирование национальных государств на Балканах[10]10
Из истории русско-болгарских отношений / Ред. Л.Б. Валев. M.: АН СССР, 1958; Шпаро О.Б. Освобождение Греции и Россия (1821–1829). M.: Мысль, 1965; Гросул В.Я. Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20-e – 30-e гг. XIX в.). М.: Наука, 1966; Арш Л.Г. Этеристское движение в России. Освободительная борьба греческого народа в начале XIX в. и русско-греческие связи. M.: Наука, 1970; Достян И.С. Россия и балканский вопрос. Из истории русско-балканских политических связей первой трети XIX века. M.: Наука, 1972; Гросул Г.С. Дунайские княжества в политике России, 1774–1806. Кишинев: Штиинца, 1975; Станиславская A.M. Россия и Греция в конце XVIII – начале XIX века. Политика России в Ионической республике. M.: Наука, 1976; Бажова А.П. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. M.: Наука, 1982.
[Закрыть]. Порой советским авторам приходилось проявлять недюжинные диалектические способности, дабы увязать свою апологию советского империализма с работами Маркса и Энгельса, проявивших в высшей степени критическое отношение к царской России и ее внешней политике[11]11
Marx K. The Eastern Question: A Reprint of Letters Written 1853–1856 dealing with the Events of the Crimean War. New York: Franklin, 1968; Marx K.Însemnări despre Români, manuscrise inedite. București: Editura politică, 1964.
[Закрыть]. Несмотря на их идеологизированность, работы советских специалистов способствовали вводу в научный оборот новых архивных документов, которые не были изучены дореволюционными историками и оставались недоступны их западным коллегам. В результате деятельности этих разных групп ученых сложилась достаточно полная картина войн и дипломатических отношений России с Османской империей. В то же время в своем стремлении описать фактологические аспекты российско-османских отношений дореволюционные российские, советские и западные исследователи зачастую обходили вниманием культурный контекст этих войн и переговоров. Реконструкция этого контекста представляет собой главную цель данной книги, которая основывается на последних теоретических наработках в истории культуры.
Настоящее исследование было проведено в диалоге с работами сразу нескольких направлений историографии. Прежде всего данная книга представляет собой вклад в историографию ориентализма в целом и российского ориентализма в частности. Вплоть до 1970-х годов термин «ориентализм» применялся для обозначения совокупности академических дисциплин, основанных на изучении восточных языков. Этот термин также обозначает тенденцию в европейской живописи, скульптуре, музыке и литературе, ориентированных на «восточную» тематику. В нашумевшем исследовании 1978 года литературовед Эдвард Саид рассмотрел эти две стороны западного ориентализма в радикально новом свете. Согласно Саиду, западные ученые-ориенталисты стали «корпоративным институтом, направленным на общение с Востоком – общение при помощи высказываемых о нем суждений, определенных санкционируемых взглядов, его описания, освоения и управления им»[12]12
Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006. С. 10.
[Закрыть]. Будучи характерным примером дискурса в фуколдианском смысле этого слова, ориентализм в определении Саида – это «западный стиль доминирования, реструктурирования и осуществления власти над Востоком»[13]13
Там же.
[Закрыть]. Обвинения академических ориенталистов, высказанные Саидом, и последовавшая за этим желчная полемика мало релевантны для данного исследования. Как демонстрируется в четвертой главе, до второй половины XIX столетия академические ориенталисты играли менее значимую роль в российско-османских отношениях, чем военные или дипломаты. Вот почему в данном исследовании ориентализм понимается в другом, более общем и философском смысле этого слова – как «стиль мышления, основанный на онтологическом и эпистемологическом различии Востока и (почти всегда) Запада». Согласно Саиду, данное различие послужило более широкому кругу поэтов, романистов, философов, политических мыслителей, экономистов и имперских администраторов в их описаниях «Востока, его народов, обычаев, „ума”, судьбы и т. д.»[14]14
Там же. С. 9.
[Закрыть]. Оппозиция Запад – Восток, лежащая в основе ориентализма, представляет собой пример абсолютизации различий между привычным «мы» и чуждым «они», которая является скорее ментальным конструктом, нежели объективной реальностью. Саид настаивал на том, что «так же, как и Запад, Восток – это идея, имеющая историю и традицию мышления, образный ряд и свой собственный словарь», так что «эти две географические сущности поддерживают и до определенной степени отражают друг друга»[15]15
Там же. С. 12.
[Закрыть].
Несмотря на видимую симметрию, отношения между Западом и Востоком – это отношения «силы, господства, различных степеней комплексной гегемонии»[16]16
Там же. С. 13–14.
[Закрыть]. На практике это означало, что модерные европейцы присваивали себе право говорить за людей, которых они называли «восточными». В результате складывалось представление о том, что «восточный человек иррационален, развращен, ребячлив, он „другой”, тогда как европеец рационален, добродетелен, зрел, „нормален”»[17]17
Там же. С. 62.
[Закрыть]. Утверждая непреодолимое различие между западным превосходством и восточной «неполноценностью», ориентализм как совокупность «мечтаний, образов и идиом» помогал европейцам сделать восточные общества привычно инаковыми. Ориентализм заменил живое (а потому неудобное) многообразие народов, политических образований, укладов и мировоззрений карманным образом «восточного человека, который живет на Востоке… ведет праздную восточную жизнь, в государстве восточной деспотии и похоти, отягченный чувством восточного деспотизма»[18]18
Там же. С. 160.
[Закрыть]. Эту операцию подмены живой реальности восточных обществ западным образом Востока, или ориентализацию, можно найти не только во французских или английских описаниях путешествий на Восток, но также и в произведениях российских авторов, посвященных Османской империи, которые рассматриваются в этой книге.
Стало привычным считать ориентализм грубым западным искажением культурных реалий восточных стран. С этой точки зрения ориентализм приуменьшал различия между восточными странами, эссенциализировал и абсолютизировал сходства и способствовал превращению знания о них в элемент колониальных режимов власти над ними. Символическое насилие, которое ориентализм причинил «другому», несомненно. Однако нельзя забывать о его роли в культурной истории тех обществ, которые породили ориентализирующие дискурсы. Ориентализм не способствовал построению монолитной западной идентичности. Внутренние разломы, характеризовавшие последнюю, стали все более очевидны по мере того, как дискурс типического Востока переплетался с дискурсами о классе, гендере или нации[19]19
Lowe L. Critical Terrains: French and British Orientalisms. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991.
[Закрыть]. Как консервативные, так и левые критики модерности в Великобритании и во Франции рассматривали Восток как альтернативу разрушающимся традиционным социальным иерархиям в странах-метрополиях или же как лабораторию альтернативных принципов социальной организации[20]20
Об интересе европейских консерваторов к социальной иерархии, порядку и властным отношениям, сохранявшимся в восточных и колониальных обществах на фоне процессов демократизации в Западной Европе, см.: Canadine D. Ornamentalism: How the British Saw Their Empire. New York: Oxford University Press, 2001; Porter B. The Absent-Minded Imperialists: Empire, Society and Culture in Britain. Oxford: Oxford University Press, 2004. Об интересе сенсимонистов к Востоку как лаборатории альтернативной модерности и источнику духовных ценностей см.: Abi-Mershed O. Apostles of Modernity: Saint-Simonians and the Civilizing Mission in Algeria. Stanford, CA: Stanford University Press, 2010; Ferruta P. Constantinople and the Saint-Simonian Search for the Female Messiah: Theoretical Premises and Travel Account from 1833 // International Journal of the Humanities. 2009. Vol. 6. No. 7. P. 67–72.
[Закрыть].
Ориенталистский дискурс сыграл не менее значимую роль в артикуляции модерных национальных идентичностей в Восточной Европе, в обществах, озабоченных своей отсталостью и маргинальностью. Тезис о «варварстве» восточных (и о «цивилизованности» западных) соседей выполнял важную функцию в самовосприятии венгров, румын, словенцев, хорватов и сербов[21]21
Милица Бакич-Хэйден первой проанализировала этот феномен. См.: Bakic-Hayden M. Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia // Slavic Review. 1995. Vol. 54. No. 4. P. 917–993.
[Закрыть]. Россия представляет собой промежуточный случай между Западной и Восточной Европой в плане той роли, которую ориентализм сыграл в политической и культурной истории страны[22]22
Две важных историографических дискуссии во многом определили дальнейшее развитие этого направления исследований: Russian History and the Debate over Orientalism // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 1. No. 4. P. 691–727; Modernization of Russian Empire and Paradoxes of Orientalism // Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. 2002. No. 1. P. 239–311.
[Закрыть]. Подобно восточноевропейским националистам, образованные подданные царя использовали ориенталистскую риторику для того, чтобы дистанцироваться от своих восточных соседей и утвердить свой статус как представителей «цивилизованного» мира. В то же время российские репрезентации Востока свидетельствуют о сомнениях относительно благ западной цивилизации и о неопределенности отношения к ней России. В этом смысле российские авторы были подобны своим французским и британским коллегам, для которых Восток был возможностью занять критическую дистанцию по отношению к своему собственному обществу.
В силу ряда причин российские репрезентации Османской империи в контексте русско-турецких войн были обойдены вниманием исследователей российского ориентализма. Подобно своим западным коллегам, российские историки изучили становление академического ориентализма в России и его противоречивую роль в формировании и функционировании имперских режимов власти[23]23
О российском востоковедении см.: Tolz V. Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Period. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011; Schimmelpenninck van der Oye D. Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to Emigration. New Haven, CT: Yale University Press, 2010. P. 31–43, 93–121, 153–198.
[Закрыть]. Российские литературоведы, как и их западные коллеги, рассмотрели конструирование восточного «другого» в произведениях русских писателей и поэтов и выявили роль литературного ориентализма в артикуляции российской идентичности[24]24
Layton S. Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoi. Cambridge: Cambridge University Press, 1994; Hokanson K. Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi. Toronto: University of Toronto Press, 2008; Dickinson S. Russia’s First “Orient”: Characterizing Crimea in 1787 // Orientalism and Empire in Russia / Eds. Michael David Fox, Peter Halquist, and Alexander Martin. Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2006. P. 85–106.
[Закрыть]. Как историки, так и литературоведы внесли вклад в изучение воображаемой географии (пионерами здесь были некоторые специалисты по Восточной Европе) и рассмотрели символическое конструирование имперского пространства посредством открытия «собственного Востока России»[25]25
Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Imperial Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Gorizontov L. The “Great Circle” of Interior Russia: Representations of the Imperial Center in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries // Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1917 / Eds. Jane Burbank, Mark von Hagen and Anatolii Remnev. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2008. P. 67–93; Миллер А.И. Империя и нация в воображении русского национализма // Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 147–170.
[Закрыть]. Работы ученых-ориенталистов и литературные произведения, включая описания путешествий, до сих пор составляли наиболее важные категории первоисточников, на базе которых западные и российские исследователи изучали феномен ориентализма. Хотя ученые и литературные путешествия позволяют выявить ряд важных аспектов модерного дискурса о Востоке, концентрация внимания на этих типах источников сопровождалась забвением другой важной категории источников, а именно работ военных и дипломатов.
Наряду с предпочтительным вниманием, оказываемым исследователями ориентализма в целом и российского ориентализма в частности определенному типу источников, исследовательская практика характеризовалась до сих пор и наличием неких географических рамок. Исследователи российского ориентализма концентрировались практически исключительно на «собственном Востоке России» и уделяли мало внимания репрезентациям Азии за пределами границ Российской империи. То же самое можно сказать и про исторические и литературные исследования взаимосвязей ориенталистского дискурса и имперских институтов на восточных окраинах[26]26
О связи ориенталистского знания и власти на кавказской и среднеазиатской окраинах Российской империи см.: Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples / Eds. Daniel Brower, Edward L. Lazzerini. Bloomington: Indiana University Press, 1997; Jersild A. Orientalism and Empire. North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845–1917. Montreal: McGill University Press, 2002; Sahadeo J. Russian Colonial Society in Tashkent, 1867–1923. Bloomington IN.: Indiana University Press, 2006.
[Закрыть]. В то время как ряд работ был посвящен российским репрезентациям других евразийских империй[27]27
Andreeva E. Russia and Iran in the “Great Game”: Travelogues and Orientalism. London; New York: Routledge, 2008.
[Закрыть], российские представления об Османской Турции все еще остаются белым пятном на карте этой области историографии[28]28
Taki V. Orientalism at the Margins: The Ottoman Empire under Russian Eyes // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2011. Vol. 12. No. 2. P. 321–351.
[Закрыть]. Обращение к дневникам и мемуарам участников русско-турецких войн, свидетельствам пленников и дипломатической переписке, предпринятое в данной работе, демонстрирует центральность противостояния с Османской империей для российского открытия Востока. Сравнение османского дипломатического ритуала, способа ведения войн и политической системы с европейскими было важным механизмом артикуляции российской идентичности. Параллельное прочтение западных и российских описаний Османской Турции представляет собой редкую возможность исследовать механизм переноса ориенталистского дискурса в Россию и его освоения образованными представителями общества, которое само воспринималось как цивилизационно маргинальное современными ему западными авторами[29]29
Об ориентализирующих репрезентациях России в произведениях западноевропейских авторов см.: Poe M. A People Born To Slavery: Russia in Early Modern Ethnography, 1478–1750. Ithaca: Cornell University Press, 2000; Wolff L. Inventing Eastern Europe; Neumann I. Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. New York: Routledge, 1996; Neumann I. Uses of the Other: “The East” in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999; Adamovsky E. Euro-Orientalism: Liberal Ideology and the Image of Russia in France, 1740s – 1880s. Bern: Peter Lang, 2006.
[Закрыть].
Помимо выявления роли русско-турецких войн в культурной истории России, данная книга предлагает новый подход к феномену ориентализма в целом. Отношения России и Османской империи в XVIII и первой половине XIX века включали аналоги раннемодерных великих посольств Габсбургской монархии в Константинополь и позднейших французских и английских описаний путешествий на Восток[30]30
О раннемодерном западноевропейском восприятии Османской империи см.: Rouillard С. The Turk in French History, Thought and Literature, 1520–1660. Paris: Boivin, 1938; Schwoebel R. The Shadow of the Crescent: The Renaissance Image of the Turk (1453–1517). New York: St. Martin’s Press, 1967; Bohnstedt J. The Infidel Scourge of God: The Turkish Menace as Seen by German Pamphleteers of the Reformation Era. Philadelphia, PA: The American Philosophical Society, 1968; Shaw E., Heywood C.J. English and Continental Views of the Ottoman Empire, 1500–1800. Los Angeles: University of California, William Andrews Clark Memorial Library, 1972; Beck B. From the Rising of the Sun. English Images of the Ottoman Empire to 1715. New York: Peter Lang, 1987; Desmet-Grégoire H. Le Divan Magique: La France et l’Òrient Turc au XVIIIeme siècle. Paris: L’Hartmann, 1994; MacLean G. The Rise of Oriental Travel: English Visitors to the Ottoman Empire, 1580–1720. London: Palgrave Macmillan, 2006; Laidlaw C. The British and the Levant: Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century. London: I.B. Tauris, 2010; Fichtner P. Terror and Toleration: The Habsburg Empire Confronts Islam. New York: Reaktion Books, 2006. Хотя некоторые из этих работ концентрировались на Османской империи, они вносили вклад и в рассмотрение более широкой темы западного восприятия ислама и исламского мира, которому также были посвящены исследования: Southern R.W. Western Views of Islam in the Middle Ages. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962; Daniel N. Islam and the West: The Making of an Image. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, 1962; Chew S. The Crescent and the Rose: Islam and England during the Renaissance. New York: Octagon Books, 1965.
[Закрыть]. В то же время контакты России и Османской Турции характеризовались временной компрессией форм взаимодействия, которые в отношениях между западными державами и Османским государством имели место в разные исторические эпохи. Так, например, войны между Османами и Габсбургами практически завершились к моменту, когда Моцарт создавал «Похищение из Сераля». Напротив, в контексте отношений России и Османской империи «турецкие кампании» совпадали по времени с модой на «туретчину» и восточные путешествия.
В этом контексте дневники и мемуары участников русско-турецких войн, рассказы пленных и дипломатическая переписка сыграли роль медиумов, в которых жестокости военного конфликта обрели символическое выражение в репрезентациях исторического соперника. Анализ этой литературы, предпринятый в данной работе, проливает свет на то, каким образом евразийская империя-противник была ориентализирована, то есть представлена в качестве Востока. Данный процесс оставался в большинстве случаев за пределами внимания прежних исследователей ориенталистского дискурса. Таким образом, эта книга представляет собой вклад в историографию воображаемых географий, получившую развитие после критического прочтения работы Саида[31]31
Wolff L. Inventing Eastern Europe; Todorova M. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997.
[Закрыть]. Настоящая работа приглашает исследователей, работающих в этом направлении, поразмыслить о том, как образы отдельных империй превращаются в репрезентации исторических регионов. В ней реконструируются обстоятельства, способствовавшие превращению описаний Османской империи в российские варианты дискурсов о Востоке и Балканах.
Исследования России как империи составляют второй важный круг исторической литературы, в диалоге с которой написана данная книга. С начала 1990-х годов было опубликовано несколько значимых обзорных работ, рассматривавших многонациональный состав имперской России и проводивших сравнения между нею и другими империями XIX столетия[32]32
Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Enstehung, Geschichte, Zerfall. Munchen: C.H. Beck, 1992 (см. рус. пер.: Каппелер А. Россия – многонациональная империя: возникновение, история, распад. М., 1997); Hosking G. Russia, People and Empire, 1552–1917. London: HarperCollins Publishers, 1997; Lieven D. Empire: Russian Empire and Its Rivals. New Haven, CT: Yale University Press, 2001 (cм. рус. пер.: Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2007).
[Закрыть]. Основываясь на этих базовых нарративах, историки отдельных российских окраин далеко продвинулись в понимании и описании евразийской политической и административной географии России, а также механизмов взаимодействия имперского центра и региональных элит[33]33
Weeks Th. Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914. DeKalb, Northern Illinois University Press, 1996; Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in Western Provinces of the Empire (1863–1905).Lublin: Scientific Society of Lublin, 1998; Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. M.: Индрик, 1999; Миллер А.И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении. СПб.: Алетейя, 2000; Западные окраины Российской империи / Ред. М.Д. Долбилов, А.И. Миллер. M.: Новое литературное обозрение, 2006; Сибирь в составе Российской империи / Ред. Л.М. Дамешек, А.В. Ремнев M.: Новое литературное обозрение, 2007; Северный Кавказ в составе Российской империи / Ред. В.О. Бобровников. M.: Новое литературное обозрение, 2007; Центральная Азия в составе Российской империи / Ред. С.Н. Абашин. M.: Новое литературное обозрение, 2008; Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи, 1812–1917. M.: Новое литературное обозрение, 2011.
[Закрыть]. Их работы показали, что за однотонным красным или зеленым цветом, которым российские территории обычно обозначаются на карте, скрывалось гетерогенное политическое пространство, определяемое «отношениями доминирования одной этнической или общественной группы или территориального образования над другими этническими, территориальными или общественными группами»[34]34
Finer S. The History of Government from the Earliest Times. Oxford: Oxford University Press, 1997. Vol. 1. P. 8.
[Закрыть].
Исследователи имперского измерения российской истории до сих пор концентрировались на проблематике взаимодействия между имперским центром и элитами, с одной стороны, и населением окраин, с другой. Взаимодействие же России и других континентальных империй зачастую оставалось уделом специалистов по истории международных отношений, войн и геополитики[35]35
Bobroff B. Roads to Glory: Late Imperial Russia and the Turkish Straits. London: I.B. Tauris, 2006; Davies B. Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe, 1500–1700. London; New York: Routledge, 2007; Davies B. Empire and the Military Revolution: Russia’s Turkish Wars in the Eighteenth Century. London; New York: Continuum, 2011.
[Закрыть]. Настоящая работа стремится инкорпорировать эти предметы в «новую историю империй». Она основывается на недавних исследованиях культурной истории дипломатии и войны и демонстрирует, что отношения с Османской империей были ключевым аспектом имперского опыта России в XVIII и XIX веках[36]36
Bell D. The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It. Houghton: Mifflin Co., 2007; Black J. A History of Modern Diplomacy. London: Reaktion Books, 2010.
[Закрыть]. Переговоры и сражения с османами составляли контекст культурной вестернизации российских элит, а затем и формирования русских национальных традиций в дипломатии и военном искусстве.
До сих пор дипломатия и войны не пользовались популярностью среди исследователей, специализирующихся по новой истории империй. Обе эти сферы деятельности обычно рассматриваются как атрибуты модерного государства, которое чаще отождествляется с государством-нацией, чем с империей. Действительно, дипломатия и войны послужили основой статизма как одной из разновидностей политического реализма в теории международных отношений. Статизм рассматривает суверенные государства как монолитные блоки, взаимодействующие друг с другом подобно бильярдным шарам[37]37
Наиболее значимыми работами по теории международных отношений, написанными с позиций «реализма», являются: Carr E. The Twenty Years Crisis, 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations. London: Macmillan, 1946 [1939]; Morgenthau H. Politics Among Nations. New York, NY: Alfred A. Knopf, 1948; Aron R. Peace and War: A Theory of International Relations. London: Weidenfeld and Nicolson, 1966; Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York, NY: Columbia University Press, 1977; Wright M. Power Politics. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1986; Gilpin R. Global Political Economy – Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press, 2001.
[Закрыть]. Недавние попытки теоретически осмыслить имперское взаимодействие привели видных представителей новой истории империй к отказу от подобного понимания государства. Вместо этого они подчеркивают важность для межимперских отношений многочисленных трансграничных взаимосвязей, а также наличие множества центральных и региональных игроков[38]38
Miller А. Between Local and Inter-Imperial: Russian Imperial History in Search of Paradigm // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5. No. 1. P. 7–26; Rieber A. The Comparative Ecology of Complex Frontiers // Imperial Rule / Eds. A. Miller, Al. Rieber. Budapest: Central European University Press, 2004. P. 177–208; Miller A. The Value and the Limits of a Comparative Approach to the History of Contiguous Empires on the European Periphery // Imperiology: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire / Ed. Kimitaka Matsuzato. Sapporo: Slavic Research Center, 2006. P. 11–24.
[Закрыть]. Настоящая работа также ставит под сомнение государственно-центричный подход в международных отношениях, но делает это не столько сомневаясь в монолитности «бильярдных шаров», сколько ставя под вопрос существование «бильярдного стола».
Культурная история российских посольств в Константинополь и «турецких кампаний» российской армии демонстрирует, что в раннемодерный период и даже в XIX веке не существовало единообразной формы ведения дипломатических переговоров и войн. Вместо этого был конфликт между различными культурами ведения войны и переговорами о мире, и этот конфликт в конечном счете не сводился к столкновению европейских и восточных норм. Хотя царские дипломаты и военные при каждом удобном случае подчеркивали чуждость османов принципам и практикам европейской дипломатии и военного искусства, их собственные принципы и практики также отклонялись от европейских. Вот почему трудно говорить о дипломатии и войне как универсальных формах взаимоотношений между империями, как формах, в которые облекалось соперничество между ними. Вместо этого сами способы ведения войны и переговоров о мире были предметами борьбы, в ходе которой соперники старались навязать друг другу предпочтительные формы дипломатии и войны и сделать их нормативными. Исследование этой борьбы демонстрирует гетерогенность самого пространства взаимодействия между империями, дополняющую гетерогенность политико-административного пространства самих империй, которую помогла выявить новейшая историография.
Противостояние России и Османской империи для новой истории империй – не просто иллюстрация значения культурной истории дипломатии и войны для понимания взаимодействия между империями. Это противостояние представляет собой интерес для понимания того, каким образом сложность и гетерогенность империй становились предметом рефлексии в период преобладания представлявшихся монолитными великих держав. Российский исторический нарратив, сформировавшийся в начале XIX века, скрывал принципиальную гетерогенность имперского пространства, для которого были характерны сложные отношения между центральными органами управления и региональными элитами, а также существование конфессиональных и этнических иерархий. На первый взгляд репрезентации османского «другого» имели тот же эффект в той степени, в какой эти репрезентации помогали сформировать гомогенный и унитарный имперский субъект. Этнические и конфессиональные различия между великороссами, малороссами и балтийскими немцами в российской имперской элите отступали на второй план, когда все они начинали говорить о деспотизме османских пашей, самоуправстве янычаров или фанатизме улемов.
В то же время конструирование российской идентичности в дневниках, мемуарах, описаниях путешествий и статистических обзорах, посвященных Османской империи, сопровождалось открытием ее религиозного и этнического многообразия. Держава султанов не только была предметом беспрецедентного количества публикаций в постпетровской России. Османская Турция так же стала первым государством, которое россияне стали воспринимать и описывать в качестве империи в современном смысле этого слова, то есть как систему доминирования одной группы или территориального образования над другими группами или территориями. Российские наблюдатели зафиксировали властные отношения между Османами и их христианскими подданными, а также между различными этническими подгруппами последних. Те же категории для описания Австрийской империи или самой России были применены гораздо позже. Читатели «толстых журналов» XIX века узнали об отношениях господства и подчинения, существовавших между османскими мусульманами и христианами, греками и славянами, задолго до того, как их стали заботить положение и удельный вес православных, католиков, лютеран и мусульман (или великороссов, малороссов, белорусов, поляков, немцев и евреев) в самой Российской империи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?