Текст книги "Незримая жизнь Адди Ларю"
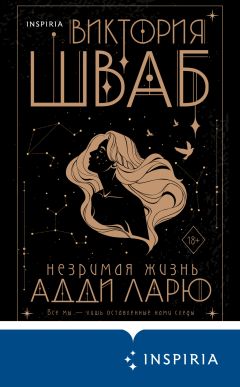
Автор книги: Виктория Шваб
Жанр: Любовное фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
IV
29 июля 1715
Париж, Франция
Мечтательница – слишком нежное слово. Оно навевает мысли о сладких снах, ленивых днях в полях среди высокой травы, об угольных пятнах на мягком пергаменте.
Адди все еще цепляется за мечты, но учится воспринимать жизнь трезвее. Не с точностью художника, рисующего полотно, а с точностью руки, затачивающей карандаш.
– Налей-ка мне, – просит она, протягивая бутылку вина своему гостю.
Тот вынимает пробку и наполняет пару бокалов, взятых с низкой полки в комнате, снятой на ночь. Один он вручает ей, но Адди не пьет, тогда мужчина за секунду опустошает свой одним глотком, отшвыривает бокал и хватается за ее платье.
– Куда спешить? – хихикает Адди, подталкивая его в грудь. – Ты заплатил за комнату, у нас вся ночь впереди.
Она старается не отпихивать его, не сопротивляться. Оказывается, некоторые мужчины получают от этого удовольствие. Так что Адди подносит к его жадному рту собственный бокал и начинает вливать кроваво-красное пойло ему в губы, притворяясь, что соблазняет его, а не принуждает.
Он делает большой глоток и выбивает бокал из рук Адди. Неуклюже лапает ее грудь, сердито сражается с кружевами и завязками корсета.
– Уж невмочь… – бормочет он, но снадобье в вине наконец одерживает верх, язык у него во рту ворочается с трудом, и громила умолкает.
Он грузно садится на кровать, продолжая цепляться за ее платье, но вскоре уже закатывает глаза и опрокидывается набок, заснув еще до того, как голова коснется тощей подушки.
Адди спихивает его на пол, куда он валится, словно мешок с зерном, и приглушенно стонет, однако не просыпается.
А Адди распускает то, что он начал, – шнуровку корсета – и наконец снова дышит полной грудью. Парижская мода вдвое теснее деревенских нарядов и даже вполовину не так практична.
Адди растягивается на кровати, радуясь тому, что та хотя бы на эту ночь у нее есть. Думать о завтрашнем дне не хочется, ведь завтра предстоит все начать сначала.
В том-то и безумие ее положения. Каждый день – точно янтарь, а Адди – застрявшая в нем муха. Невозможно мыслить днями или неделями, когда живешь мгновениями. Время начинает терять значение, и все же она ведет ему счет. Забыться Адди, похоже, не может, как бы ни старалась, поэтому знает, какой сейчас месяц, какой день или ночь, поэтому знает, что уже минул год.
Год с тех пор, как она сбежала с собственной свадьбы.
Год с тех пор, как пыталась найти спасение в чаще.
Год с тех пор, как выменяла свою душу на все это. На свободу. На время.
Год, который она потратила на изучение границ новой жизни.
Она металась по кромке проклятия, как лев в клетке. (Львов Адди уже довелось увидеть: они приехали в Париж со зверинцем и оказались совершенно не похожи на зверей из ее фантазий. Намного величественнее, чем она представляла, но и намного прозаичнее. Клетка подавляла величие. Адди десятки раз ходила на них посмотреть, видела их печальные взгляды, неотрывно устремленные мимо посетителей на щель в палатке – единственный проблеск свободы.)
Год, который она провела связанная сделкой. Обреченная страдать, не умирая, голодать, не худея, жаждать, не увядая… Каждая минута намертво отпечаталась в памяти, а между тем ее саму забывали мгновенно, стоило скрыться из вида или захлопнуть за спиной дверь. Ни в чем и ни на ком она неспособна оставить след.
Даже на том, кто сейчас храпит на полу.
Адди выуживает из юбки склянку с лаундаумом и подносит к тусклому свету. Она потратила три попытки и две бутылки драгоценного снадобья впустую и только тогда поняла, что не может подмешивать отраву в бокал, не может собственноручно причинять вред. Но если добавить лекарство непосредственно в бутылку, вставить пробку на место и позволить мужчинам самим разливать вино по бокалам, они словно бы действовали по своей воле.
Видите? Она учится.
Только это очень одинокий путь.
Адди наклоняет склянку, и остатки молочной субстанции стекают по стенкам. Любопытно, подарит ли оно ей ночь сна без сновидений, глубокий дурманящий покой?
– Какое разочарование.
При звуке этого голоса Адди едва не роняет склянку. Она принимается кружить по небольшой комнате, обшаривая темные углы, но не находит источник голоса.
– Признаюсь, моя дорогая, я ожидал большего…
Сначала кажется, что звук исходит из всех теней в комнате, но потом они собираются в самом мрачном углу, где клубятся подобно дыму. А потом в круг, что отбрасывает пламя свечи, из этих теней выступает он. На лоб ему спадают черные кудри. Скулы оттеняет чернота, зеленые глаза горят собственным внутренним светом.
На какое-то предательское мгновение при виде знакомых черт незнакомца сердце Адди замирает, но она тут же понимает, что это всего лишь он.
Мрак из лесной чащи.
Весь год, что Адди жила под проклятием, она взывала к нему. Молилась в ночи, закапывала на берегах Сены монеты, которых и без того не хватало, умоляла отозваться и ответить: почему, почему, почему!
Адди швыряет бутылку с дурманом ему в голову. Мрак не шевелит и пальцем, чтобы ее поймать, но в том нет нужды: она пролетает прямо сквозь него и разбивается о стену.
Он сочувственно улыбается ей.
– Здравствуй, Аделин.
Аделин…
Она думала, уже никогда не услышит это имя. Имя, что ноет, точно кровоподтек, имя, при звуках которого ее сердце пропускает удар.
– Ты… – рычит Адди.
В ответ следуют едва заметный наклон головы, легкая улыбка.
– Скучала?
Она бросается к нему, словно вылетевшая из бутылки пробка, хоть и думает, что пролетит насквозь, однако ее руки встречают плоть и кости или, по крайней мере, их иллюзию. Адди молотит кулаками по его груди, но это все равно что лупить по дереву, так же жестко и бессмысленно.
Мрак с веселым изумлением смотрит на нее сверху вниз:
– Вижу – скучала.
Она вырывается. Ей хочется кричать, злиться, рыдать в голос.
– Ты бросил меня там! Отнял все и ушел, знаешь, сколько раз по ночам я взывала…
– Я тебя слышал, – самодовольно усмехается мрак.
– Но так и не пришел! – гневно фыркает Адди.
Мрак разводит руками, как бы говоря: «Но теперь-то я здесь».
Адди хочется ударить его, хоть это бессмысленно, наказать, вышвырнуть из комнаты, но спросить она обязана:
– Почему? Почему ты это со мной сделал?
Он хмурит темные брови в напускной тревоге:
– Я лишь исполнил твое желание.
– Но я просила дать мне время и свободу…
– Я подарил тебе и то, и другое. – Он поглаживает спинку кровати. – Минувший год обошелся без жертв… – Адди издает задушенный писк, но мрак продолжает: – Ты ведь осталась цела, верно? И невредима. Совершенно не постарела. Не увяла. Что же до свободы – куда уж больше? Живешь и не держишь ни перед кем ответа.
– Ты знаешь, что я мечтала о другом!
– Ты сама не знала, чего хотела, – резко бросает он, шагнув к ней. – А если и так, следовало проявить осторожность!
– Ты меня облапошил…
– Ошибаешься, – возражает мрак, окончательно сокращая расстояние между ними. – Разве ты не помнишь, Аделин? – Он опускает голос до шепота: – Ты была так порывиста, так дерзка, бормотала что-то, путаясь в словах, точно запиналась о корни. Перечисляла все, чего не хочешь.
Мрак так близок к ней, он гладит ее по плечу, и Адди силится удержаться на месте – не хочет доставлять ему удовольствие, показывая испуг, не желает играть с ним в волка и овцу. Это непросто. Пусть мрак похож на ее незнакомца, он не мужчина. Даже не человек. Это всего-навсего маска, притом не слишком подходящая. Сквозь нее проглядывает существо из чащи, бесформенное, необъятное, чудовищное и опасное. За изумрудно-зелеными глазами поблескивает тьма.
– Ты просила дать тебе вечность, и я отказался. Ты просила, умоляла, и помнишь, что сказала потом? – Он начинает цитировать одновременно своим и ее голосом, что эхом вторит ему: – «Забирай мою жизнь, когда она мне надоест. Получишь мою душу, когда она будет мне не нужна».
Адди пытается отстраниться от него, от этих слов, но на сей раз мрак ей не позволяет. Он крепче сжимает ее руку и обхватывает сзади шею, точно любовник.
– Так не выгоднее ли для меня сделать твою жизнь невыносимой? Подтолкнуть к неминуемому поражению?
– Ты не должен был… – шепчет Адди, ненавидя свой дрожащий голос.
– Дорогая Аделин, – говорит мрак, запуская руку ей в волосы, – я торгую душами, а не занимаюсь благотворительностью.
Он усиливает хватку, заставляя ее запрокинуть голову. Адди встречается с ним взглядом – в чертах незнакомца нет ни капли светлого, только звериная красота.
– Ну же, – шепчет он, – отдай мне то, что я хочу, и покончим с этим, страдания прекратятся.
Душу – за жалкий год горя и безумия.
Душу – за медяки на булыжниках парижских доков. Не получишь!
Но все же нельзя сказать, что она не колебалась. В глубине души Адди захотелось сдаться, пусть и на короткий миг. Возможно, именно потому она спрашивает:
– И что будет со мной?
Его плечи – те самые, что она рисовала столько раз, те самые, что сама сотворила, – лишь неопределенно приподнимаются.
– Ты станешь ничем, дорогая, – просто отвечает он. – И это самая большая милость. Покорись, и я тебя освобожу.
Если Адди и колебалась в глубине души, если и хотела сдаться – это не продлилось дольше минуты. В мечтателях силен дух противоречия.
– Ни за что, – рычит она.
Мрак хмурится, зеленые глаза наливаются тьмой, словно намокшая ткань. Он убирает руки.
– Ты сдашься. И очень скоро.
Он не отступает, не поворачивается, чтобы уйти, он просто исчезает – его поглощает темнота.
V
13 марта 2014
Нью Йорк
Генри Штраус никогда не был жаворонком, хотя мечтал им стать. Проснуться с первыми лучами солнца, потягивая первую чашку кофе, пока город еще спит, а впереди брезжит новый, полный надежд день.
Он пытался перестроиться, и в тех редких случаях, когда ему удавалось встать до рассвета, ловил кайф: смотрел, как начинается день, и хотя бы недолго ощущал, что шагает вперед, а не плетется сзади. Но потом ночь затягивалась, он снова просыпался поздно, и Генри постоянно казалось, что ему не хватает времени. Словно он всегда куда-то опаздывал.
Например, сегодня Генри опаздывает на завтрак со своей младшей сестрой Мюриэль.
Голова еще немного гудит после вчерашнего, Генри торопливо шагает вниз по улице и жалеет, что не отменил встречу. А ее стоило бы отменить. Однако в прошлом месяце он переносил завтраки с сестрой трижды, а ему не хотелось быть дерьмовым братом. Мюриэль вела себя как хорошая сестра, и это было мило. Прямо что-то новенькое в их отношениях.
В кофейне, где Мюриэль назначила встречу, он прежде не бывал, она оказалась не из его излюбленных заведений. Хотя, по правде говоря, кафе в шаговой доступности у Генри закончились. Первое испортила Ванесса, второе – Майло. В третьем эспрессо на вкус напоминал уголь.
Пришлось предоставить выбор сестре, и она выбрала «забавную крохотную забегаловку» под названием «Подсолнух». Забегаловка эта, по-видимому, не имела ни опознавательных знаков, ни адреса, и иного способа найти ее, кроме как воспользоваться неким хипстерским радаром, которого у Генри, разумеется, не было, не существовало.
И вот на противоположной стороне улицы он замечает небольшой подсолнух, нарисованный по трафарету на стене. Генри бежит, чтобы успеть к светофору, едва не сбивает с ног парня на углу и принимается бормотать извинения, хотя тот без конца повторяет, мол, все хорошо, все в порядке. Наконец Генри находит вход в кофейню. Хостес уже собирается сообщить ему, что мест нет, но, подняв глаза от стойки, расплывается в улыбке и говорит, что сейчас же найдет ему столик.
Генри оглядывает зал в поисках сестры, однако та всегда считала время гибким понятием, поэтому, несмотря на то, что Генри и сам задержался, Мюриэль безбожно опаздывает. А он втайне радуется, поскольку получил передышку. Можно успеть перевести дух, пригладить растрепанные волосы, выпутаться из удушливого шарфа и даже заказать кофе. Генри старался выглядеть достойно, хоть это было неважно – ничто не могло изменить мнения сестры, однако для Генри вопрос внешности все еще имел значение. Должен был иметь.
Примерно через пять минут в кофейню ураганом темных кудрей и непоколебимой уверенности влетает Мюриэль.
В свои двадцать четыре года Мюриэль Штраус рассуждает об окружающем мире исключительно в терминах концептуальной подлинности и творческого подхода к истине. С первого же семестра в Тиш[12]12
Школа исполнительского, кинематографического и медиаискусства Нью-Йоркского университета.
[Закрыть] она стала любимицей нью-йоркской художественной тусовки и быстро поняла, что ее поприще – критика, а не творчество.
Генри любит свою сестру, искренне любит. Но Мюриэль напоминает сильные духи – лучше в малых дозах. И на расстоянии.
– Генри! – кричит она, эффектно сбрасывая пальто и опускаясь на сиденье. – Отлично выглядишь.
Утверждение не соответствует истине, однако Генри просто отвечает:
– Привет, Мур.
Она сияет и заказывает флэт-уайт[13]13
Кофейный напиток, приготовленный путем добавления вспененного молока в эспрессо.
[Закрыть], а Генри готовится к неловкому молчанию. По правде говоря, он не представляет, о чем разговаривать с сестрой. Но если Мюриэль что и умеет – так это поддержать разговор. Так что пока Генри потягивает свой черный кофе, кивая и поддакивая, сестра коротко обрисовывает ему последний скандал в поп-арт галерее, делится своим расписанием на Песах, восторгается экспериментальным арт-фестивалем на Хай-Лайн, хотя тот даже еще не открыт, и, лишь закончив возмущаться по поводу уличного арт-объекта, который, разумеется, вовсе не груда мусора, а символ избыточного потребления, переходит к их старшему брату.
– Он о тебе спрашивал.
Прежде Мюриэль никогда такого не говорила – никогда не упоминала Дэвида при Генри.
– Почему? – беспомощно удивляется Генри.
Мюриэль закатывает глаза.
– Наверное, потому, что он о тебе беспокоится!
Генри едва не захлебывается кофе.
Дэвида Штрауса много что беспокоит. Например, его статус самого молодого главы хирургии в Маунт-Синае[14]14
Один из самых старейших и крупнейших медицинских комплексов в США, расположен в Нью-Йорке.
[Закрыть]. Очень вероятно, что и судьба пациентов ему небезразлична. Он всегда умудрится найти время для мидраша[15]15
Толкование Торы в иудаизме.
[Закрыть], даже если придется делать это посреди ночи в среду. Ему важно, чтобы родители гордились поступками сына. Что же касается младшего брата – Дэвида Штрауса беспокоят только бесконечные попытки Генри уничтожить репутацию семьи.
Генри опускает взгляд на часы, хотя те ни о чем не говорят, они вообще не показывают время, если уж на то пошло.
– Прости, сестренка, – говорит он, отодвигая стул, – пора открывать магазин.
Мюриэль замолкает на полуслове – что совершенно для нее нехарактерно – и тоже встает. Она обхватывает Генри за талию и крепко его обнимает. Словно извиняется, словно ласкает, словно любит. Мюриэль на добрых пять дюймов ниже Генри, и будь они близки по-настоящему, он мог бы опустить подбородок ей на голову.
– Не пропадай, – просит она, и Генри обещает, что не пропадет.
VI
13 марта 2014
Нью-Йорк
Кто-то гладит Адди по щеке, и она просыпается. Прикосновение настолько нежное, что сначала Адди думает, это сон, но потом открывает глаза и видит китайские фонарики и Сэм, сидящую возле шезлонга на корточках. На лбу у нее собралась тревожная складка. Волосы распущены, и вокруг лица разметалась копна светлых локонов.
– Привет, спящая красавица, – говорит она, засовывая обратно в пачку незажженную сигарету.
Задрожав, Адди садится, сильнее кутаясь в куртку. Утро выдалось пасмурное и холодное, небо затянуто белым, солнца не видно. Она не собиралась спать так долго, допоздна. Идти, конечно, ей все равно некуда, но прошлой ночью, пока Адди еще не замерзла, затея остаться здесь казалась прекрасным решением.
Распахнутая «Одиссея» свалилась на пол обложкой вверх. Та повлажнела от утренней росы. Адди хватает книгу, снимает суперобложку, старательно разглаживает согнутые и испачканные страницы.
– Здесь холодно, – говорит Сэм, помогая Адди подняться на ноги. – Пойдем.
Сэм всегда так общается. Вместо вопросов – утверждения, повелительное наклонение, которое звучит будто приглашение. Она тянет Адди к выходу, а та слишком замерзла, чтобы протестовать, поэтому просто позволяет Сэм утащить ее в квартиру, делая вид, будто не знает дороги.
За дверью Адди встречает полный бедлам.
Коридор, спальня, кухня – все битком набито холстами и картинам. И только гостиная, что расположена в задней части квартиры, просторна и пуста. Ни дивана, ни стола, ничего, только два больших окна, мольберт и табуретка.
«Здесь я зарабатываю на жизнь», – заявила Сэм, когда первый раз привела сюда Адди.
«Оно и видно», – отозвалась та.
Художница распихала все имущество по трем четвертям пространства квартиры, чтобы сохранить на оставшихся метрах тишину и покой. Подруга предлагала ей снять студию буквально за гроши, но там было слишком холодно, а, по словам Сэм, писать она могла только в тепле.
– Прости, – говорит Сэм, шагая по холстам и коробкам, – сейчас тут небольшой кавардак.
Порядка Адди здесь никогда и не видела. Она бы с удовольствием взглянула, над чем работает Сэм, любопытно, откуда у художницы белая краска под ногтями и розовое пятно на подбородке, но вместо этого Адди следует за ней по загроможденной квартире на кухню. Сэм включает кофеварку, а Адди разглядывает помещение, отмечая, что изменилось. Вот новая фиолетовая ваза. Стопка недочитанных книг, открытка из Италии. Постоянно пополняющаяся коллекция кружек – из некоторых торчат чистые кисти.
– Ты пишешь… – говорит Адди, кивая на стопку полотен, прислоненных к плите.
– Да, – улыбается Сэм. – В основном абстракционизм. Как говорит мой приятель Джейк, бессмысленное искусство. Но оно не бессмысленно. Просто другие пишут то, что видят, а я – свои чувства. Возможно, когда одно чувство заменяется другим, это сбивает с толку, но в подобных метаморфозах есть своя красота.
Сэм наливает кофе в две чашки. Одна из них зеленая, мелкая и широкая, как миска, а другая – синяя и высокая.
– Кошки или собаки? – спрашивает она вместо «зеленая или синяя».
Ни кошек, ни собак на чашках не изображено. Адди выбирает «кошек», и Сэм без объяснений вручает ей синюю.
Их пальцы соприкасаются. Они стоят ближе, чем казалось Адди, достаточно близко, чтобы она могла разглядеть серебристые прожилки в голубых глазах Сэм, а та – сосчитать веснушки на лице гостьи.
– У тебя тут звезды… – говорит она.
«Дежавю», – снова думает Адди. Ей хочется отодвинуться, уйти отсюда, освободиться от бесконечного безумия зеркальных повторений.
Но она просто обхватывает чашку руками и делает большой глоток. Рот окутывает сильный горький вкус, который потом раскрывается насыщенной сладостью. Адди вздыхает от наслаждения, а Сэм широко ухмыляется.
– Здорово, правда? Секрет в…
«Какао-крупке», – думает Адди.
– …какао-крупке, – заканчивает Сэм и подносит к губам чашку. Та и правда огромная, словно миска.
Она облокачивается на стойку и склоняется над чашкой, словно над подношением.
– Ты будто поникший цветок, – поддразнивает ее Адди.
– А ты полей меня, и увидишь, как я расцвету, – подмигивает Сэм, салютуя чашкой.
Адди ни разу не видела художницу такой, по утрам болтать с Сэм ей не доводилось. Разумеется, они просыпались вместе, но те дни были омрачены извинениями и смущением. Последствиями забвения. В такие моменты лучше не задерживаться. А теперь, однако, что-то новенькое… Только что возникшие воспоминания.
– Извини, – встряхивает головой Сэм, – я так и не спросила, как тебя зовут.
Это ей в Сэм и нравится, Адди сразу отметила: художница живет и любит всем сердцем, делится теплом, которое большинство людей приберегают для самых близких. Ставит потребности выше доводов рассудка. Она привела незнакомку в дом, дала отогреться и только потом начала задавать вопросы.
– Мадле́н, – выпаливает Адди первое подходящее имя.
– Мое любимое печенье, – улыбается хозяйка. – А я – Сэм.
– Привет, Сэм, – говорит Адди, как будто произносит ее имя впервые.
– Итак, – начинает художница, словно только что додумалась спросить, – что же ты делала у нас на крыше?
– О, – покаянно усмехается Адди, – я не собиралась там засыпать. Даже не помню, как села в шезлонг. Я и не подозревала, что так вымоталась. Я только недавно переехала сюда, в квартиру 2-Эф, оказалось, у вас тут очень шумно, так непривычно. Я не смогла заснуть и решила выйти подышать свежим воздухом, а заодно полюбоваться рассветом.
Врать очень легко, слова уже не раз отработаны.
– Да мы соседи! – радуется Сэм и добавляет, отставляя в сторону пустую чашку: – Я бы с удовольствием как-нибудь написала твой портрет.
Адди так и подмывает сказать – ты его уже писала.
– То есть, конечно, не совсем портрет, – бормочет Сэм, направляясь в коридор.
Адди выходит следом. Сэм останавливается у стопки полотен и начинает перебирать их, как виниловые пластинки.
– Я работаю над одной серией, – говорит она, – хочу запечатлеть людей в образе неба.
Грудь Адди отзывается тупой болью – полгода назад они валялись в постели, Сэм гладила пальцем, будто кистью, звездный путь на лице Адди.
– Знаешь, – сказала она, – говорят, люди похожи на снежинки, каждая в своем роде неповторима, а я думаю, они как небеса. Всякий раз, когда смотришь на небо, оно разное – то затянуто облаками, то предгрозовое, а порой ясное, но одинаковым не бывает никогда.
– И на какое небо похожа я? – поинтересовалась Адди, а Сэм, не моргая, уставилась на нее, а потом просветлела лицом.
Это было озарение, которое Адди сотни раз видела у художников, свет вдохновения, будто кто-то зажигал лампочку у них под кожей. Сэм ожила, встрепенулась, вскочила с кровати и потащила Адди в гостиную.
Пришлось час просидеть на деревянном полу, укутавшись в тонкое одеяло и слушая бормотание Сэм, смешивающей краски, и шорох кисти по холсту. Когда Адди подошла взглянуть на картину, то увидела ночное небо, но не такое, каким его обычно изображают. Полотно было прошито смелыми росчерками угольных и черных полос, исполосовано резкими серыми линиями, а краска положена так густо, что выступала над холстом. По поверхности рассыпана пригоршня серебряных точек. Казалось, эти крапинки попали туда случайно, словно брызги от кисти, но Адди насчитала их ровно семь. Небольшие точки были расставлены широко, как звезды.
Голос Сэм возвращает Адди в реальность.
– Жаль, но любимую картину показать не могу, – вздыхает художница. – Она положила начало серии. Называется «Забытая ночь». Я продала ее коллекционеру из Нижнего Ист-Сайда. Это была моя первая большая сделка: я заплатила за аренду за целых три месяца и смогла выставляться в галерее. И все же расставаться было тяжело. Знаю, это необходимо, байки о голодающих художниках преувеличены, однако и дня не проходит, чтобы я о ней не вспоминала. Безумие в том, – рассеянно добавляет Сэм, – что каждый портрет с кого-то списан. Друзья, соседи, незнакомцы, которых я встретила на улице. Но ее, самую первую, хоть убей, вспомнить не могу.
Адди тяжело сглатывает.
– «Ее» – то есть это девушка?
– Да. Думаю, да. В картине осталась ее энергетика.
– Может, она просто тебе приснилась…
– Может, – пожимает плечами Сэм. – Я всегда плохо запоминала сны. Но знаешь… – Ее голос обрывается, она смотрит на Адди точно так же, как смотрела той ночью, почти сияя. – Ты напоминаешь мне ту картину. – Она закрывает ладонью лицо. – Боже, звучит как самый дерьмовый подкат! Извини. Пойду-ка я в душ.
– Мне пора, – спохватывается Адди. – Спасибо за кофе.
Сэм прикусывает губу.
– Ты правда должна идти?
Вообще-то, не должна. Она могла бы отправиться следом за художницей в душ, завернуться в полотенце и сидеть на полу в гостиной, наблюдая, как Сэм изобразит ее на этот раз. Она могла, могла. Могла снова окунуться в эти мгновения, но только Адди знала – будущего в них нет. Лишь бесконечно повторяющееся настоящее. Адди прожила его с Сэм столько раз, сколько сумела вынести.
– Извини, – отвечает она, превозмогая боль в груди, но Сэм лишь пожимает плечами.
– Увидимся, – убежденно говорит художница. – Мы ведь как-никак соседи.
Адди выдавливает бледное подобие улыбки.
– И то правда.
Сэм провожает ее к выходу, и с каждым шагом Адди все больше хочется обернуться.
– Не пропадай, – улыбается Сэм.
– Не пропаду, – обещает Адди, и дверь закрывается.
Адди вздыхает, прислоняется к ней, слушает шаги Сэм по захламленному коридору и только потом заставляет себя уйти.
* * *
Белый мрамор неба покрылся трещинами, и сквозь них проглядывают тонкие полоски синевы.
Холод уже не такой обжигающий, и Адди подыскивает себе кафе с уличными столиками, где посетителей так много, что официант успевает выглядывать на террасу не чаще чем раз в десять минут. Она запоминает ритм его появлений, словно узник, который следит за поступью охранника, и заказывает кофе. Он не так хорош, как у Сэм, – горький и никакой сладости, зато достаточно горячий, чтобы не дать ей замерзнуть.
Подняв воротник кожаной куртки, Адди снова открывает «Одиссею» и старается окунуться в книгу. Одиссей считает, будто плывет домой, чтобы после всех ужасов войны вновь встретиться с Пенелопой, но Адди много раз читала эту историю. Она-то знает: до возвращения еще далеко.
Адди листает страницы, переводя с древнегреческого на английский:
«Горе мне! Что претерпеть я еще предназначен от неба!
Если на бреге потока бессонную ночь проведу я,
Утренний иней и хладный туман, от воды восходящий,
Вовсе меня, уж последних лишенного сил, уничтожат:
Воздух пронзительным холодом веет с реки перед утром[16]16
Гомер. Одиссея / пер. В. А. Жуковского.
[Закрыть]»
Официант возвращается на террасу. Адди, подняв взгляд от книги, наблюдает, как он хмурится, увидев уже доставленный заказ. Клиента парень определенно не помнит, но Адди выглядит так, словно сидит здесь давным-давно, а это уже половина победы. Мгновением спустя он поворачивается к паре, что стоит в дверном проеме в ожидании столика.
Адди возвращается к чтению, но тщетно. Она не в настроении читать ни о приключениях пропавших мореплавателей, ни об их одиночестве.
Да и плевать – кофе совсем остыл, поэтому Адди встает и вместе с книгой отправляется в «Последнее слово» за чем-нибудь новеньким.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































