Текст книги "Великая Скифия"
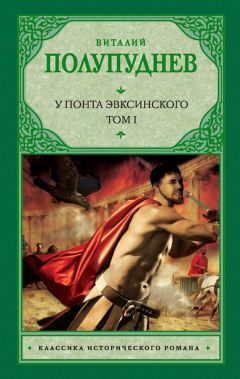
Автор книги: Виталий Полупуднев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Неаполь достался скифам легко. Его взяли лихим налетом передовые отряды, состоящие из малолетков. Главная рать еще в бой не вступала и вошла в город за царем, словно на праздник.
Палак въехал на мощеную площадь города. Народ потеснился. Копыта лошадей звонко застучали по каменным плитам.
Светло-синие глаза царя увлажнились. Он смотрел на отцовский дворец, построенный ольвийскими и местными скифскими строителями.
Дворец представлял собою большой двухэтажный дом с пристройками и башней. Его украшал лепной фронтон в эллинском вкусе, подпертый рядом колонн, увенчанных простыми дорическими капителями.
И тут же совсем по-другому выглядел широчайший навес, выходящий прямо на площадь и поддерживаемый толстенными витыми столбами, раскрашенными в три цвета и соединенными вверху завитушками, напоминающими птиц. Это было подобие обширного крыльца, с десятком ступеней, сбегавших на площадь. На этом крыльце бражничали цари сколотов на виду и при участии народа.
Сейчас на верхней ступени лестницы стоял сухой безбородый человек с лицом дряблым и морщинистым. Он походил на костлявую старуху, одетую мужчиной-жрецом, в длинном черном балахоне и остроконечной высокой шапке, украшенными изображениями звезд, полумесяцев и каких-то магических знаков.
– Царь Палак! – пронзительно нараспев возгласил старый жрец. – Великий Папай и мать Табити, могущественные боги сколотов, благословляют тебя в доме отца твоего!
Это был верховный жрец Тойлак, въехавший в город вместе с передовыми отрядами.
Палак нахмурился. Его лицо стало сосредоточенным. Невыразительные, выпяченные, как у детей, губы сжались плотнее. Он соскочил с коня и мягко зашагал по ступеням крыльца навстречу жрецу. Тот поклонился царю и уже не так громко добавил:
– Великий Палак-сай! Ты вступаешь под своды своего жилища, завещанного тебе твоим царственным отцом! Оно осквернено эллинами и чужеземцами из-за моря… Не забывай никогда, что ты уже терял его. Помни: твои семейные святыни поруганы чужими людьми. Да не повторится никогда позор поражения, да укрепят тебя боги в борьбе с врагами! Пусть дух великого Скилура всегда будет с тобою! Иди принеси жертву богам, возблагодари их жертвенным сожжением! Очисти воздух твоего жилища жертвенным дымом!
Широким и торжественным жестом Тойлак указал царю на дворцовый вход. Палак стал еще более сосредоточен, сдвинул подчерненные брови, помрачнел. Углы рта опустились. Сейчас он вновь переживал всю горечь прошлогоднего поражения, всю муку позора. Крупные капли пота продолжали падать на малиновый кафтан, будто слезы досады за не столь давнюю неудачу, о которой так неосторожно напомнил жрец.
– Да, нас побили в прошлом году, – сказал он сквозь стиснутые зубы, смотря мимо жреца, – и, знаешь, мой духовный отец, поделом!
– Ах!.. Что ты молвишь, государь, люди услышат!
– Поделом нас побили, Тойлак!.. За нашу темноту, за неумение наше!.. Сколоты привыкли криком воевать да самодельными луками, зато и потеряли свои привольные пастбища между Танаисом и Борисфеном… Теперь воюют по-другому… Спасибо, пришли понтийцы и кое-чему научили нас!
– Научили на свою только голову! – раздался со стороны веселый голос. – Теперь мы знаем, в чем сила Понта, чем сами слабоваты!.. А у такого царя, как Митридат, не грех поучиться!
Из-за колонны вышел улыбающийся детина в зеленом кафтане и лихо заломленной бархатной островерхой шапке, отороченной мехом бобра. Смугло-румяное широкое лицо его дышало свежестью и сознанием силы. Карие глаза весело поблескивали, в них было много удали и самодовольства. Левой рукой он держал рукоять меча, а правой – плеть-двухвостку.
Все знали князя Раданфира, друга царя с детских лет, сейчас его ближайшего помощника, воеводу и телохранителя. Он имел тяжелую руку и легкий характер. Палак любил Раданфира. Ему казалось, что лихой воевода и доныне остался тем смешливым и предприимчивым в проказах мальчишкой, с которым он когда-то в прошлом прятался от учителей эллинской грамоты, чтобы поиграть в «сколотов и сарматов», а потом устраивал конные скачки за сайгаками и зайцами. Только тогда Раданфир не имел широченных геракловых плеч и не носил расчесанной густой бороды, в которую для красы вплетает теперь цветные ленты.
Царь приветливо улыбнулся спутнику его детских забав, лицо его оживилось, стало добродушным.
– Ты прав, Раданфир, у царя Понта не стыдно поучиться, хотя наш прапрадед Иданфирс изрядно поколотил прапрадеда Митридата царя Дария… Что ж, теперь мы квиты. Можно начинать новый счет.
– Мы его начнем с Херсонеса! – весело заключил князь. Наклонившись к уху царя, заговорил тихо, сквозь смех: – О Палак-сай! Греки так растерялись, что оставили нам хлебные склады, запасы сушеной и соленой рыбы и… винные погреба!..
Палак быстро повернул голову и внимательно всмотрелся в разгоряченную физиономию князя, еле сдерживая улыбку.
– Это неплохо! Все, что осталось от греков, не будет лишним для нас! Но без охраны люди растащат все эти запасы, а вино выпьют, если уже не выпили.
– Нет, Палак-сай, я поставил надежную стражу.
– Правильно. Ну, а вина хорошие?
– Прекрасные, государь! Впрочем, есть и похуже…
Палак не выдержал и рассмеялся. Его радовал и согревал этот праздничный человек с солнечной душой.
– Значит, ты уже попробовал их и, кажется, изрядно? – Самую малость, государь! Чтобы узнать, не намешали ли туда эллины какой-нибудь дряни.
Царь почувствовал себя хорошо. Ему показалось, что беззаботное былое счастье и юношеское веселье вдруг глянули на него из глубины глаз Раданфира, подобно лучу света, внезапно пробившему серые тучи печальных мыслей, навеянных жрецом.
Ему хотелось запросто поболтать с Раданфиром. Но опять раздался скрипучий высокий голосок Тойлака:
– Не задерживайся, государь! Шествуй во дворец для принесения жертвы!
Улыбка сбежала с лица царя, губы сомкнулись, повторяя изгиб натянутого лука. Он вздохнул.
Тойлак был хранителем традиций старой Скифии и духовным наставником молодого царя. Скифский патриарх опирался на целую армию пилофоров – жрецов, имел влияние на народ и князей. Противостоял стремлению царя к единоличной власти, ратуя за сохранение власти жречества и отчасти князей. Умело играл на чувствах народа, выступая в роли защитника дедовских обычаев.
Палак восхищался Гераклом, героем греческого мира. Князья перешептывались с жрецами и называли царя «филэллином».
Палак сбрил свою жиденькую, некрасивую бороду. Стал ходить бритым. Волосы также подстригал немного ниже ушей. Говорил при этом:
– Если б я имел растительность, как у Раданфира, я гордился бы своими волосами и бородой!.. Но боги меня обидели.
– Посмотрите, – шептали недоброжелатели, – он нарушает обычаи предков – бреется и стрижется… Раньше стригли только рабов…
Тойлаковцы охотно поддерживали такие разговоры. Жрецы боялись, что с усилением царской власти их влияние упадет. Князья помнили времена, когда царей выбирали из их среды, и тоже не прочь были подсечь дерево царской власти, боясь потери своих прав, и вольностей.
Однако открытых форм эта борьба не принимала. Даже после поражения в прошлом году, когда тысячные толпы скифов откатились в степь и рассыпались по родам, а родовые князья решили, что теперь они могут не кланяться царю, призыв Палака к народу вновь взяться за оружие и продолжать борьбу за независимость Скифии нашел отклик в сердцах простого люда и преданных князей и вызвал мощное движение за сохранение единого царства сколотов, что и послужило началом новой войны.
Обаяние царской особы было так велико, что с ним не могли не считаться строптивые князья и жрецы, их поддерживавшие. Служители бога Папая в конечном счете не хотели развала единой державы, но, лавируя между князьями и властолюбивым царем, они думали усилить свои позиции за счет той и другой стороны.
Палак понимал это. Он чувствовал скрытое сопротивление жрецов, как пасущаяся лошадь чувствует путы на ногах, что мешают ей бегать свободно. И ненавидел Тойлака.
Старый жрец, несмотря на свою худобу, жилист и вынослив. Ему, как энарею, скопцу, чужды услады жизни. Но всем хорошо известна слабость патриарха: на пирах, после чаши вина, он быстро засыпал, чем друзья Палака пользовались при случае.
Сейчас он стоял, втянувши сухие старушечьи губы и ощупывал царя взглядом колючих мышиных глаз.
«Опять эта ворона закаркала», – подумал Раданфир.
Палак кивнул энарею головой и молвил:
– Спасибо, хранитель воли богов и заветов отца моего! Ты всегда вовремя напоминаешь мне о моих обязанностях перед бессмертными богами.
– И перед народом, государь! – Тойлак сделал движение рукой в сторону площади. – Видишь, сколько глаз смотрят на тебя!
Площадь глухо гудела, забитая людьми. На ступенях крыльца остановились в ожидании спутники царя.
– И перед народом, – согласился царь, – твои слова совпали с моими мыслями… Каковы предсказания?
– Неплохие… Но боги по-прежнему чем-то раздражены!
– Да-да, понимаю. Мы постараемся умилостивить их.
Раданфир с озабоченным видом заявил, что ему нужно проверить караулы. Получив согласие царя, он искоса взглянул на жреца и исчез.
Царь и жрец в сопровождении свиты вступили под мрачные своды дворца, напоминающего своим массивным видом скалу, пронизанную гротами и пещерами. Здесь опять на Палака нахлынули воспоминания солнечного детства. Кругом так все знакомо! Тяжеловесные плиты, что устилают пол, на стенах кольца для факелов. Выше колец – черные бархатные конусы копоти, ниже – кляксы застывшей смолы, когда-то стекавшей с оплывающих факелов. В высоких простенках все так же, как и когда-то, висят медвежьи шкуры, изъеденные молью, торчат ветвистые рога оленей, убитых рукой Скилура, оружие, снятое с вражеских трупов. И тут же по углам стоят статуи греческих мастеров. Могучий Геракл, копьеносная Афина, щеголеватый Аполлон.
Как было прочно и незыблемо все, когда над всем этим возвышалась фигура Скилура – царя-гиганта, умевшего держать в руках народ, хитрых жрецов и спесивых князей! Тогда люди, подобные Тойлаку, пресмыкались у царских ног и считали честью завязать ремень на сапоге владыки. Они не смели говорить открыто, что «боги зовут сколотов назад к Атею». А если и шипели, то за спиною царя, в темных углах. А сейчас они подняли головы, смеют противопоставлять себя царю, выражать сомнение в правильности его пути. Особенно после прошлогоднего поражения. Мелкие, недалекие люди! Разве они могут что-либо увидеть дальше ушей своего коня?
Скорбь, боль и бешенство сплетались в душе царя в змеиный клубок, подобно борющимся гидрам, вышитым на широком дворцовом занавесе.
Греки использовали дворец для размещения своих воинов, как большую казарму. Расписные потолки в залах потемнели, хотя и сейчас видны на них трехцветные листья, ягоды и скачущие кони. Скифские художники знали лишь три краски: красную, желтую и черную.
На полу лежали кучи мусора, мятой соломы, шелуха лука и палки, которыми гоплиты счищали грязь со своих эндромид. Шмыгали крысы. Палак остановился среди зала и сказал, обратившись к жрецу:
– Прежде чем воскурить здесь дым жертвенного сожжения, нужно очистить хоромы от всей этой скверны!
Люди засуетились, забегали. Послышались окрики старших. Прибежали запыхавшиеся воины с пучками камыша и поспешно начали уборку, поднимая при этом облака пыли. Палак закашлялся и громко чихнул. Пришлось временно выйти во внутренний дворик, где стоял сломанный высохший фонтан.
Скоро порядок был наведен, жертва принесена. Запах горелого мяса и паленой шерсти распространился повсюду. Его было слышно даже на площади.
Во дворец притащили тюки с рухлядью, предназначенной для украшения царского жилища.
5Палак с удовлетворением наблюдал, как оживает его дворец. Его бодрила суета десятков людей, из коих одни распоряжались, другие что-то тащили, развязывали волосяные веревки, сбрасывали с плеч узлы, покрытые дорожной пылью. Расстилали кошмы. На стенах развешивали оружие и дорогие парфянские ковры, изрядно уже потертые, вылинявшие от длительного употребления.
Расторопные отроки перекликались пронзительными голосами, но тотчас умолкали при появлении царя.
Бородатые воины в войлочных колпаках заправляли бронзовые светильники, наливали их маслом. Потом один взобрался на плечи другому и, взяв светильник корявыми пальцами, осторожно потянулся к цепи, что спускалась с потолка. Потеряв равновесие, упал, грохоча оружием. Лампа покатилась по каменному полу, оставляя темный след разлившегося масла.
Окружающие грубо захохотали.
– Ты бы еще верхом на коне въехал на плечи Сораку, он здоровый, выдержит!
– Да сними ты оружие-то!
Неудачник поднялся на ноги и начал снимать с себя меч, горит с луком, кинжал, вынул из-за пояса секиру с обухом в виде ножа, складывая все это в кучу.
Царь незамеченный стоял в нише боковой двери и смеялся.
На женской половине распоряжалась Опия, старшая из жен царя. Она командовала целым отрядом девушек, убиравших комнаты. А сама сидела на греческом дифре и время от времени подносила к лицу ручное металлическое зеркало, чтобы поправить свои желтые кудри, окрашенные «фапс-деревом». Ожидая прихода царя, она выкупалась в деревянной кади, невольницы натерли ее тело пахучей кипарисово-кедровой мазью, искусная рабыня Ирана насурмила ей брови, накрасила губы и натерла щеки ирисовым соком.
На полных обнаженных руках царицы сверкали браслеты. Одни, выше локтей, в виде змей, держащих во рту собственные хвосты, что считалось символом вечности, другие, на запястьях, из головок баранов, отлитых из золота, отгоняющие дурные веяния. В ушах – серьги с эмалевыми голубями и изображениями Эрота, на шее – ожерелье из серебряных колец, соединенных гиппокампами, брошь в виде золотого скарабея, на руках кольца с печатками из египетской пасты, изображающими цветы шиповника, окруженные зелеными листочками.
– Ах, как мне надоело ночевать в юрте и трястись в кибитке, переезжать с одного места на другое!.. Я никуда больше не поеду из Неаполя! Скажи, Ирана, ты натирала меня маслом: не стало мое тело дряблым?
– Нет, госпожа! – с видом восхищения отвечала смуглая рабыня, имевшая черные и густые брови. – Ты прекрасна, как богиня Аштара!.. Твое тело словно отлито из серебра и золота, так оно молодо и упруго!
– Но от солнца и ветра мое лицо стало темнее, а на висках появились прыщики.
– Что? – в притворном ужасе вскинула руками Ирана. – Это дрянное зеркало обманывает тебя, великая царица!.. Дай я потру его кожей кулана. Конечно, потемнело зеркало, а не твое лицо. А прыщики – где они? Я гладила твое лицо руками, и мне казалось, что я глажу шкурку того белого северного зверька, которой обшит кафтан царя Палака!
– А вот это – разве не видишь?
– Это?… Ага!..
Ирана, нахмурив сросшиеся брови, стремительно кинулась рассматривать что-то на лице царицы, потом лукаво взглянула ей в глаза. Словно стараясь перебороть неловкость, она приблизилась к Опии и, прикрывая рот красным лоскутом, чтобы не осквернять своим дыханием лика державной повелительницы, сказала ей шепотом что-то на ухо. Царица вспыхнула, выпрямила стан и засмеялась. Взглянула в зеркало, продолжая смеяться.
– Ты, видимо, права, Ирана, за последнее время мы редко видимся с царем… И все виноваты эти дела, война, переходы…
Неожиданно лицо царицы потеряло веселое выражение, рот сжался, как бы от внутренней боли, глаза помрачнели.
– Палак ждет наследника, – проговорила она изменившимся голосом, – но боги решили посмеяться над его ожиданиями, а меня наказали бесплодием. Может, он уже и не любит меня поэтому?…
– Что ты, что ты говоришь, прекраснейшая из цариц! – с жаром возразила Ирана. – Царь Палак заколдован твоей красотою!
Царица с горечью покачала головою.
Вошла тоненькая девочка с венком из полевых цветов на голове и поставила перед Опией греческий столик с блюдом, наполненным ореховыми ядрами, залитыми медом.
– Зачем это? – спросила Опия в гневе. – Разве я приказывала принести мне сладости?… Почему нет мяса? У меня я брюхе пусто, как у беглого раба, а мне несут медовые орехи вместо жареной дичи или бараньих кишок, налитых кровью!.. Кто тебя послал?
– Это я, Опия, хотел угостить тебя до начала пира! – раздался голос царя. – Мед самый лучший, а орехи не из наших лесов, а южные, заморские! Они очень вкусны.
Ирана, а за нею все девушки, что занимались уборкой царицыных покоев, повалились на пол, увидев царя. Опия поспешно вскочила на ноги. С туалетного столика посыпались на пол пузатые флаконы из финикийского стекла и раковины с притираниями. Аромат пролитых благовоний терпкой волною ударил в нос. Царица прижала к груди зеркало и, склонившись, в волнении сказала:
– Слава тебе, потомку Папая! О великий государь! Ты вошел так тихо, я не заметила тебя. Прости за беспорядок…
Царь в хорошем настроении. Он успел переодеться в более легкий кафтан, застегнутый до подбородка и туго облегающий его стан, узкие замшевые шаровары, вышитые золотыми звездочками, и мягкие чувяки, подвязанные цветными оборками.
Палак невелик ростом, но хорошо сложен. На его безусом лице можно прочесть мальчишеское добродушие и веселость пополам с высокомерием и снисходительностью владыки. Тонкий наблюдатель сказал бы, что этот человек не обладает могучей волей, что он слишком молод душой и склонен к дружеской беседе, приятным развлечениям, что ему недостает величавости и тугоподвижности повелителя, умения подавлять окружающих строгой манерой держать себя. Казалось, что роль царя он играет с трудом.
Молодой царь, знал, что он недостаточно представителен для своего высокого положения, и вместе с тем очень болезненно воспринимал всякое нарушение того всеобщего почитания и преклонения, которые были положены ему как царю. Войдя в покои царицы, он некоторое время стоял незамеченный и, слушая недовольные восклицания царицы, сморщился, словно от глотка уксуса. Но поспешный проскинезис – земной поклон служанок – и почтительное замешательство Опии сразу вернули ему хорошее настроение.
– С дороги хочется есть, – продолжал он с милостивой улыбкой. – Я сам жду и не дождусь, когда смогу обглодать баранью лопатку… Мне Раданфир принес сушеную рыбку из запаса, брошенного греками. Я ее погрыз и вдобавок захотел пить… – Царь прислушался к шуму на площади. – Подойди сюда, Опия, погляди, как ожил Неаполь!
Они прошли по мятым коврам в соседнюю просторную светлицу, еще заваленную неразобранными тюками и вьюками. Через пустые оконные проемы, сохранившие на косяках обрывки ссохшихся пузырей, когда-то затягивавших окна целиком, сюда врывались золотые лучи заката. Вечернее солнце оживило настенные изображения скачущих всадников, догоняющих вепря. К солнечному свету примешивались кровавые отблески, волнами пробегающие по сводчатому потолку, покрытому золотыми звездами и лунами.
Палак подвел Опию к окну.
На площади ревела и бушевала толпа. Хохот, крики, звон оружия, пискливые звуки флейт, склеенных из тростинок при помощи смолы, бумканье барабанов, топот танцующих – все это было необычайно и напоминало шум сражения.
Ближе к дворцу пылали огромные костры. Над ними на цепях висели медные котлы, в которых что-то клокотало, испуская клубы пара. Раздражающий запах мясного варева чувствовался даже во дворце. На длинных вертелах жарились целые бараны и туши жеребят. Царица проглотила слюну.
– Эй, дорогу! Расступись! – слышались отдаленные выкрики.
Сквозь толпу продиралась вереница воинов, несущих на плечах глиняные сосуды с вином. Их встречали восторженными восклицаниями.
Кувшины и амфоры с вином, кадки с опьяняющей брагой и терпким кумысом устанавливались по эту сторону костров под охраной сплошного ряда царских дружинников. Вдоль стен дворца разъезжали на конях царские телохранители.
У коновязей, напротив царёва крыльца, стояло до сотни разряженных лошадей, похожих на стаю сказочных жар-птиц в своих многоцветных попонах.
Знатные князья и «друзья царя», воеводы и богатыри уже толпились на крыльце. Они поглядывали на дубовые столы, отягощенные горами горячих хлебов, бесчисленными чашами и ритонами для вина, ушатами с редькой и луком, солеными грибами, медом и лесными плодами. Мясного еще не подавали. Ждали царя.
Супруги переглянулись. Царица, встретив веселый взгляд царя, покраснела. Палак усмехнулся.
– Сейчас тебе принесут вино, мясо с подливкой из амома и сладости! Придут жены князей. Ешьте, пейте и веселитесь! Я пойду… Пора дать начало пиру!
Прежде чем выйти на крыльцо, Палак встретился с Раданфиром во дворике у фонтана. Велел позвать воевод – Калака и Омпсалака.
Первый уже в годах. Несмотря на свой небольшой рост, он считался одним из самых грозных богатырей скифского войска. Его седые волосы казались гривой дикого коня и удерживались шнурком из сыромятной кожи, охватывавшим голову. Крупноморщинистое, бородатое лицо воеводы выражало неукротимую энергию, рубцы на лбу и переносице придавали ему спокойно-свирепое, львиное выражение. В правом ухе Калак носил серьгу, левого не имел совсем. Оно было отсечено начисто, но не врагами. Он сам срезал его ножом, когда хоронили Скилура, и бросил в могилу друга и повелителя. По обычаю.
Омпсалак молод. Его отец, знатный витязь Спаргаб, друг Калака, погиб в битве с роксоланами. Теперь отцом и наставником его остался Калак. Они неразлучны в пирах и походах. У молодого князя удлиненное безусое лицо, и на первый взгляд он кажется слабым. Однако достаточно увидеть его могучую шею и тяжелые кисти рук, чтобы убедиться в обратном. Многие испытали силу его руки. Он полон азартной страсти к рукопашным схваткам, по характеру раздражителен и всегда кипит внутренним огнем. Молнии вспыхивают в его черных угрюмых глазах.
Царь обвел витязей взглядом. Помолчав, обратился к Калаку:
– Ты, Калак, поедешь моим воеводой, а Омпсалак будет твоей правой рукой. Четыреста всадников поведешь за собою. Доспехи снять, ехать в кафтанах с одним копьем. Возьмете мечи, луки и по сто стрел. Лишнего ничего не берите, чтобы кони могли скакать без передышки. Поняли?
– Поняли, Палак-сай! Скажи, куда ехать, кого бить?
– В Хаб! Там палисады не крепки, их можно повалить крупами коней. Но эллинская дружина там немалая и держится настороже! Город надо взять сразу, с ходу, внезапно!.. Кто там старшой?
– Клеомен, витязь добрый, – ответил Раданфир, – а помогает ему Бабон, сын Марона, пьяница великий, но в конном деле силен, знает степь и наши боевые обычаи…
– Тем более… Нападать нужно всеми силами, не щадить ни себя, ни коней, ну, а врага, я знаю, вы и так не пощадите!
– Постараемся, Палак-сай!
– Когда кончите дело, оставите в Хабе сто человек с сотником, а сами возвращайтесь в Неаполь! Тебе, Омпсалак, будет где разгуляться, но смотри, не зарывайся! Там, в Хабе, еще не война, настоящая война впереди!
– Когда велишь выезжать, великий государь?
– Немедленно, но без особого шума. А ты, Раданфир, выставь на дорогах и у ворот города тайные дозоры… Чтобы эллинские соглядатаи, что прячутся в городе, буде дознаются, в чем дело, не послали вперед гонцов к Клеомену!
– Слушаюсь и повинуюсь!
– Ну, с богом, да поможет вам Святой меч! Выпейте на дорогу по чаше заморского, чтоб замах был крепче!
Омпсалак мрачно усмехнулся. Калак крякнул.
– Идите!.. А теперь, друг Раданфир, за общую трапезу! Я голоден и чувствую жажду.
– Труби! – крикнул Раданфир кому-то в темноту.
– Труби!.. Труби!.. – многократно отозвались десятки голосов из гулких коридоров.
С высоты башни раздался рев рога, возвещая начало пира. Его встретили на площади тысячеголосым криком. Вспыхнули бочки со смолою. Загрохотали бубны. Оживление и шум усилились. Появление царя на крыльце вызвало необычайное воодушевление. Воины единодушно закричали, подняв над головами оружие:
– Папай! Папай!
Это боевой клич «царских скифов». Царь принял из рук князей чашу, слил «первину» на пол, прочитал молитву и одним духом опорожнил посудину до дна. Пир начался.
Солнце давно ушло за край степи, в небе загорелись звезды, столь знакомые каждому сколоту, привыкшему, посматривая вверх, находить дорогу среди степи в темные таврические ночи. Но сейчас никто не смотрел на небо. Площадь освещали костры и пылающие смоляные бочки. В огонь летели обглоданные кости, поднимая снопы искр. Костный мозг топился и горел ярким брызгающим пламенем. Что-то невиданное, захватывающее было в картине скифского пира. Игра света была столь необычайна, что царский дворец и его крыльцо, поддерживаемое витыми столбами, многокрасочная царская трапеза и ее разодетые участники начинали представляться многочисленным зрителям сказочным миражом, настолько же красивым, насколько и нереальным, могущим неожиданно, от порыва ночного ветра, превратиться в огненный столб и дымом рассеяться в просторах ночного неба.
Когда чаши были наполнены второй раз, из ворот города бесшумно, подобно веренице ночных духов, выехала многоконная рать и, спустившись с высоты, на которой располагалась скифская столица, направилась на юго-запад, перейдя с осторожного шага на крупную рысь.
Среди шума уличных плясок и песен, разгульных выкриков и смеха никто не заметил сборов и отбытия войска Калака.
Царь сидел выше других на рундуке, покрытом пестрыми чепраками. Перед ним был накрыт столик греческой работы. Остальные пирующие располагались частью за общими столами, кто постарше да познатнее, частью на войлоках и коврах, разостланных по полу. Были такие, что вытягивали ноги между блюдами и кувшинами или сидели на ступенях крыльца.
Палаку приносили яства отдельно. Когда он пил вино, все вскакивали на ноги, высоко поднимали рога и чаши и громко возглашали здравицу царю. Потом пили сами. Большинство витязей пило из двух чаш сразу, а некоторые, убившие много врагов, даже из трех. В таком случае третью чашу держал отрок, стоявший за спиною.
Царь был приветлив. Многим посылал почетные чаши с вином. Но пытливым взором останавливался на лицах многих князей, как бы желая разгадать скрытые мысли каждого. Палак не забывал, с каким трудом удалось собрать этих людей под общее знамя там, среди степи, куда в прошлом году им пришлось бежать от войск царя Митридата. На приглашение прибыть в царскую ставку многие из них вначале не ответили и только после объединения царя с наиболее влиятельными из родов, а также по настоянию народа, еще имеющего право собираться в круг по старинке, все князья прибыли к царю с дарами и после длительных споров согласились влить свои дружины и народное ополчение в общескифское войско. Теперь забота – сохранить единение Великой Скифии, укрепить его.
Вошли воины с луками в руках. Поклонились царю, всем собравшимся и сели в кружок, скрестив ноги. Не торопясь, поставили перед собою луки, но не так, как для стрельбы, а наоборот – древком к себе, а тетивой от себя. Стали щипать тетивы, водя по ним костяными крючками. Послышалось не то жужжание, не то гудение, напоминающее завывание ветра среди скал. Печальные звуки рождали странное беспокойство и щемление в груди, подобное тому, которое чувствует одинокий путник, потерявший дорогу в степи. Музыкантам начали подтягивать. Скоро запели все длинно-длинно, с унынием и грустью. В их голосах прозвучала жалоба сильных людей на что-то гнетущее их, мешающее им жить. Палак задумался. Песня будила в нем обиду на прошлогоднюю неудачу и разжигала ненависть к врагам.
Песня была окончена заключительным угрожающим кличем, зовущим в бой.
Поднялся звонкоголосый князь Лимнак, держа в руках кифару, инструмент греческого происхождения, мало распространенный среди сколотов. Князь окинул всех пирующих задорным, веселым взглядом, и его алые губы, блестящие от жирной пищи, разгоряченные питьем, скривились в усмешке. Палак кивнул ему головой. Лимнак тряхнул волосами, ударил по струнам кифары и запел высоким чистым голосом, который рассек общий шум и гомон, как яркий солнечный луч рассекает сумерки утра. Он протянул одну ноту, напоминающую призыв человека, зовущего другого в горах.
Вскочил юный княжич Лип и ответил еще более высокой и звонкой нотой. За ним – другой, третий. Гулко ворвались басы. Загремела песня без слов, простейшая из всех песен, которая родилась в перекличке пастухов. В ней слышались молодая сила, мужественная страсть и воинственная угроза. Мотива не было. Каждый старался попасть в унисон и кричать как можно громче. Запел весь народ, что пировал на площади. Ночная тьма всколыхнулась, вздрогнула. Звуки понеслись далеко за пределы города. Степь насторожилась тысячью ушей, услышав могучий голос своего хозяина – скифского народа.
После пения промочили горло. Волосатые руки потянулись к блюдам, тащили куски жареной баранины, горстью черпали из жбанов редечную гущу, а то, взяв жбан за ушки, подносили его к жадному рту.
Раданфир старательно подливал вина в фиал Тойлака. Тот тянул из посудины мелкими глотками, бегая при этом по рядам пирующих маслеными глазками.
Появились плясуны, мимы-скоморохи тузили друг друга деревянными мечами. Играли в чехарду, боролись, лаяли по-собачьи. Всем стало весело.
По коридорам дворца проследовал странный человек в пестром, необычном наряде, увешанном бубенцами и звенящими медными побрякушками. Человек приплясывал, что-то напевал, бил в бубен. Лицо его, ярко раскрашенное, казалось маской. Он строил такие рожи, так скалил зубы, что слуги и воины шарахались от него. Одни при этом смеялись, другие плевали, говоря:
– Тьфу ты, какой страшный! Ну просто злой дух!..
Однако видели его не впервые и хорошо знали, что это потешник царя, шут его Хрисогон.
Шут выскочил на крыльцо, растолкал скоморохов, прошелся колесом среди мисок и кувшинов, попутно схватил зубами кусок конины и зарычал по-волчьи.
Раздался всеобщий хохот.
Хрисогон задержался около царя и с комическим вниманием разглядывал задремавшего Тойлака.
– Чего уставился? – спросил царь не очень ласково. Хрисогон заюлил, закривлялся, как бы в смущении, остановился перед царским столом.
– Слушай, мой друг, – сказал он негромко, чтобы не услыхали пирующие, – тебе представляется прекрасный случай, которого не скоро дождешься вновь…
Он мигнул в сторону жреца.
– Ну? – лениво спросил захмелевший царь. – Что это за случай?
– Хе-хе-хе!.. Отвернуть безбородому голову и направить его с посланием к батюшке Скилуру в страну теней!
Лицо Палака вытянулось, изобразив на мгновение подобие испуга. Он быстро овладел собою и, хмурясь, покосился на дремлющего энарея, после чего повернулся в другую сторону, где беззвучно хохотал Раданфир.
Неожиданно, схватив наполненный фиал, Палак с маху надел его на голову шута. Вино красными струями потекло; по щекам ошеломленного насмешника, смывая румяна. Фиал был из бронзы и довольно тяжел. Но шут быстро пришел в себя и продолжал кривляться как ни в чем не бывало.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































