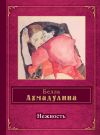Текст книги "Честные папоротники"

Автор книги: Виталий Шатовкин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Калейдоскоп
I.
Раз, два, три: повернёт алфавитное колесо ручной
карлик в костюме хламидомонады – глубь
кармана – берёзовый туесок – из
которого падают детские
сны – разноцветные фантики – из-под стеклянных
секретов. Собирают на ниточку с кончиком
в виде – блесны – крошки хлеба,
случайные зубы – в них
первое лето, для которого нехарактерна просодия
птиц – пальцы пыхнут – бумагой – листвой
освежёванных веток и срастаются
в панцирь моллюска при
–
смене страниц.
II.
Каково это – быть разделённым – на собственный
грех, в тихой поре не саженец яблони зреет,
но слово, и торчит из него, как ребро,
намагниченный кнехт —
цирковая уздечка, пришпоренный вол языка: если
резко пойдёт, будет тенью своей окольцован,
если встанет у точки, согнётся электро
дуга. Чиркнешь спичкой —
иголочкой, с шариком-солнцем на шее – заискрит,
повернётся, откроет свой ядерный зев и себя
по бумаге чернильной золою развеет,
и прореху сетчатки возьмёт,
–
как озимый посев.
III.
Пройдя в круг – ты замылишь следы одноразовым
мелом, под ногами не листья уныло шуршат,
сухожилия слов, в кобуре с букварём —
затаился сверчок-парабеллум.
Натяжение – между предметами – устная речь, как
итог: производная мыльного шара и трубчатой
кости – в беспрепятственной вылазке
слову дано только течь – через
медные трубы, дверные глазки, колченогие гвозди.
Смотровые отверстия выстроят новый приют
из стекляруса – туфа – сравнительной
формы наречий: повернёшь на
себя, и тебя бирюком
назовут, повернёшь от себя,
и ярлык приколотят,
предтеча.
Неваляшка
Разбросанный по комнатным углам предел светильника,
бельмо для Минотавра, кинестетическая пыль: то
тут, то там – так виден купол планетария
сквозь свечку. Его пришили за
пробоины к глазам,
как майский вечер к пазухам сирени: чем ярче свет – тем
всё смиренней тени. Один, два, три – пройдись по
узелкам, по лузам позвоночника вслепую:
у равновесия – нет функций —
кроме сна. Здесь
каждый звук сведён в спираль ушную – колье из ржавых
раковин морских, готических наречий погремушка.
И отпечаток кукол восковых – надводных
айсбергов плывущая печаль —
то дно покажет —
то всплывет верхушка – то
замигает, маячком,
диагональ.
Яхонты
I.
Запоздалая детская корь возвращается искренним
снегом, где лопатки у парковых статуй похожи
на дым – соревнуясь с Коперником ради
вершин обаяния – вдруг перчатка
с руки соскользнёт – а под флиской Надым суетится
ретортой и стройным аптечным стеклом. Даже
кажется, вроде бы он на цепях повисает:
здешний воздух, как будто оклад
II.
над библейским святым – угодивший в медвежью
порчу зверёк горностая. Отрицая свой возраст
и выбритый глянцевый блеск, ты готов в
каждом встречном калёной водой
отражаться и петлять голубиным зрачком, и ронять
русский лес: холостую игольницу с проволокой
под языком – уколоться иголкой и заново
тут же начаться, подымаясь со дна
III.
искромётным спинным плавником. Видеть в улице
резвую саблю с щербатым клинком, дотянутся
до края забора и выпросить милость – на
морозе, хмельная муштра пополам
разломилась – хлебный пар от наваленных грудой
дощатых лотков – столько тел только темень и
может с собой унести, у неё от злорадства
сверкают стальные полозья: лечь, и
IV.
землю, и солнечный свет зажимая в горсти – рвать
пурпурные гроздья. Наряжать этот вызревший
над подземельем разрез в платье волчьей
невесты, где розами бредят рубины,
выйдешь за полночь – крик петушиный – повиснет
ничком, гребешок свой могучий о завтрашний
выезд катая, а вокруг, как звезда изнутри —
барбарисовый холм – щурит взгляд
огневой и петарды
под ноги
–
бросает.
Шарик
Выпавший волос, сорванная листва, номер страницы,
опережающей память – сон подземелий или
отсутствие сна – шарик воздушный —
крошка небесного хлеба,
воском сочится
твоя надувная спина и застревает иглой в подбородке
у Феба. Шёпотом кружишься, шёпотом льнёшь
к высоте – хлопают крылья, врастают
в молчание ресницы – я
побегу за тобой по
кипящей траве: небо в чердачном окне часто кажется
ближе, чем отражение взгляда в стоячей воде
или прыжок разведённых кузнечьих
лодыжек. Вся геометрия
тела – воздетый кулак,
мох оплетает марьяж первомайских берёзок, ниточку
тянет в руке шестилетний бурлак, гордо шагая
с гвоздикою наперевес – крыльями
машут внахлёст слюдяные
стрекозы, через которые
видно изнанку
–
небес.
«В этом городе семь ворот в середину зла —…»
В этом городе семь ворот в середину зла —
на постели чужому не волос оставь,
а камень – это лучшее – чем
смотреть сквозь твои
глаза.
Карусель, с игрушечными конями, довезёт
до сбывшихся именин – только имя
твоё здесь забыли всуе, лишь
двужильным прутиком
от маслин на песке
за воротами
снег
–
рисуют.
Орлянка
Подбирая украдкой к своей тишине чернозём, щекоча
понарошку железобетонные блоки – одногорбый
верблюд – пересилит конструкцию ЛЭП – не
сойти ему с места, по шкуре елозит
сквозняк, от своей слепоты, словно облако, перегорая:
я играю в орлянку, и лампочка гаснет в руке. Птиц,
рассыпанных над поединком, овальная стая
изо всех своих сил духарится и цепко
звенит, ухватив на лету золочёную хлебную мелочь. В
ней, как в солнечной бричке, трясётся мещанский
кураж, прилипая к ладоням моим тополиной
пыльцой, тихим войлочным запахом
и малахитовой пашней. Под ногами, в упругую землю
уткнувшись лицом – не слезой Вероники, но боем
австрийской посуды – не укусишь подмышку
у солнца без помощи зла, от издёвки
чужой словно ящерка охладевая – и как
злачное место – двоится в деньгах
кривизна, древнегреческий
профиль в коронку
зубную сжимая.
Прятки в Пьяном лесу
За каждым тень тянулась словно бант, но неохотно
двигались близняшки – их спринт напоминал
седло кобылы, прижавшейся к обочине
лесной. На фоне шелеста сырых
берёз и клёнов – блеснёт стеклом слоёным водоём
и понесёт тебя за угол дома. Дай сил не стать
мишенью для клевца – впросак попасть
застуканным на месте – считать
до ста, заучивая песню. Пока вокруг не рассекретят
блеф – притворствуй, будь похож на реверанс,
на камушек в расстёгнутых сандалиях —
дай сумеркам унять твою фигуру:
лес Пьяный, как заполненный сервант – сверкнёт и
обовьёт мускулатуру. Кто вышел из игры – тот
херувим с распахнутым во рту собачьим
лаем – здесь в сетках панцирных
и свита, и звезда: кто проиграл,
тот больше не играет, но
ловит дым и чует
–
провода.
Зелёная лестница
Согнётся в три погибели предел – из высших сил
в пейзаже только море – Кассандра шар из
хрусталя катнёт – а он пологий, будто
торс героя, сжимающий себя
в водоворот. За ним след в след торопится пурга
и по-собачьи встав на четвереньки: то лает,
то к ноге покорно льнёт, то в сторону
предательски рванёт – собою
–
подытоживать
ступеньки.
Урок физкультуры на лоне природы
I.
Лесной сатир в нём шорох ели – двойная дудочка
тепла, у нимф тягучие постели из листьев,
вереска и смеха – в них каждый
новый гость – игра, для
продолженья общей цели. Висят кривые зеркала
и ждут, пока взойдёт мицелий, чтоб снять
с лица земли печаль – обратный
градус равновесия – он,
как двуручная печать из шарикообразной взвеси:
качнётся в сторону любви – где на весах в
обнимку двое – их воздух станет
уязвим, раскол и пяточка
II.
героя. А дальше – липкая услада, перетекающая в
твердь – тропинки, лесенки, ботсада – где
начинают каменеть – то плавная
рука девичья, то бледный
юношеский торс от неспособности к двуличью. По
лепесткам гадальных роз ты часто видишь,
что ослица привозит в дом среди
зерна колоду карт: на них
есть птица, есть серп ручной, есть голова, зажатая
между коленей, как будто винограда гроздь
повесил Пан на рог олений, чтобы
затем пройти насквозь. Не
III.
задевая свой же голос, не разделяя с кем-то плоть,
на выпавший случайно волос садится яркий
мотылёк, и тень свою опережая на
срез трехмерного крыла, он
воздух хоботком сжижает и ждёт пока встаёт зима.
В нём золотой озноб клубится – разъятый в
сумерках нектар – над атмосферой
брызжут птицы, срастаясь с
каплями воды и тем, что происходит снизу – а там
Деметровы сыны сжигают нёбо антифризом
вокруг заснеженных дорог. И слышно,
как играют фолк на флейтах
IV.
праздные сатиры – то прыгнут, то столкнутся лбом
друг с другом, как две чашки чая – врастая в
противоположный смех и /да/ от /нет/
не отличая, становятся одним
и тем же. Прыжок, ещё один прыжок докуда ноги
успевали – ты вдруг запомнил навсегда тот
день и час в спортивном зале, когда
из конского седла торчат три
чёрненьких копыта – и сажей их спина набита – и
голова в разбег вросла. А над четвёртым —
страх кружится и взмокнет майка на
бегу – кивнёт над дамой треф
IV.
ослица – превозмогая немоту и натяженье губ на
пропасть между словами и свистком – туда,
куда врастает лопасть от заводного
светлячка, не добежать и не
допрыгнуть – сыра земля лежит костьми, и только
катафоты рыбьи – чешуйками вокруг хвоста,
сверкнут волнообразной зыбью и в
воздухе мелькнёт /на старт/.
Рукоплескание и дорожка – взаимность и земной
предел, под саженец найдётся клумба: боль
неизбежной тишины для отрицания
поклонниц – в твоих ногах —
V.
разъём длины и язычки церковных звонниц. Шум
отвлекает от всего, но прежде от забвенной
страсти – разоружённый глазомер не
в силах превзойти себя, пока
не зацветёт подснежник – на что ему твоё тепло и
платьице Святой Марии – с тобой взаправду
говорили сквозь запотевшее стекло? А
кто пройдёт, тот сразу в дамки —
не меньше, чем на целый год – сочится на берёзе
ранка – раскрытая порезом жалость, весна
губами к ней прижалась и пьёт во все
тринадцать ртов, не отзываясь
VI.
на пароли. За ней встает тот, кто готов, набрав от
птиц бесцветной крови – не спрятался, сам
виноват, сужается до мушки взгляд —
летела и упала навзничь, как
связанный болотным дном, числитель – всплеск
спортивных разниц – кто следующий, а кто
потом? – но всюду праздник тишины,
что ни лицо – оплошность бега,
вершки от войлочного снега. И привкус сахарной
слюны стекается со всей округи, не угадаешь
наперед – чей голосок тугой, упругий
в прыжке кузнечика всплакнёт.
Продлёнка
Выиграть в продлёнку – как будто попасть в молоко
две женщины в белом плывут, так похожи на
льдины – распахнутый полог халата —
дрейфующий остров Седов:
не мачты лоснятся – зенит апельсиновых рощ – где
ты налегаешь украдкой на нож перочинный,
а он начинает шипеть, точно сумчатый
ёж. И пяткой холодной зажав
молчаливую страсть, ты буковку режешь на дереве,
будто Мадонну: в разрезе звезда и колени, и
розовый пот, под лезвием пятится май
шахматистом и псом – Персей
вызволяет из тучки медузу
Горгону и валится с
ней заодно в
–
рукотворный
проём.
«Ты скажешь слово /стоп/, и – шаг от шага – неотделим…»
Ты скажешь слово /стоп/, и – шаг от шага – неотделим
присяжным большинством, на счётных палочках
для детского сложения – в пластмассовой
коробочке билет, в ту часть тебя,
где скорость
отражения – похожа на складной велосипед, который
бегает вокруг своей оси. Разряжен воздух – тают
в лужах льдинки, и на реке – игрушечный
буксир уподобляется виниловой
пластинке.
Пионерия
Лишь заповедь скользнёт звездой и стройкой
пионерской – салют – как олимпийский
диск, метнёшь наискосок, и тут же
пот шумит в кистях – он сок
берёзок Энских – восьмую часть своей любви
складируя в песок. Так, огибая шумный
строй, куда бы возвратиться, когда
повсюду вязкий гипс плюс
выкройки вождей – где жест и голос
разнеся по Брадиса таблицам,
свой стрём опередивши
сам, становишься
–
грубей.
Ледяной воронок
В этом городе минус четыре и медленный снег,
твоя прежняя тень, закуток с телеграфною
лентой – болтовня и распущенность
ангельских мраморных век —
половина адамова
яблока взята взаймы – я пытаюсь отнять от себя
высоту шведской стенки, зарастающий над
головой голубой Измаил. Этот выдох
церковный и голый анисовый
свинг – заповедных
проталин упрямое женское буйство, с полтычка
в каждый выпуклый свист умещается змей
или вязкая до невозможности заячья
капуста – безударная гласная
зимних пшеничных
полей. Хоть негромкое скажешь /Ау-у/, набежит
теснота, будешь мёртвым лежать и крутить
золотыми часами – извивается город
и блещет во мне тишиной – но
вокруг всё лоснится
и в руки бежит соболями – чтобы сделался голос
привычный нечестной игрой. Звонкий Фавн
семенит, испугавшись следов на снегу,
сквозь еловые пальцы ветвится
симфония Брамса —
пусть распилена надвое в ней винтовая резьба —
ледяной воронок – пожелавший ничейным
остаться – как случайно возникший из —
под сомкнутых снежных гардин
–
кегельбан.
Украдка Флоры
А. В.
Я плетусь за тобой, ну а мы не танцуем, две короткие
ветки впотьмах дырявят солнечный лоск – здесь
кокетство становится к северу ближе, чем
ягель. Над моей головой загорается
изгородь краденых роз
и рассыпанный ягодой волчьей густой пионерлагерь.
Это смерть выдыхает Минерву в стальное копьё,
когда дети несут хоронить за сарай попугая,
кровь завязана в узел, как если гудит
окоём или тянется под
языком полоса беговая. Шуткой вызволишь девичий
запах – срастётся ковёр, так похожий на блудное
веко и праздничный веер – лечь на месте и,
страх вспоминая, дразнить его ртом —
перекрёстным огнём и
резным сарафаном каштана – но тянуться
за ним и бежать по стеклу босиком,
керосиновой плёнкой сверкая
сквозь глаз Левитана.
«Здесь город – кружево и лёд, комок в утином горле…»
Здесь город – кружево и лёд, комок в утином горле,
ни колокольчик потайной, ни хрупкое вино —
пройтись и повернуть назад, где не
дышать над кровлей – и
видеть – как врастает снег в чердачное окно. Стоять
впотьмах, покуда свет не выбьется наружу —
в полночной пазухе торчит воронье
крыло – и к твоей шейке
примерять мерцание жемчужин,
и выдувать из тишины
муранское
–
стекло.
Часть вторая
[ты]
Каштанка
Ты голосуешь на улицах в поволоке блатных фонарей:
город встал, город лёг, город спрятался под
одеялом, где завёрнуты войлоком
смежные выемки ног —
котлованов, градирен, подъездов. Маскировалась эта
участь бездомных с иллюзией лишней ноги,
чтобы быть налегке, чтоб на ней же
чеканить припляску, но
просыпалась сверху жаровня египетских гемм: пируэт
соскочившей, с бревна, 8-битной гимнастки.
Ночь растянута в почве проворным,
гороховым рвом, вместо
глиняных срезов – подмёрзшие ряжские
лица – в их глазах загорается тихая
лампочка-дом, и билет спорт
лото начинает совать
–
продавщица.
Стрелок
Здесь всё поставлено на карту – не выиграть, но скостить
усталость: ты ляжешь, а вокруг белым-бело – весь
снег похож на волосок – на перепрятанную
шалость – ягнёнок, завернувшийся
в руно. Погонишься
за ним сквозь сон – а он тебя шутя стреножит и свистнет
в свои тридевять зубов, копытцем цокнет удалым —
упором звонких цветоножек, лесных пионов
яблоком тугим – пей воздух синий —
пей морскую гладь —
дыхнёшь на узелок солдатской меди
и будешь спозаранку голодать,
кружась по взморью на
–
велосипеде.
Переживание высоты
Сквозь трещину бумажную в крыле ты видел
свет, и свет кипел в тебе, как в детских
пальцах ровный лист бумаги,
себя перерастающий
извне. А дальше
в нём двоится тишина – грусть неба – камень
твёрдый под подушкой – я выну страх
через иголочное ушко, когда
к тебе приблизится
война. И лязгнет
грай из треснутого неба – по каплям вниз
спадает молоко: звенящий полдень
дышится легко, там – где ты
есть и где ты ещё
–
не был.
Зелёное
Воплощайся, как можно скорее, в дубовом ребре,
в эти летние вылазки из абрикосовой пыли:
отражение рыбы маячит в зернистой
икре – ну а наше с тобой – мы
друг в друге всегда находили. Встав на цыпочки —
шорохи улиц – игристый мускат, разменяю
на цацки и юность фигуру фасада, где
над каждым висит подвесная
звезда-халифат, ну а нам всё рисуют – мол, корни
плодового сада. Они честно влекутся сквозь
изгородь хвойных досок, и павлиньих
утех доставая кривую отмычку,
чтоб вдохнуть этот жар – этот воздух с разминкой
для ног – пламенеющий в розовых яблонях
шведскою спичкой. Под шумок, здесь
наслушаться распрей журчалок
ручных – и вытягивать пёстрый
ландшафт, как цветок из
букета, и нестись
стороной,
огибая ничком часовых —
опасаясь разъятой
земли и её
–
рикошета.
«Сквозь дух фарфоровый и родинку на мне – вся…»
Сквозь дух фарфоровый и родинку на мне – вся
эта музыка и дно кофейной чашки – живая
болтовня в шальных кустах – пиджак
сорвёшь с себя и нараспашку,
чтоб синева дрожала на мослах. А в ней лесных
цветов наперебой – и красота, и жилистая
тяга – пестрят и тетивой друг дружку
жмут: в них мельтешат кресты
морского флага и
глянцеви́тый
зоркий
–
перламутр.
Цветочные войны
Мы собирались быть обезоружены, мы две пчелы
среди цветочных вкладышей – зависнем над
эмалевой приманкой, телевизионным
диктором в очках, а на экране —
танки, танки, танки и пионеры в гипсовых значках.
Свобода – зло в бумажном самолётике, когда
под ним в траве лежат солдатики – они
дошли до свадебного марша, но
обнаружили вокруг Цхинвал, и часто из пылающей
купальницы мы их не видим, а они нам машут
и руки берегут для поцелуев – чтоб руки
бог войны поцеловал. Где солнце
в полночь сложится в коробочку, переодевая всех
своих сожителей, по угольку из красной пачки
Прима на повседневное лицо надев, тут
молча кровь растёт, как лестница,
из йода, войлока и дыма и за собой уводит в небо
Александрийский барельеф. На униформе из —
под пуговиц не видно родины и родинок,
замаскируй свою бессонницу, как
будто новобрачный шарм – густые, белые акации,
а между ними птичьим килем – укромным от
облавы ножичком – располосована душа.
И тут бы мне с тобой заигрывать у
летней, стекловидной гавани – из пемзы и слюны
выкатывать поочередно связки бус и слушать
привозное радио, где под ногою клумбы
примул мерещатся губами яркими,
как сарафаны
à la russe.
Январь
Зима, разъятая печаль на стопке белых полотенец
в груди с кусочком сургуча – так птичий глаз
себя сжимает втрое, когда впритык
подходит янычар и держит
меч стеклянною рукою. А лес вокруг то бредит, то
скулит, уснувший стоя, будто куст полыни, и
спинами продольными скрипит – в
них трутся – друг об друга —
птичьи рёбра, не замечая
первородный стыд,
но чувствуя,
что их
–
располовинят.
Портрет
В. И.
Сколько раз я смотрел на твоё лицо – видя в нём
алфавитный ряд – обезвоженных глиняных
изразцов, пристыкованных к букве
/Я/. С равнобедренным
пузырём в груди – так похожим на видик Sharp —
мне б в гляделки хотелось сразить мудил —
как Персей. Сапожок ножа глубже
деревце чувствует, чем
свою ветвь, подставляя к нему живот, из которого
падает то ли медь, то ли юность, и для сирот,
нет бескровней и ближе тех имён —
трафарет выбирает сны —
что приходят из памяти. Окоём бередит кустовая
сныть, в ней густеют прошедшие даты дней —
потеряв календарный счёт, где над
ним всё будёновцами в
ружье – семенят облака. Совьёт безголосая птица
себе гнездо, где-то рядом с тоской в глазах —
чтоб гонять в нём по кругу своё яйцо
и шарманкой скрипеть в
–
зубах.
Allegri
Где неба край, задетый за живое – откинутый в
костюмах Аdidas, за воротник заложенная
память о тех, кто налегке прошёлся
здесь – оставив тень свистеть
между домами и воздух целовать, пока он есть.
Стрельнуть Родопи у временщика, печаль
забыть и выпустить орлицу, крылом
её переодевая смерть – где за
собой проталины расставить, чтоб падать в них,
как в мраморный карьер. Зацепишься, что
тоже не ахти, сгибаясь виноградною
улиткой – свой мизерный уют
спиной блюсти – сворачивая Божий дар
в спираль, и над собой в лиловых
маргаритках – расслышать
плач и заспанный
–
рояль.
«Так отчётлив твой лоск за окном и коробочка…»
Так отчётлив твой лоск за окном и коробочка
крашеной жести – растрясёшь втихаря
и соблазном собирается липкая
дрожь. И ведёт разговор
ни о чём, и на кровельном дышит насесте, и
бренчит – как когда-то бренчало в руке
монпансье. Шевельнёт язычком
портсигар, и гвоздиками
щурится Chester – сквозь
дымок так похожий
на пляски в
гремучей
змее.
Спетое солнце
I.
Изношенное тело теребя, сквозь клюв скрипя
одышкой омертвелой – два кенаря в
листок календаря сворачивают
выигрышные ноты, одна
к одной, как зрелое пшено – кристаллик соли
на спине у Лота – внезапное родимое
пятно. Остаток дня и солнечная
Cava – непостижимая ни
II.
чьим умом печаль, и в клетке цепкой голосит
фонарь, подкидыш угасающей звезды:
шесть лепестков поверх гульбы
надеты – один, два, три,
четыре, пять и ты. Октябрь мой – сдай злость
морской игрушке – фрагментам почвы
с дырками во лбу – над головой
бандитская хлопушка из
III.
пестрых цацек с женского лица – последний
вдох отыгранной гастроли, где облака,
играя вражьи роли, сжимаются
до трезвого гайца. А звук
из клюва в клюв снуёт треской, превозмогая
чаевые сны – поддужный колокольчик,
зев весны – сворачивает не на ту
дорогу – весь щебень, то
IV.
и дело, схватка птиц – фотограф разомкнёт в
кустах треногу – чтоб /на слабо/ ловить
шальных девиц. И дым сплошной,
ковёр из мелких взвесей:
то танцы, то рассерженная кость – Лот через
чёрный выход Поднебесной – выводит
ворошиловских стрелков: эстрада
с кенарем – Дж. Кеннеди
без песен и розовые
радужки
–
зрачков.
A188
Ночь – твой парик парадный – крот и власть, когда
гудят последние водилы, их толчея – зубных
коронок масть, нашитая на крепостные
рвы – где чернозём и чашечки
пионов, величию ландшафта вопреки, вплетаются
в излучины Годивы. Бегут toyotы наперегонки,
по одиночке щурятся друг в друга – под
зеркалами пляшут шутники, но
водят дружбу с замершей водой – стой где стоишь,
ни выдох, ни обман, лишь только бурый уголь
нерестится густеющей слюдой в ночной
туман. На фурию похожа эта явь,
у ней поджилки из толчёной сажи – распущенный
табун гнедых кобыл скользит жгутом и силой
по асфальту, чтоб тут же стать кедровою
смолой – здесь в чёрствых лузах
краденая смальта —
то зарябит, то
выгорит
–
травой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?