Текст книги "Нрав и права"
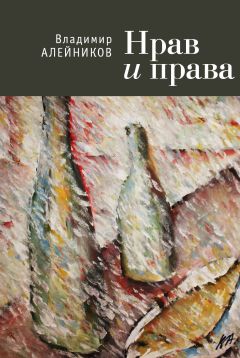
Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– А вот это для нас!
Мы с Довлатовым переглянулись – и тоже, примеру Зверева последовав, закурили.
Сергей с интересом рассматривал Зверева.
Толя это заметил – и тут же, с восхитительным, врождённым, – дающим фору любой театральной школе и, прежде всего, системе Станиславского, что всегда, в любой ситуации, при любых обстоятельствах, в любом его состоянии, каким-то весьма странным, забавным образом было связано у него с реализмом вообще, с этаким широким понятием, включающим в себя всё то, что слишком легко пересказать, растолковать, и, следовательно, маловато, увы, всего ничего, так, немножко, не всякий заметит, в микроскоп, видно, лучше глядеть, было в этом фантазии, тайны, вдохновения, импровизации, откровения, блеска, полёта, – артистическим, так, что роскошен был этот высший его пилотаж, не к семи небесам, так сквозь явь, к чудесам, на высоких тонах, мастерством, – сделал вид, что ничего такого не замечает.
Это он – лучше многих – умел.
Я не знал, чем потчевать стану колоритных моих гостей.
В доме было шаром покати. Все имевшиеся запасы рядовой, в эпоху бесчасья, и весьма кондовой провизии – (слишком громкое слово: запасы, и куда скромнее: припасы, – ближе к истине, к жизни ближе, – ну а если уж называть именами своими вещи и понятия, то, скорее, просто – некоторые покупки, наспех сделанные накануне в магазине ближайшем, то есть – заурядная, грубоватая – хлеб, консервы и колбаса – быстро, дёшево – пища наша, уж такая, как есть, мужская, без каких-то там разносолов несусветных, именно та, о которой, пусть с запозданьем, вспоминали мы все иногда, понимая: нужна еда!) – мы с Довлатовым уже съели. Всё, что мы покупали недавно из спиртного, мы уже выпили.
«Даже курева нет!» – подумал я с возрастающим огорчением.
Зверев, интуит поистине феноменальный, словно прочитал мои мысли.
Невозмутимо, преспокойно, поглядывая на меня сощуренными карими глазами сквозь сладкий дымок редкостной тогда заграничной сигареты, он снова полез куда-то к себе за пазуху – и вытащил оттуда, как фокусник, целый нераспечатанный блок сигарет «Кемел».
– Алейников! – сказал он по-дружески просто: – Дарю!
И протянул мне сигареты.
Я даже растерялся:
– Ну, спасибо, Толя!
Зверев хмыкнул:
– Бери. Чего там!..
А Довлатов сказал:
– Чудеса!
Зверев тогда взглянул на него и сказал:
– Чудес ещё не было!
– Неужели? – спросил Сергей.
– В самом деле! – ответил Зверев.
И, тряхнув головой взлохмаченной, вдруг торжественно возвестил:
– Начинаются чудеса!
(И что-то произошло. Я это вдруг почувствовал. Что-то случилось. В мире что-то слегка изменилось.
В зеркале, тусклом доселе, я уловил какое-то движение, мановение чего-то, блеснувший свет, и за светом – призывный звук, и за звуком – не отражение, но присутствие чьё-то странное, – и мелькнуло там карнавальное, вместе с музыкой, тихо веющей из неведомого, извне, в масках, в блёстках, в сплошном движении, вкось, и в даль, и по кругу, шествие, – ирреальное действо, явленное просто так, от щедрот, наверное, неизвестно чьих, но, конечно же, предназначенных лишь для нас, – отзвук таинства драгоценного, призрак празднества дерзновенного и присутствие несомненное вдохновенного волшебства.
И возникло тогда лицо в глубине зеркальной. Знакомое. Я вгляделся пристальней: он! – это он, Федерико Феллини! Режиссёр кивнул мне. И я почему-то кивнул ему. И припомнил: семь лет назад, появившись в Москве, Феллини познакомиться пожелал непременно – со мной и с Губановым. Но обоих нас не нашли. Был я изгнан – за СМОГ, за то, что поэт я, – из МГУ. И работал тогда в экспедиции на Тамани. Так что меня днём с огнём найти не могли. А Губанов – лежал в дурдоме. И оттуда его никто никогда бы сроду не вытащил – слишком он глаза намозолил разозлившимся не на шутку на содружество наше славное, задавить нас решившим властям. И Феллини с обоими нами повидаться, увы, не сумел… А теперь вот – сам появился. И не где-нибудь. Именно в зеркале.
И Феллини взмахнул рукой – и сейчас же рядышком с ним, с серебристой трубой, прижатой к плотно стиснутым, узким губам, появилась Джульетта Мазина, улыбнулась одними глазами, дружелюбно кивнула мне – и немедленно заиграла на волшебной своей трубе.
И тогда – в магической глуби, в сердцевине бездонной зеркальной, где-то там, за семью дверями, распахнувшимися в просвет между прошлым и тем грядущим, что настанет когда-нибудь, в настоящем, таком же явном и таком же отчасти сказочном, как и прошлое, и грядущее, за которым другое прошлое и другое совсем грядущее с настоящим другим встают, – я увидел, как, чередою, друг за дружкой, под властью чар, их собравших всех вместе вмиг неизвестно зачем, прошли в даль куда-то мои друзья:
Ворошилов, длинный, сутулящийся, в коротком, выше колен, демисезонном пальто, продуваемом всеми ветрами, с носом ласкового зверька, с проникающими за грань состояний, любых, и времён, века, года, бесчасья, духа, в круг вселенский, в баховский хор, зреньем внутренним наделёнными, удивительными глазами, вечный воин, великий художник, собеседник, провидец, бродяга, в путь ненастный вышедший снова, чтоб за ним озаренья ждать;
Яковлев, кроткий голубь, ребёнок и мудрый старец одновременно, страдалец, гений полуслепой, с одиноким цветком общающийся на зелёном пустынном поле, с высотой у окна художника беседующий до зари, городской затворник, трагический летописец души мятущейся, в небесах сдружившийся с Ангелами, в мире этом один, как перст;
Зверев, буйный и проницательный, сверхъестественный в редком даре создавать небывалые празднества, что ни шаг, что ни жест, что ни взгляд, рассыпать щедроты, раскидывать, разбазаривать, перебарщивать, зарываться, срываться, мучиться, но самим собой быть всегда, на упрямстве, сквозь беды, сызнова подниматься из тьмы, выстаивать, выходить на свет, к сути, к радости, чтобы явь свою познавать;
Беленок, любитель восторженный Сен-Жон Перса, Мишо и Джойса, ну а также любящий, выпив, украинские песни петь, парень сельский из-под Чернобыля, прозорливец, в своих работах предсказать сумевший и выразить весь распад грядущий, последовавший за Чернобыльской катастрофой, непомерно худой, высокий, вечным юмором защищающийся от безумия бытия;
Данильцев, умница, славный поэт, прозаик, художник, для всей золотой богемы попросту Леонард, в дружбе с музыкой, в ссоре с веком, одинокий везде и всюду, гордый рыцарь, друг благородный, понимающий, как никто смысл искусства, дыханье слова, силу света, хранитель речи, в битвах с ложью, во имя правды, закаливший свой дух живой;
Довлатов, почти двухметровый детина, душа компаний, прирождённый рассказчик, охотно, лишь бы выпить и поговорить, на любые готовый подвиги и к любым, бесчисленным, встречам, потому что это и был пресловутый материал для него, писателя, всё-таки, сквозь мученья, себя нашедшего, человека литературного, для которого «явь – это явь».
Ерофеев, русоволосый, чубатый, с похмельным блеском в глазах, примечающий всюду выверты и причуды житухи режимной отечественной, отмечающий для себя в записной истрёпанной книжке всё, что может вполне пригодиться для работы, но что-то не больно-то трудолюбием отличающийся, потому что он с севера, что ли, или в мире полно алкоголя;
Губанов, дворовый подросток вечный, на грани безумия норовящий видеть реальность глазами духовными, знающий о себе, что он – на потом, что его изумительный дар сбережёт его, вывезет сызнова из любых историй отчаянных, до поры, конечно, до времени, видно, свыше ему отпущенного, до его тридцати семи;
Пятницкий, чудный, тишайший Пятница, дивный художник, измождённый, во власти наркотиков, но всегда сохраняющий ясность проницательного ума, ясновидец, способный выразить даже облик невыразимого, тонкой стрункой звенящий песню о таинственном и прекрасном, тихой свечкой горящий где-то в темноте прокуренных комнат, в полумгле бестолковых лет;
Величанский, честь и хвала всем тем, кто в этой жизни обрёл и защищает Фермопилы, как сказал он в своём переводе из Кавафиса, принципиальный и прямой, повелитель слов, собравшихся в хронику времени, ну а может быть, и бесчасья, затянувшегося, увы, в наши годы до безобразия, человек отчаянно-светлый, до сияния впереди;
Холин, в очках профессорских, ироничный, солидный, высокий, наблюдательный, не без яда, и всегда себе на уме, комментатор барачной реальности, то есть подлинной ирреальности, среди бреда, грязи, абсурда сохраняющий невозмутимость и своё-то уж дело знающий хорошо, получше других, с горсткой средств простых достигающий выразительности максимальной;
Сапгир, усы отрастивший, вальяжный, подвыпивший, благостный, компанейский, но и умеющий работать, писать успевающий, в промежутках между загулами и сборищами богемными, стихи для детей и пьесы, для заработка, и взрослые стихи свои, не для печати, для чтения в узком кругу, для хождения их в самиздате, мастер Генрих, марьяжный король…
И виденье – пропало. В зеркале больше не было ничего.
Но потом отразился в нём – восхитительный Толя Зверев.)
И так артистично, что подобное сроду больше нигде не увидишь, Зверев, увлёкшись и войдя в роль, разыграл перед нами – на пять с плюсом, по его выражению, в тех случаях, когда что-нибудь ему действительно нравилось, и он его так оценивал, так вот, арифметически, по-школьному или по-зверевски, выражая своё одобрение, искренне, тут же, хвалил, – целый фантасмагорический спектакль.
Для начала он достал из кармана так им до сих пор и не снятого плаща бутылку «Столичной». И поставил её на стол.
Потом, из другого кармана, попыхтев, извлёк бутылку «Московской». И тоже поставил её на стол.
Далее, с деланным покряхтыванием, вытащил он бутылку «Перцовой». И поставил её на стол, рядом с предыдущими бутылками.
Затем он вытащил на свет бутылку «Горилки» с плавающим внутри красным перцем. И присоединил её к прочим бутылкам водки.
После этого полез он в следующий карман и вытащил оттуда одним ловким движением сразу две бутылки армянского коньяка. И тоже поставил их на стол.
Следующими его действиями были: извлечение из всяких карманов, из-за пазухи, да и просто из складок одежды – двух бутылок белого сухого «Цинандали», двух бутылок сухого красного «Саперави», двух бутылок сухого «Гурджаани», двух бутылок белого портвейна, двух бутылок портвейна розового, двух литровых бутылок итальянского вермута, одной трёхлитровой пузатой бутыли «Гамзы», одной литровой бутылки виски «Белая лошадь», одной бутылки кагора, одной бутылки ликёра, трёх бутылок чешского пива «Старопрамен», трёх бутылок «Рижского» пива, трёх бутылок пива «Московского», трёх бутылок пива «Жигулёвского», двух бутылок минеральной воды – «Нарзана», двух бутылок минеральной воды – «Боржоми», двух бутылок минеральной воды – «Бжни», двух бутылок лимонада.
И после всего этого, порывшись основательно глубоко за пазухой, вытащил он оттуда и бережно поставил на стол рядышком с прочими бутылками – скромную чекушку водки.
После чего перевёл дух.
Потом спокойно сказал:
– Это ещё не всё!
И вновь началось представление.
И вновь началась процедура извлечения из карманов и прочих таинственных недр заграничной его одежды уже не выпивки, но самых разнообразных, – выбранных прихотливо, затейливо, кучеряво, с причудами и с прикидками на будущее, с оглядкой на прошлое, с трезвым расчётом и буйной весьма фантазией, как всегда у него бывало, что бы он покупать ни надумал, при любви его к импровизации, к парадоксам и к переборам, при его-то воображении, с перехлёстами, с перегибами, с недомолвками, с прибаутками, с поучениями и притчами, с разговорами в рифму, с трактатами на любую тему, с цитатами, из себя, да ещё из Гоголя, да из Лермонтова порой, с постоянной его игрой, то с огнём, то с самим собою, то с ментами, а то с судьбою, с неизменным присутствием творчества, с ощущением волшебства совершенно во всём, что делал он, что творил, миры создавая, по наитию, из ничего, чтоб осталось в них всё его, – продуктов питания.
Достал он и выгрузил на стол, одно за другим, следующее: две буханки чёрного хлеба, две буханки белого хлеба, один килограмм грудинки, один килограмм корейки, один килограмм ветчины, один килограмм колбасы «Докторской», один килограмм колбасы «Краковской», один килограмм сыра «Голландского». один килограмм сыра «Рокфор», один плавленый сырок «Дружба», четыре баночки шпротов, четыре баночки сайры в масле, четыре баночки кильки в томате, две баночки майонеза, две баночки горчицы, две баночки хрена, две пачки сливочного масла, одну пачку индийского чая со слоном, одну пачку чая цейлонского, одну пачку чая краснодарского, одну пачку чая грузинского, одну пачку молотого кофе, одну пачку какао, один килограмм сахара, одну пачку соли, одну пачку печенья, один большой тульский пряник, один бублик, одну баранку, один сухарик, одну шоколадку, одну карамельку, один леденец на палочке, два апельсина, два мандарина, четыре лимона, три яблока.
После чего произнёс:
– Ну вот. Пока, вроде, всё…
Я спросил волшебника-Зверева:
– Как ты всё это довёз?
Он ответил предельно кратко:
– На себе! – и прибавил, для ясности, как всегда, – и ещё – на такси!..
Потом шагнул к столу, на котором громоздились батареи бутылок и груды продуктов.
Не обращая на всё это богатство ровным счётом никакого внимания, потянулся к чекушке.
Открыл эту крохотульку с водкой.
Плеснул водки себе на ладонь. Вымыл водкой руки.
Плеснул водки себе на голову, на лицо. Умылся водкой.
Плеснул побольше водки себе за шиворот, за пазуху. Похлопал себя по шее, по груди. Так он делал себе профилактику.
Остаток водки выпил одним глотком, прямо из горлышка.
Поставил пустую чекушку на пол.
Поглядел на меня действительно усталыми глазами.
И сказал:
– Володя! Поживу я у тебя. Ладно?
– Да ради Бога, живи, Толя! – сказал я. – Сколько захочешь, столько и живи!
Зверев опять поглядел на меня и на Довлатова:
– А вы ешьте, ребята! И пейте. На здоровье. А я отдохну.
Он поискал глазами, куда бы ему прилечь.
– Вкалывал много! – пояснил он, зевая. – А это всё, – указал он на стол, – за работы мои. Остальное, – тут он порылся в карманах и вынул оттуда смятую пачку денег, повертел её в руках и сунул обратно, и прихлопнул её ладонью, – остальное, – продолжил он и опять устало зевнул, – остальное, ребята, потом!..
– Да ты приляг на тахту! – сказал я ему. – Вот здесь.
– Нет! – ответствовал Зверев.
– Тогда на другую тахту приляг!
– Нет!
– А где же ты ляжешь?
– Вот здесь!
Зверев достал из кармана сложенную газету, развернул её, расстелил на полу, поближе к тёплой батарее отопления, прилёг на газету, не снимая плаща, и тут же заснул.
Довлатов с изумлением, не произнося ни слова, наблюдал за всем, что происходило на его глазах в моей квартире.
Через две-три минуты, обескураженно разведя руками в стороны, сказал наконец:
– Ну и ну!..
– Это тебе не Питер, – сказал я ему на его «ну и ну», – это, Сергей, Москва. Здесь, у нас, поверь мне, пожалуйста, и не такое бывает!..
– Да, придётся поверить.
– Поверь.
– Понемногу выпьем?
– Давай.
– С чего начнём?
– С коньяка.
– Для расширенья сосудов?
– Именно так.
– Согласен.
И Довлатов открыл бутылку армянского коньяка.
Я принёс к нам в комнату с кухни стаканы, тарелки, вилки, нож.
Привычный набор – для выпивки и закуски. Чтоб всё у нас было как у людей. Без излишеств и всяких красот. Самое необходимое. Неторопливо расставил всё это на столе.
Отрезал нам по ломтю свежего белого хлеба, немного грудинки, так, для начала, – пока что хватит. Остальное – потом. Осилить все припасы мы не сумеем – ни вдвоём, ни втроём – вон их сколько! Накормить можно всю нашу братию. Да ещё и останется что-то. И провизии, и питья столько, что вспоминаешь невольно послушного джинна, готового по велению твоему принести тебе что угодно, и волшебную лампу, конечно, и немало ещё чего, из восточных сказок и русских, из любых, в них вдосталь чудес. А у нас был волшебник свой – Зверев. Он все припасы принёс. На себе дотащил сюда. Чародей наш богемный. Он понадёжней Али-Бабы и получше любого джинна!.. Размышляя об этом, я поглядел на Толю, сощурясь. Тонкими жёлтыми ломтиками нарезал один лимон.
Сергей, наклонив бутылку, привычно разлил коньяк, причём, подчеркну сознательно, сделал это умело – каждому вышло ровно по половине стакана.
– За выздоровление?
– Да, давай за здоровье.
Чокнулись. И раздался звон. Почти колокольный.
Выпили. Дело нехитрое, знамо. Вроде пошло.
Закусили. Чем Бог послал. Потому что закусывать – надо.
Зверев лежал на газете и безмятежно спал. Спал – как дитя. Хотелось так почему-то сказать. Почему? Да кто его знает! Можно сказать и так: словно воин – после сражений. Богатырь. Вот-вот. Из былин. После подвигов. После деяний. После странствий по белу свету. После всяких борений с навью. Спал – и всё тут. Свой сон – заслужил.
Мы ему спать не мешали. Целебен, священен сон. Сон – это явь иная. Нити наитий – там. Корни событий. Узлы судеб. Связи незримые. С миром. Со всей вселенной. Сном живущий силён.
Был он спокоен и как-то светло и празднично тих.
Находился, вконец измаявшись, опять у друзей. У своих.
После всех предыдущих трудов и метаний в такси по Москве можно было и отдохнуть наконец – просто взять да уснуть.
Вот и спал он. Под батареей отопления. На газете.
Человек походный. Бывалый. Не впервой. Ничего. Привык.
Спал – как пел. Значит, надо было. Спал – и всё. Восстанавливал силы.
Утро уже прошло. Прошло – само по себе. Потому что нельзя ему было не пройти. Всё проходит в мире. Всё. Всегда. Вот и утро – прошло. Вслед за ним ушли навсегда наши страхи, сомненья, мученья, наши вздохи, мечты, огорченья. Только жизни речное теченье, к нам придя, не ушло никуда.
Время – то, о котором сказано было верно, что это сама материя, формы свободно меняя, сущность свою сохраняло, то есть шло по своим законам или вне законов, по-своему, по собственным стёжкам-дорожкам, по маршрутам незримым своим, так, как заблагорассудится ему, – и к полудню близилось.
Мы с Довлатовым потихоньку беседовали (в тишине и спокойствии, ощутимых столь отчётливо в однокомнатной, тесноватой моей квартире, что, казалось, она взывала иногда ко мне: погоди, я с тобою, побудь ещё здесь, успеешь ещё уйти и расстаться со мной, увы, безоглядно и навсегда, чтоб скитаться незнамо где целых долгих семь лет, бездомничать, без угла своего, без крова, я с тобою, не уходи!) – и не спеша, с каким-то пронзительным осознанием всей доброты человеческой и небывалости редкостной событий нынешних, тех, что прошли, и тех, что грядут ещё, выпивали, не забывая, – вопреки привычкам дурацким, повсеместным и узаконенным, слишком сильно укоренившимся в нашей прежней, отзывчивой, редкостной по числу дарований, среде, добывать побольше питья, экономя всегда на еде, то есть, прежде всего, что ж поделать, на самих себе, чудаках, большей частью полуголодных, ради хмеля, а то и кайфа, пусть и так, – на сей раз и закусывать.
И не только, признаться следует, – (по прошествии стольких лет, как и в тот незабвенный день, день осенний в году високосном, целых тридцать два года назад – бывшем, явном, ну а теперь существующем только в памяти), – состояние наше, прежде, что таить, совсем невесёлое, но и общее настроение вдруг заметно у нас улучшилось.
Да и как ему не улучшиться, когда всё у нас под рукой!
«Ну и ну!» – как сказал Сергей.
«Хрю!» – как сказано было Зверевым.
«Это, Сергей, Москва!» – как сказал я недавно Довлатову. Словом, рай, да и только. Пусть временный. Пусть московский. Но всё-таки – рай.
На столе громоздились, дыбились, образовывали хребты, расползались с вершин лавинами, устремлялись сквозь потолок в небеса над округой сирой горы, видимо – те, златые, из народной песни, желанные, – горы самой разнообразной, для лукулловских, знать, пиров, для разгульных варварских пиршеств, для библейских трапез в роскошных, полных неги, царских покоях предназначенной, не иначе, ну а может, фламандской, рубенсовской, небывалой какой-то еды, за которыми различались реки – тоже из песни, полные, как известно, вина, – в нашем случае – изобильнейшего питья.
– Надо бы нам разобрать эти завалы! – сказал я, глядя на все припасы, как на некое чудо света, неизвестно какое по счёту, да не всё ли равно, поскольку было явлено всё нам сразу, и его принимать приходилось уж таким, каково оно есть.
– Хотя бы частично! Попробуем! – оторвавшись от созерцания раблезианского, зверевского, дива дивного, чуда привычного, рядового, без всякой помпезности, для него-то, способного часто и на большее, (да, бывало и такое, и если я расскажу об этом когда-нибудь, то читатели современные, верхоглядные, в основном, ничегошеньки толком не знающие об эпохе былой героической и о людях, в ней живших когда-то, мне, видавшему виды в прошлом, чудом выжившему, седому скифу старому, очевидцу превеликого множества разных, от смешных до трагичных, событий, чего доброго, и не поверят, хотя верить мне следует, ибо я один остался на свете, всё-то помнящий, столькое знающий, говорящий теперь – за всех, в дни осенние, в октябре, в одиночестве и в затворничестве, в давнем жречестве, в светлом творчестве, в ясновидчестве, в добром таинстве, в грустном празднестве речи нынешней, повествующей о таком, что один я помню сегодня, потому и сказать обязан, потому-то, сквозь годы глядя, слыша музыку жизни этой, о минувшем и говорю), – поддержал меня тут же Сергей.
Мы, в четыре руки, вдвоём, проявив усердие должное и довольно быстро, но всё-таки далеко не сразу, не запросто, покряхтев, попыхтев, поохав, постепенно перенесли большую часть продуктов и бутылок с питьём на кухню. Распределили их там: кое-что в холодильник, на полки, чтоб не испортилось, кое-что морозильник, подальше, в запас, на потом, а прочее, из того, что не портится, просто сложили на столе, в настенном шкафу и в других местах, наобум, чтобы всё это нам не мешало.
И вернулись обратно в комнату.
И продолжили наше застолье.
– Желал бы я знать, – сказал, поглядывая на бутылки с разнообразным питьём и на еду изобильную, Довлатов, – как там, за железным занавесом, в зарубежье, с трудом представимом, разве что по книгам и кинофильмам, где конкретно, не всё ли равно, где-нибудь, ну, положим, в Париже, люди тамошние, парижане, и приезжие всякие, – тоже, как и мы сейчас, пусть не всегда, пусть не часто, пусть иногда, так, от случая к случаю, изредка, хоть один-единственный раз, позволяют себе такое – слово просится на язык любопытное, право, – пиршество?
– Понимаешь, – ответил я, – слово «пиршество» – странное слово. Заменить бы его не мешало, полагаю, словом другим, поточнее, попроще, привычнее, человечнее, наконец, ближе к истине, к нашим дням, ближе к нам, ну, допустим – «случайность». Или, вот, это лучше, – «чудо». Нет, не так. Достоверней надо, легче, сказочней, обобщенней. И подходит здесь – «волшебство».
– Понимаю, – сказал Довлатов. – Значит, в дальнем, роскошном Париже – никакого нет волшебства?
– Понимаешь, – ответил я, – волшебство подарил нам Зверев. Для него такое даренье, с давних пор, в порядке вещей. Так устроен он. Вот и всё. И не только он, между прочим. Не один он такой. Точно так же поступили бы и другие, из числа друзей моих. Так же поступил бы и сам я. Думаю, всё ещё впереди у меня. В том числе – и то, что относится, несомненно, к разряду чудес. И, конечно же, волшебство.
– Что же, верю, – сказал Довлатов. – Хорошо. Ну а как же Париж?
– Что – Париж? При чём тут Париж?
– Волшебство в нём – тоже бывает?
– Уж наверное!
– Ты уверен?
– Почему же не думать так?
– Будем верить, что есть в Париже, кроме прочего, волшебство.
– Хорошо.
– Хорошо, конечно.
– Что?
– Да всё. Волшебство. Париж. И Москва с Петербургом. И прочие города и веси. Наверное, там волшебники есть свои.
– Ну а нас, поутру загибавшихся и не знавших, куда деваться, бедолаг, спас волшебник Зверев.
– Это верно.
– Куда вернее!
– Выпьем?
– Выпьем.
– До дна?
– До дна!
– За него, за волшебника Зверева!
– Так вперёд!
Мы с Довлатовым выпили.
Столько выпивки было у нас и закуски, что нам хватило бы дня, пожалуй, на три, не меньше. Дозы были у нас – родимые. Не такие, как за границей. Не сумел бы угнаться за нами и другими друзьями нашими, населявшими в годы былые отшумевшую нынче эпоху – неизменный любитель выпить, досточтимый Хемингуэй.
– Да, Париж – был у Хемингуэя, – ни с того ни с сего сказал, помолчав немного, Довлатов. – Папа Хем до сих пор в почёте. И останется таковым: почитаемым. У него, в его молодости, был праздник. Тот, который всегда с тобой. Понимаешь? Праздник!
– Всегдашний. Так-то лучше бы перевести.
– Я согласен. Так вот. У Хема праздник был – не хухры-мухры. На всю жизнь хватило его. Ты об этом подумай только! На всю жизнь! У него был – Париж.
– Кстати, ты обратил внимание, сколько там, в этой книге – о молодости, о Париже, – всякой еды? Ну буквально что ни страница – так подробное описание всяких яств. Со знанием дела. И со вкусом. Гастрономическим. То работает он, то ест. Путешествует – ест. Гуляет – снова ест. И такие продукты, о которых мы сроду не слыхивали. Прямо перечень всяких блюд и напитков. И всё – в ресторанах и в кафе. Нет бы дома готовить, как советские люди привыкли. Он привык – работать в кафе. Ну а после работы – есть. В том же самом кафе, где работал. Он привык – с женою гулять. И обедать с ней – в ресторанах. Ах, подумать только, однажды не попали они в ресторан, где все столики были заняты, а ведь там обедал не кто-нибудь, а, конечно же, Джойс с семейством.
Бедный, бедный Хемингуэй! Не досталось ему местечка в ресторане. Джойсу – досталось. И пришлось уйти восвояси Хему вместе с женой, чтобы позже пообедать в другом заведении. Гонорар получил – поел. На скачках выиграл – в горы путешествовать. Вместе с женой. Чтобы там – есть. И пить заодно. Притом, он всё время подчёркивает, что денег было, как правило, в обрез. Всегда не хватало. Хорошо питаться – хватало. Ничего себе нищета!
– В самом деле, – сказал Довлатов, засмеявшись, – что ни страница, то сплошная жратва. Со смаком. Не обжорство, конечно. Да всё же – что-то вроде того. Повышенный интерес к еде. Нездоровый. Будто отняли у него в раннем детстве съестное что-нибудь – и теперь он это навёрстывает. Всё навёрстывает и навёрстывает. Отбирать – никто и не думает. А писатель всё ест да ест. Ну и пьёт, понятное дело… Взять вот нас – мы ведь тоже пьём. Но для нас что главное? Выпивка? Нет. Общение. Вот что главное. Ну а выпивка вытекает из общения. Так повелось. Искони. На Руси – не знаю. А у нас – давно повелось. Даже правилом стало. Вот что. Чётким правилом. Даже законом. А еда? Еда – приложение. Дополнение. Пункт второй. Первый пункт – разумеется, наше, то, чего не заменишь ничем, замечательное общение, мощным стимулом для которого, как известно, является выпивка. Это всё – в порядке вещей. А у Хема – свой пунктик имеется. На еде. И граничит он не со сдвигом в мозгах, конечно, а с навязчивою идеей. Ну и Хем! Любитель пожрать! Славословящий всякую пищу. И особенно – ту, парижскую. Полагаю, действительно вкусную. Пищу молодости. Нищеты. Как там сказано? «И таким был Париж с те далёкие дни, когда мы были очень бедны и…» Ну, вспомни! Да, «очень счастливы».
– Мы сегодня тоже пируем.
– Да, пируем. А что за пир?
– Пир во время чумы?
– Возможно.
– Пир Платона?
– Всё может быть.
– Пир прощания?
– Или встречи? Но чего? И с чем?
– Догадайся.
– Ты-то знаешь?
– Знаю.
– Откуда?
– Просто – знаю.
– Скажи!
– С судьбой.
Так сидели мы вместе с Довлатовым за столом, уставленным яствами и напитками. Выпивали. Понемногу. Не так, как Хем, – по глоточку, но с форсом. Нет, дозы были у нас побольше. Или порции. (Всё равно, как теперь мне их называть. После двух уж десятилетий, когда я вообще не пью ничего спиртного. Прекрасно обхожусь без выпивки. Помню выпивонные годы прежние – и свидетельствую устало: да, весьма любопытные дамы и любезные господа, признаюсь вам, – что было, то было, вся богема выпить любила, даже очень, – все пили тогда. Пусть казалось это защитой от невзгод, от советской яви. Я оправдывать это не вправе. Пили все. Защита – в ином: только в творчестве. В тяге к свету. Не мешает вам помнить это. Значит, песня ещё не спета – о минувшем и о родном.) Так сидели мы вместе с Довлатовым. Выпивали неторопливо. Нам спешить было некуда. Пир продолжался. Текла беседа. За стеной, побеждая беды, жаждал радости хмурый мир.
Зверев – спал. На полу. На газете. По привычке. Под батареей. Там теплее. Удобно. Не дует. Уголок – ну впрямь для спанья.
День, осенний, московский, длился. День похмелья – и день спасенья. День чудес. Бескрайний. Настолько, что на вечность смахивал он.
Вдосталь было у нас питья. Хочешь – водку пей, хочешь – вино. Коньячок отменно хорош. По традиции, есть и пиво.
Предостаточно было закуски. Накормить можно пол-Москвы. Также хватит – на Питер. Весь. Для провинции – тоже останется.
Никуда никто не спешил. Ни Довлатов. Ни я. Ни Зверев. Толя – спал. Мы вдвоём говорили – и спокойно в себя приходили.
За окном – совсем как в раю, мнилось нам, – в полумгле небес, рядом с нами, в числе чудес, щебеча, – пролетали птицы.
– Интересно, – сказал Довлатов, – как бы Зверев мог сформулировать, что за штука такая – время.
Полуспящий и полупроснувшийся, словно кто-то сказал ему: «Встань!» – Толя вдруг поднялся с газеты и уставился на Сергея.
Это было так неожиданно, что Довлатов смущённо потупился.
Тут любой бы мог озадачиться.
Преспокойно спал человек – и, пожалуйста, вот он, рядом, через долю секунды – встал.
Зверев, словно сомнамбула, с полузакрытыми, вроде бы спящими, вроде не спящими, отягощёнными страшной, нечеловеческой просто, усталостью, но и, с ней вместе, что вовсе уж поразительно было и даже смущало, готовностью к действию, к действу, к поступку, слишком уж важному, чтобы его откладывать на потом, а не тут же, сразу же, прямо сейчас, при нас, кровь из носу, всенепременно, целенаправленно, истово, не совершить его, ставшими вдруг светящимися, фосфорически-отрешёнными, глядящими в глубь какую-то иную, и даль, и высь, в неведомое измерение, пророческими глазами, потянулся рукой к подоконнику.
Взял давно уже, в уголке, возле рамы, валявшийся там, затвердевший кусок пластилина.
Всего-то несколько звонких, броских, цепких мгновений – помял, повертел его в пальцах.
Воткнул в него, сделав рукою движение кругообразное, какие-то пробки, бумажки.
Дунул слегка на него.
И невзрачный, сморщенный, старый, завалявшийся пластилин – чудом преобразился!
На зверевской, гибкой, пластичной, творческой, жизнетворной, широко раскрытой ладони, вздрагивая, лежала – дивная, словно живая, всем лёгким телом своим устремлённая в путь, вперёд, находящаяся в полёте, свободно и смело расправившая упругие сильные крылья, виталица в высях небесных, скиталица в далях таинственных и в глубях незримых отшельница, печальница о былом, провидица века грядущего, вещунья, звезда, собеседница созвездий и листьев, наследница ведических волхвований, питомица речи, наперсница избранников, имени вестница, загадка волшебная, – птица.









































