Текст книги "Группа Тревиля"
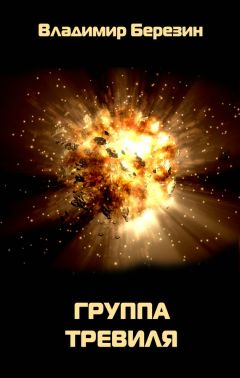
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Боевая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава седьмая
Зона, 5 мая. Олег Мушкетин по прозвищу Мушкет.
Однокурсники держатся рядом, даже если одни любят науку по-прежнему, а другие больше любят мотоциклы. Бар и ресторан – инфраструктура еды на Зоне. Молитва Амону и пусть никто не уйдёт обиженным.
Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и беспутно красивая. Она все время шептала ему:
– О нас, математиках, говорят, как о сухарях! Ложь! В любви я Эйнштейн! Я хочу быть с вами, седой красавец!
Юлиан Семёнов
«Семнадцать мгновений весны»
Что я бы себе купил, так это мотоцикл.
Я всегда выглядел внушительно: когда у меня байк был и когда его не было. Я когда учился, даже стал шить на заказ байкерские куртки – они были тогда в дефиците. Джинсы варил, не без этого, но куртки – это была моя страсть. «Если ты читаешь эту надпись, значит, эта сука свалилась с моего байка», и все дела.
Я мотоциклы люблю. На мопеде ещё в школе начал ездить, потом у меня была «Ява».
Как у нас говорили в школе: «Красное, вонючее, между ног болтается, на три буквы называется» Что? Правильно, мотоцикл «Ява».
А после армии у меня как-то не было возможности мотоцикл купить. Да и ездить негде было.
А я скорость люблю.
Я бы в байкеры пошёл, пусть меня научат. У байкеров жизнь известно какая: три правила есть у байкеров. Первое правило: возить только баб, второе: села – дала, а третье: уронил – женился.
Проста жизнь у байкера, вся по мне.
Я подумал об Арамисе и подивится его загадочности. Я-то прост-прост, а всё равно не верю, что он Мишаню завалил. Не то чтобы наш Арамис был очень добр, я от него ничего доброго не видел, но вот бабу завалить – это я понимаю, в это я верю. Такой родную мать завалит, по крайней мере у него репутация была такая. Но вот убивать он не будет, это не стильно.
Не верю я в его виновность.
Он пижон и любит стиль во всём, так Арамису и положено.
Я запомнил, как на встрече однокурсников к нему подвалили наши и стали предлагать на яхтах в Турции кататься. Я сам скорость люблю, но тут как-то мне уже показалось, что дело чересчур. Я люблю не эти штучки новых русских, а бензиновый запах, хороший мотор… Мотоциклы я люблю.
А вот поминки…
Я на поминки Тревиля… то есть, на поминки Маракина всё равно бы не приехал, что мне отсюда ехать. Он меня не любил, да и выехать отсюда сложно.
Я и на встречи одноклассников-однокурсников перестал ходить. Что мне тупо глядеть, как подурнели наши бабы и на расстоянии угадывать, знакомы ли мне эти лица?
Но Арамиса теперь я узнал сразу – хотя внешне он такой неприметный, и для Дон-Жуана даже невысокого роста. В пору лихих девяностых я потерял его из виду и внезапно встретил в кафе музея Актуальной Политики. Выяснилось, что он снимает офис прямо в этом музее.
– Даже не спрашивай, даже не спрашивай, – отвечает.
А я его спросил, чем занимается, а про себя думаю, не надо мне этого знать, не надо.
Потом он, кажется, уехал в Европу. Ну или в Америку – для меня отсюда это всё равно. Я-то знал, что для меня это невозможно, никому я там не нужен, без языка, с троечным моим дипломом, скукота одна. А полы мыть я и тут могу.
Ну да ладно, хотя у меня было смутное подозрение, что наш Арамис сбежал от должников. Было у нас как-то такое время, когда кредиторы бегали от должников – и убрать кредитора стало самым лёгким способом расплатиться с долгами.
Какой-то у него там бизнес-шмизнес, даже несколько бизнесов, которыми он особо не занимался, только подаивал с них деньги. Была и какая-то частная клиника, где он занимался экспериментами по передаче информации от клетки к клетке.
На встрече однокурсников он всё-таки выпил и разговорился:
– Мы очень продвинулись в лечении герпеса, – гордо так говорит. – А вот раком мы заниматься не будем, потому что для этого нужен крупный центр, много больных и статистика.
Тут подвалили наши шумные однокурсники. Множество моих знакомцев занялось яхтенным спортом. Всё это, по-моему, дело дурное, забава для богатых. Видел я, как после кризиса в девяносто восьмом пытались эти яхты продавать. Один даже жил в яхте на Пироговском водохранилище, потому что его из квартиры за долги и общее безденежье выперли. А пока над ними не висел дамоклов меч русского разорения, они с разной степенью профессионализма бороздили моря и океаны мира, оставаясь в своей обыденной жизни банковскими служащими.
И вот они хлопали Арамиса по плечу и спрашивали:
– А ты ведь тоже яхтами занимался?
– Да, – он им так, с усмешечкой. – Только я этим как спортом уже не занимаюсь.
– Что, – спрашивают его сочувственно, – проблемы со здоровьем?
– Да нет. Я когда выиграл чемпионат мира, то как-то потерял к этому интерес.
Банковские служащие звучно клацнули челюстями.
– Так это ты был в Гамбурге в две тыщи втором, в классе «микро»?
– Да, это мы – только что построили яхту и решили опробовать. Вот так и получилось. А за несколько лет до этого, в Канаде, меня взяли на борт, чтобы пройти на юг вдоль американского побережья. И когда я взял в руки фал, то будто игла вошла в вену наркомана – я понял, что это моё. Безо всякого соревнования и спортивного интереса.
Ну, ё-моё, думаю, такие люди и без охраны.
* * *
Но так или иначе, он приехал сюда.
Потом я узнал подробности, но – нет, не мог он Мишаню завалить.
Даже если бы они поругались, даже если б напились и вспомнили былые обиды – а я знаю, что им было, что делить.
Да и корысти ему нету никакой.
Не тот стиль, вот что я скажу.
И тут вижу, как он себя ведёт. Зона-то всё показывает, она сразу человека выявляет – то ли он для понтов сюда залез, то ли бабла пришёл порубить, то ли вовсе с глузду съехал.
А так-то я любил всех. Я Атоса любил – Атос был благо-о-о-ородный, он всем помогал.
Он нам всем сильно помог, и мне в том числе.
Я-то довольно давно обретался в научном городке. Квартира в Москве была продана, семейная жизнь не сложилась, я начал попивать и сразу же согласился поехать в Зону.
Если бы мне предложили ехать лаборантом, я бы и то согласился. Но контракт был на инженера-исследователя, что даже тешило моё самолюбие.
Я не подозревал, в какую банку со скорпионами я попаду.
Тогда русская группа была небольшая, несколько человек, в числе которых одна женщина.
Начальником у нас был Шершень, человек весьма своеобразный.
Владислав Кимович был человек очень старательный, я помню его ещё в те времена, когда он воевал с несчастным Маракиным, и с небожьей помощью разных партийных товарищей этого самого Маракина и загасил. Моё-то дело сторона, я был просто наблюдатель, но маракинских мушкетёров мне тогда было очень жалко. Но – высоко взлетел, так больнее падать.
Владислав Кимович был всегда тщательно выбрит и носил причёску, которая называется «внутренний заём», когда одна прядь накладывается на начинающую лысеть голову. Это, впрочем, была единственная его слабость. Был он полноват, если не сказать толстоват.
Про Владислава Кимовича говорили разное, некоторые были недовольны, что он подписывает своим именем все работы группы, да и все гранты были оформлены на него.
Но тут претензии дело сложное – я знал ещё с университетских времён закон о братских могилах научных публикаций. В эти могилы валились все – и теоретики, и экспериментаторы. Как сюда не включить начальника, непонятно. Он всё-таки принимал участие, и иногда его помощь, даже административная, была куда важнее, чем лишняя серия экспериментов. Но недовольные всегда находятся – отчего Шершень и Шатрова, Шершень и Аврерин, отчего так? Ну я бы не моргнув глазом внёс бы начальство в список авторов – но самостоятельных исследований у меня не было. Я больше сидел в баре и ходил на выходы. Выходы были делом опасным, как ни крути.
Да и в таких случаях начальство всегда отмазывается, и отмазывается довольно правильно: вот скажет Шершень, что молекулярный биофизик Кравец великолепный специалист, только у него недостаточно опыта. Скажет начальство, что при огромном, интереснейшем наблюдательном материале практически нет квалифицированного анализа результатов. И что, неправда? Правда. И всем до боли жалко этот пропадающий материал (а там двадцать выходов, геном кровососа и даже препарация беременной самки этого самого кровососа, а опубликовать это в сыром виде нельзя). А французы на пятки наступают, в Бельгии даже по кровососам нашим публикации есть. Ну и Владислав Кимович обрабатывал результаты, куда деться.
Когда я начал работать тут, мне в общем было пофигу как они там собачатся, я учёным себя не считал, но потом пошли дрязги.
Владислав Кимович при этом говаривал, что, дескать, народ у нас после Перестройки то хамоват, то бросается в другую крайность – псевдощепетилен. Работа готова, пора закрывать грант, нужно публиковать и отчитываться – так нет! Все чем-то недовольны, что-то кажется необоснованным… Все хотят ещё раз проверять, и нужны деньги, а у него, Шершня, денег нет, он их не печатает. И вот получается глупое положение, подрывающее возможность получать новые гранты…
В коридорах или в баре я слышал только раздражённые разговоры типа:
– А тебя это не касается! Понимаешь? Совершенно не касается!
– Нет, меня это касается! Потому что это мои деньги!
– Я уже слышал, и надоело! Я прошу только одного: дайте мне отработать мой контракт, и провалитесь вы в самые глубокие тартарары…
Потом и вовсе люди перестали разговаривать друг с другом, писали какие-то бесчисленные доносы. Объяснялись они через меня, но я быстро это прекратил. У меня был свой способ – я просто переводил все полагающиеся деньги на карточку, а с карточки они каждый день падали на счета бара «Пилав». Этим скопидомам было меня не понять, но в итоге один я сохранил рассудок.
Один мушкетёр так и говорил, когда его спрашивали: «Что вас вынуждает пить?», отвечал: «Трезвое отношение к жизни». Или это был не мушкетёр? Впрочем, не важно.
Важно было, что рецепт оказался верным.
Затем двое наших не поделили девушку. Я так вообще считаю, что женщинам, тем более молодым, на Зоне не место, а у нас была не просто девушка, а довольно красивая. Этакая Лара Крофт – ходила в Зону, вся увешанная оружием, в составе группы, конечно, но всё равно.
Французы её сманивали, те же бельгийцы… Но укатали сивку наши крутые горки – не начальство, собственно, укатало, а весь этот современный НИИЧАВО, все эти грёбаные пауки в банке, я-то помнил её в тот момент, когда она приехала, а вот через два года у неё было по-прежнему милое, но уже какое-то безнадежно усталое лицо.
Мы как-то оказались вдвоём в прозекторской и на фоне большого цинкового стола, слава богу пустого, проговорили всю ночь. Оказалось, что она жутко боится, что с ней разорвут контракт, а Шершень не раз намекал ей на это. Шершень был вообще единственный из научной группы, кто не воспринимал её как женщину, она была для него только участником общей работы. А она очень боялась вернуться к себе в Новосибирск – работа на Зоне была шансом вырваться куда-то, работать за настоящие деньги в настоящих лабораториях. Ей очень не хотелось возвращаться в вымершие и вымерзшие корпуса захиревших институтов.
А это было чревато сменой специальности.
Тут-то она писала диссертацию, тут-то она была на переднем крае науки, в группе у если не знаменитого, то известного учёного.
Тогда, сидя на цинковом столе, на который завтра положат пойманного зомби и будут резать его по частям, чтобы наблюдать за процессом регенерации, я объяснил ей следующее.
Я объяснил ей, что мне нет смысла перебегать дорогу, я никогда не буду учёным, я давно забил большой болт на все эти их публикации и мне интересно только то, как начинается у меня адреналиновый шторм, когда на краю болота начинает что-то копошиться и вдруг из чёрной воды показывается слепая голова очередного урода.
Я объяснил ей ещё, что фактически здесь проездом. И никакой я не друг начальства – ни прошлого начальства, ни будущего, а обыкновенный раздолбай.
И тогда она, красивая баба, начала реветь как девочка.
Ночью она пришла ко мне в комнату, и мы любили друг друга – я, потасканный и пьяный, и она, молодая и красивая.
Она приходила ко мне много раз, и эти дураки вокруг ничего не замечали. Я клянусь, что ничего они не заметили, потому что бегали в своей воображаемой банке друг против друга, норовя укусить.
Так вот, и двое наших устроили из-за неё дуэль. Хорошо ещё на морозе, из пистолетов Макарова, чистили они их плохо, как настоящие теоретики. В результате этого только ранили, но – поэт роняет молча пистолет, на грудь кладёт тихонько руку и падает…
Началось разбирательство, и вот тогда, вместе с Генеральным инспектором приехал Атос.
Генеральный инспектор был лицом, по традиции назначаемым МАГАТЭ, но эта фигура была номинальная. Генеральный инспектор сидел в кресле за столом на общем совещании, и лицо у него было такое старое и жалкое, что я как-то растерянно оглянулся на Атоса. Но Атос еле заметно кивнул мне.
Этот кивок означал, что он меня помнит и даёт понять, что теперь всё будет хорошо.
Генеральный инспектор только кивал головой, а Атос невозмутимо зачитывал донос за доносом, и все вжимали голову в плечи.
Оказалось, что даже наша Лара Крофт писала какие-то гадкие письма начальству, и она снова бессильно плакала. Но, чёрт возьми, я вовсе не изменил своего мнения о ней.
Шершень ещё огрызался, когда Генеральный инспектор стал нас стыдить. Выглядело это устыжение не очень убедительно. Он говорил:
– Все это до того омерзительно, что я вообще исключал возможность такого явления, и понадобилось вмешательство постороннего человека, чтобы… Да. Омерзительно. Я не ждал этого от вас, молодые. Как это оказалось просто – вернуть вас в первобытное состояние, поставить вас на четвереньки. Всего три года, один честолюбец и один интриган. И вы согнулись, озверели, потеряли человеческий облик. Молодые, веселые, честные ребята… Какой стыд!
Это было ужасно глупо. Генеральный инспектор был из тех людей, что остались в конце восьмидесятых, где был академик Сахаров, митинги в Академии наук и эстетика братьев Стругацких. А перед ним, седым стариком, сидели люди, которые уже прекрасно знали, как сейчас финансируется наука и вообще, каковы мотивации у людей.
Под конец он царственно махнул рукой:
– Слушайте, Шершень, – сказал он, – на вашем месте я бы застрелился.
Я чуть не заржал в этот момент.
Помешало мне то, что опять встал Атос и очень сухо и спокойно начал зачитывать решение Генерального инспектора, которое, как было понятно, писал он сам. Ссылаясь на пункты контрактов, он фактически разгонял группу, но происходило это так, что никто не терял своего лица. На моих глазах Атос съел всю группу Шершня и самого Шершня, продал и купил их, оптом и в розницу.
Личный состав сменился на девяносто процентов.
Последней уехала моя Лара Крофт – куда-то Финляндию.
Она чувствовала свою вину за те свои дурацкие письма руководству, в которых упоминался и я, и как я ни убеждал её в том, что мне это безразлично, она не успокоилась.
В ночь перед отъездом мы яростно любили друг друга, и я думал, что нас слышит вся Зона – вплоть до загадочных упырей, что живут в подземельях близ Саркофага. Но это была очень грустная гимнастика, прощальные выступления накануне разлуки.
Мы переписывались в Сети, но я видел, что я для неё – только деталь прошлого.
Деталь, напоминающая о пережитом ужасе.
Чёрт его знает, может, что-то и изменится, но это было только пространство надежды. Никакой уверенности.
* * *
Именно поэтому я так любил ходить в маршруты, хотя польза от этого для науки была весьма относительная.
Недолго пропьянствовав с Арамисом, я стал собираться в Зону.
Атос погнал меня искать артефакт «аксельбант», или как его в былые времена окрестил покойный Трухин – «подвески». Это предмет, похожий на веретено, часто сдвоенный, особой формы стержень нефритового цвета (гусары, молчать!), который зачем-то был нужен Атосу.
Он гонял меня за ним не первый раз, и ничего я ему не приносил – то есть, приносил-то много всего, но с «подвесками» выходила беда. Я стоял перед Атосом, будто несчастный подчинённый герцога Бэкингема, которого послали за драгоценным ларцом, а в ларце обнаружилась недостача.
Было видно, как мой начальник недоволен, но разжаловать меня было некуда, а условий контракта я не нарушал. Это только в анекдоте можно кричать: «Мы обязуемся найти до конца квартала три гробницы с золотом, серебром и слоновой костью!». В жизни все, даже самые высокие начальники, понимают, что ничего так просто не найдёшь.
* * *
Мы, сталкеры, – те же бомжи. Вооружённые бомжи, и я-то ещё везучий, потому что у меня есть прописка в научном городке. А так – чистые бомжи. Вернее – нечистые.
Ты вот замени хабар на пустую тару, и получишь абсолютное тождество.
Но я сам во всём виноват, сейчас я думаю, что если бы вместо меня был Атос или даже этот военный болванчик Гримо, то они бы прожили тут положенный срок и вышли из Зоны после окончания контракта со славой и приличным счётом в банке, женились бы, прожили с супругой тридцать лет и оставили бы своим наследникам виноградник и ворох акций. Я же почувствовал себя лохом-неудачником с первого дня. В Зоне то невыносимая жара, безлюдье – не то безлюдье, когда ты сидишь в одиночной камере, а то, когда нет друзей. А выйдешь в маршрут, там под каждым кустом и камнем чудятся мутанты и смертельные ловушки. Чужие люди, чужая природа, жалкая культура – водку пить в «Пилове» или лабораторный спирт из химической посуды. Все это, брат, не так легко, как гулять по Москве и врать девкам о Зоне и бодром пути конкистадора.
Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, причём не возвышенная, а тупая, с отключением всех страданий. Всей этой глупой рефлексии. А какой я боец? Глупый неврастеник, белоручка… А я хочу по-чеховски жить, на веранде, с самоваром.
Ты сидишь, в крыжовник какой-то пялишься, на участке-то своём. А в доме жена тебе рубашку гладит. Пшшш, пщщщщ! Утюг шипит.
– Утюг вещь в хозяйстве необходимая, – задумчиво сказал Селифанов.
– Чёрт! Нельзя с вами говорить.
* * *
Более того, я в этот раз попал на патруль военных сталкеров.
Вместо того чтобы проверить мои данные и отпустить, они транспортировали меня до другого КПП и продержали три дня в кутузке.
Когда меня отпустили (изрядно при этом облегчив контейнеры с хабаром), то сержант-негр отвлёкся, и я смог долго разглядывать то, что лежало у него на столе.
А лежал на столе протокол от предыдущего задержания: «Шухов Р… года рождения… два контейнера… «пустышки» малые – две штуки; «батарейки» – девять штук; «черные брызги» разных размеров – шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; «губки» прекрасной сохранности – две штуки; «газированной глины» – одна банка…
Господь!
Сколько ж ему было сейчас лет! Уму непостижимо. А для сержанта что тот сталкер, что этот. Произошла смена поколений, и сталкерские легенды стали никому не интересны.
Глядишь ты, Роман Шухов, жив, курилка!
Но это было, пожалуй, единственным светлым пятном на в общем-то пустой ходке в Зону.
В довершение всего на обратном пути я напоролся на редкую инфразвуковую аномалию «вувузела» и у меня до сих пор шла кровь из ушей.
Аномалия была редкой, потому что являлась особым случаем превращения живой природы в аномалию Зоны. Я столкнулся с ней в одной роще на краю болот, которую даже на картах ласково обозначали «Триффидник».
Никаких триффидов, столь знакомых всем по фантастической литературе там не наблюдалось, зато рос гигантский борщевик.
О ядовитости и прочих неприятных свойствах этого борщевика ходили легенды, пока оказалось, что он, высыхая на солнце, может образовывать своего рода гигантские флейты.
И человек, случайно оказавшись рядом (не могу представить себе персонажа, что специально бы припёрся в Триффидник послушать инфразвуковой концерт) тут же получал инфразвуковой удар.
Кравец мне пытался объяснить природу этого явления, но, как всегда, говорил на плохом английском, да так, что я только рукой махнул.
Сам Атос снизошёл до меня и сказал что-то вроде того, что на самом деле там, внутри борщевика, образуются полости, откуда звук идёт – в случае лёгкого ветра, особый низкий звук. Дальше Атос пустился в рассуждения о резонаторе Гельмгольца, стал меня подначивать вопросами типа: «Ты вот, поди, монографию Немкова не читал?» и прочее, и прочее.
– Не читал, – гордо сказал я. – И боюсь, читать не буду.
Так я и ушёл.
Ушёл, собственно, недалеко, потому что рядом в лаборатории Кравец о чём-то спорил с Базэном.
Потом Базэн махнул рукой и ушёл.
Кравец заскучал, прихватил английский словарь с полки и тоже исчез.
Но на смену им в помещение ввалилась толпа прекрасных украинцев.
Арамис подружился с ними с моей подачи, и теперь они пришли все вместе и радостно орали над какой-то очень длинной распечаткой.
Когда я прислушался, оказалось, что они говорят уже не о науке – Арамис явно острил, разговаривая о чём-то с высоким украинцем. Это был именно тот украинец, который так горячился, говоря о политике в коридоре.
– Черт, я уже путаю все к старости. Ганнибал победил Аттиллу или наоборот? – спросил, смеясь, Арамис.
– Ганнибал – лектор. Он не мог никого победить. Он мирный преподаватель, – отвечал, улыбаясь, украинец.
– Ганнибалов вообще было много – пока они друг друга не съели!
– Ганнибализм. Хоть имя дико.
Я присоединился к ним, мы сели в баре и стремительно напились.
* * *
Это только так кажется, что в нашем «Пилове» обстановка чопорная и аристократическая. Выпивается тут не меньше, наверное, а больше. Причём если считать финансовый эквивалент, то раз в сто больше.
А когда люди напиваются, то им важно пофилософствовать. Без этого у нас нельзя. Всё врут, что сталкеры – сухари, в любви мы Эйнштейны… Хорошо ещё петь перестали, а то русские, украинцы и белорусы, вспомнив былое, начинали исполнять такое, что русский шансон в баре «Сталкер», казался вечером в Ла Скала. А Ла Скала, как говорят нам путешественники в телевизоре, это такой чудесный театр, в котором пафоса больше, чем красного плюша и золота, и человек, которому воткнули на сцене перо в живот, ещё полчаса поёт и страдает, вместо того чтобы сразу помереть.
Конечно, время от времени в пьяном бреду у меня возникали странные желания.
Я представлял себе, что я попрошу у Монолита, если судьба приведёт меня к настоящему Исполнителю Желаний.
Я себе представил, как тысячи сталкеров будто дети выходят на закате в Зону. Я представил, что это нечто вроде игры и они просто играют в Зону. Тысячи сталкеров, которые играют во взрослую игру, сам смысл которой им непонятен. Вернее, это Зона играет с ними, а никто ничего не понимает, кроме меня. А я стою на самом краю Периметра, понимаешь? И моё дело – указать этим дурачкам направление движения, чтобы они вышли, перестали играть в эти чужие игры.
Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и останавливаю их, чтобы они не оступились. Вот и вся работа – не знаю, есть, наверное, занятия много лучшие, но это единственное, чего я всё время хотел. Вот что бы я просил у Монолита, или как его там, в зависимости от веры. Я тоже дурак, да?
Арамис мне, правда, сказал:
– Ну почему же дурак? Нормальные желания. Раньше были очень модные. Только я не верю в исполнение желаний. Легенде этой уж много лет, а ничего не изменилось. Если бы это работало, то понятно, что было бы, когда в Монолит поверили бы все? И все кинулись бы сюда – ну ладно, не все, а те, кто мог дойти. А ведь это вопрос времени! День за днём, десятки, тысячи… Как говорил один писатель, не помню какой, все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, генеральные секретари, вожди, кондукаторы, кормчие, фюреры всех мастей должны ломануться сюда. И не свой миллион на садовый домик бы просили, вовсе нет. Мир переделывать! Некоторые даже счастье нести, вот возьми шахидов, желание которых совершенно откровенно и выстрадано.
– Они не дойдут. Такие никогда не доходят.
– Никто из тех, кто идут, не знают, что хотят. Поверь, они не знают даже, могут ли на самом деле дойти или не могут.
– Ну и у нас есть ещё одна степень защиты: при мне один писатель говорил, что не может быть у отдельного человека такой ненависти или, скажем, такой любви… которая распространялась бы на все человечество! Ну деньги, девка, ну там месть, чтоб начальника машиной переехало. Ну это туда-сюда. А власть над миром! Справедливое общество! Царство Божье на земле! Это ведь не желания, а идеология, действие, концепции. Неосознанное сострадание еще не в состоянии реализоваться. Ну, как обыкновенное инстинктивное желание. Вот что нам этот писатель говорил, и я ему верю – у него такая минута откровения была, что ему не верить нельзя было.
– Отчего не предположить, что к Монолиту дойдёт какой-нибудь сатанист. Вот и он решит разом всё дело – забормочет свои глупые заклинания, а они распространятся на всех. Всё это ложь, что нельзя ненавидеть человечество целиком – можно. Многие вырастили в себе это яростное чувство, что у них есть самое заветное желание. Самое искреннее! Самое выстраданное! Для них ведь главное – верить!
– Верить? Тебе сложно, потому что на самом-то деле сам ты в Бога не веришь. А как человек в Бога верит, так сразу оказывается, что он в домике. В самое ужасное время, в кошмарных обстоятельствах – и в домике!
Тут вступил неизвестный мне украинец, с которым Арамис накануне так славно острил.
Он сказал:
– Есть такая история у одного поляка, который писал про Древний Египет. Там был фараон, такой хитроумный, потому что сам был бог – просто так, по служебному положению. И вот этот фараон, потому что был бог, видел много того, что не видят другие люди.
А увидел он стаю серебристых птиц, что вылетали из храмов, дворцов, улиц, мастерских, нильских судов, деревенских лачуг, даже из рудников. Сначала каждая из них взвивалась стрелой вверх, но, повстречавшись с другой серебристой птицей, которая пересекала ей дорогу, ударяла ее изо всех сил, и обе замертво падали на землю. Это были противоречивые молитвы людей, мешавшие друг дружке вознестись к трону предвечного. И раз за разом он лучше разбирал слова молитв: вот больной молился о возвращении ему здоровья, и одновременно лекаря, который молил, чтобы его пациент болел как можно дольше; хозяин просил Амона охранять его амбар и хлеб, вор же простирал руки к небу, чтобы боги не препятствовали ему увести чужую корову и наполнить мешки чужим зерном.
Молитвы их сталкивались друг с другом, как камни, выпущенные из пращи – и это выражение у поляка, поверьте, братья, было самым лучшим.
Итак, падал ниц путешественник в пустыне, потому что уже помирал без воды, а северный ветер мог бы принести ему воду, молились и моряки о том, чтобы ветры дули с востока, потому что они там сумели бы что-то перевезти, а крестьяне хотели, чтобы пересохли болота, а те, кто ловил в болотах рыбу, наоборот, хотели, чтобы болота не пересыхали никогда.
Рабы, конечно, молились. Ведь чуть что, начни рассказывать о древнем мире, так там сразу рабы. Особенный шум царил над каменоломнями, где закованные в цепи каторжники с помощью клиньев, смачиваемых водой, раскалывали огромные скалы. Там партия дневных рабочих молила, чтобы спустилась ночь, и можно было лечь спать, а рабочие ночной смены, которых будили надсмотрщики, били себя в грудь, моля, чтоб солнце никогда не заходило. Торговцы, покупавшие обтесанные камни, молились, чтобы в каменоломнях было как можно больше каторжников, тогда как поставщики продовольствия лежали на животе, призывая на каторжников мор, ибо это сулило кладовщикам большие выгоды. Молитвы людей из рудников тоже не долетали до неба.
А на границе со страной, где заходит солнце, стояли друг напротив друга две армии. Бойцы лежали в песках и, раскачиваясь, молили своих богов о победе над врагом. И молитвы воинов сталкивались в воздухе, как стаи хищных птиц, и ни одна из них не поднялась выше прочих – все они рухнули на песок.
И повелитель мира Амон вовсе не заметил ни одной из этих молитв.
И куда ни обращал фараон утомленный свой взор, везде было одно и то же. Крестьяне молили об отдыхе и сокращении налогов, писцы о том, чтобы росли налоги и никогда не кончалась работа. Жрецы молили Амона о продлении жизни фараона и истреблении финикиян, мешавших им в денежных операциях; номархи призывали бога, чтобы он сохранил финикиян и поменял фараона, который пресечёт самовластие жрецов. К богу обращались голодные хищники, что хотели горячей свежей крови, а их живая ещё пища – зайцы и олени, в страхе думали о том, как бы прожить лишний день.
Но все понимали, что кровь прольётся, и каждый заяц молился о том, чтобы это была не его кровь.
В общем, не было никакого порядку, все молились кто в лес, а кто и по дрова. Каждый в молитвах вольно или невольно гадил другому. И все просили для себя, и никто для всех.
Поэтому молитвы, хотя и были летучи как серебристые птицы, но летали плохо и высоко не поднимались. А сам божественный Амон, до которого не долетала с земли ни одна молитва, опустив руки на колени, все больше углублялся в созерцание собственной божественности, а в мире продолжали царить слепой произвол и случай.
Но вдруг фараон услышал голос одной женщины:
– Эй, быстрее домой, тебе пора молиться!..
– Погоди чуть-чуть! Чуть-чуть! – ответил взрослому голосу детский.
Фараон всмотрелся и увидел маленькую хижину своего мелкого слуги. Там жил его писец. Хозяин ее при свете заходящего солнца кончал свою дневную запись, жена его дробила камнем пшеничные зерна, чтобы испечь лепешки, а перед домом играл, смеясь, маленький мальчик.
По-видимому, его опьянял полный ароматов вечерний воздух.
– Сынок, а сынок! Иди же скорее, помолимся, – повторяла мать.
– Сейчас! Сейчас, – отвечал мальчуган, продолжая бегать и резвиться.
Наконец женщина, видя, что солнце начинает уже погружаться в пески пустыни, отложила свой камень и, выйдя во двор, поймала шалуна, как жеребенка. Тот сопротивлялся, но в конце концов подчинился матери. А та втащила его в хижину и посадила на пол, придерживая его, чтобы он опять не убежал.
– Не вертись, – сказала она. – Подбери ноги и сиди смирно, а руки сложи и подними вверх. Ах ты, нехороший ребенок!
Тот пацан, которого притащили в хижину, понял, что хочешь не хочешь, а молиться придётся. То есть, пока не помолишься, снова играть не пустят. Ну и действительно начал молиться, но как умел – то есть, не как взрослые, а честно.
Честно-пречестно.
Ну и стал он говорить с богом так:
– Спасибо тебе, добрый бог Амон, за то, что сегодня ты весь день оберегал моего отца от напастей, а матери моей дал пшеницы на лепешки… А еще за что? За то, что создал небо и землю и ниспослал ей Нил, который приносит нам хлеб. Еще за что? Ах да, знаю! И еще благодарю тебя за то, что так хорошо на дворе, что растут цветы, поют птички и что пальма приносит сладкие финики… И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я, и восхваляют лучше, чем я, потому что я еще мал и меня не учили мудрости. Ну, вот и все…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































