Текст книги "И возвращается ветер..."
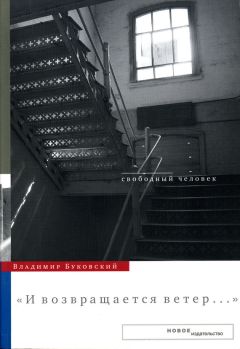
Автор книги: Владимир Буковский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В сущности, мы ничего не делали. Вся наша деятельность состояла в конспирации и вовлечении новых членов. Даже нелегальная литература не распространялась и не рекомендовалось ее доставать. Считалось, что мы и так все понимаем и нас агитировать уже не нужно. К тому же это могло навести КГБ на наш след. Прежде всего нам объясняли, что все телефоны и квартиры могут прослушиваться и по телефону нужно говорить только условными фразами, которые звучали бы невинно. В квартире же вообще лучше ничего не говорить. Учились мы также распознавать слежку и уходить от нее. Для этого какой-нибудь незнакомый член организации брал на себя роль следящего. Ты мог об этом ничего и не знать заранее, но полагалось быть всегда начеку. И считалось большим позором, если ты слежки не заметил, а потом тебе рассказывали, что ты делал в этот день и куда ходил. Соответственно и ты мог получить задание проследить за кем-то незаметно. В случае, если слежка обнаруживалась, нужно было не подавать вида и не дать уйти своему объекту. Если же следили за тобой и ты замечал это – нужно было найти способ обмануть следящего и уйти. Все эти способы тщательно разрабатывались и изучались.
Объяснялось нам, как вести себя на допросе: никогда ни в чем не признаваться, особенно в членстве в организации; не узнавать других членов, если будут показывать; скрывать свои взгляды и прикидываться советским человеком: разыгрывать удивление, недоумение, негодование и другие психологические приемы на допросе. К сожалению, юридическую сторону допроса нам никто не объяснял. Вообще же всеведение и всесилие КГБ сильно преувеличивались. Считалось также, что обязательно будут пытки, побои и запугивание, что будут предъявлять ложные письменные показания других членов и т. д. Отчасти это впоследствии оправдалось, и моя подготовленность сослужила хорошую службу. В то время, однако, никто на нас внимания не обращал.
Вовлекать новых членов разрешалось далеко не всем – сперва нужно было доказать свои способности. Заговаривать на политические темы категорически запрещалось. Вообще рекомендовалось сначала долго присматриваться к людям, особенно не сближаясь. Отбирать будущего члена организации нужно было не по его настроениям или словам, а совсем по другим признакам. Человек должен быть не болтливым – скорее замкнутым, смелым, надежным товарищем. Нужно было выяснить, нет ли у него каких-нибудь пороков, не связан ли он с уголовниками, не слишком ли доверчив, не слишком ли глуп. Наконец, выяснив все необходимое и удостоверившись, что он подходит, нужно было познакомить его с кем-либо из руководителей, и если тот одобрял твой выбор, то назначался кто-то другой для вовлечения. Твоя задача была их только познакомить, а затем исчезнуть со сцены.
Способов вовлечения было много, и все они тщательно разрабатывались. Чаще же всего применялся способ, которым мы все и были вовлечены. Формально, так сказать – на словах, все мы вступали не в политическую организацию, а в некую организацию товарищеской взаимопомощи. Мне, например, объяснили это так: сейчас мы все еще учимся в школе, особых проблем у нас нет, потом же придется нам жить в более сложной ситуации, преодолевать определенные препятствия, пробиваться. В одиночку это сделать очень трудно: нужны надежные тайные друзья, которые неожиданно для всех остальных тебя поддерживали бы, а ты соответственно поддерживал бы их. Если такая организация станет достаточно большой, то мы окажемся очень сильны, практически ВСЕ сможем сделать. Вот примерно и все, что говорилось. Вполне невинная затея, и если человек не понимал, что же такое мы сможем сделать, то ему больше ничего и не объясняли. Так он и считал, что его звали в организацию взаимопомощи для построения карьеры.
Но так уж устроены были наши мозги и такая атмосфера царила в стране, что при слове «организация», да еще «тайная» в глазах у твоего собеседника загорался радостный огонек и сразу было видно, что он, как и ты, давно ждет грузовика с автоматами. Разумеется, он тут же у тебя справлялся для верности насчет такой возможности, а ты важно и многозначительно разъяснял, что о таких глупостях умные люди не говорят и что организация политических целей не имеет. «Ага!» – радостно кивал он головой, торопясь дать понять, что он человек умный и понимает, что вслух говорить об этом не надо. Затем на ближайшей сходке ты должен был его рекомендовать и представить собравшимся под другим именем. Если никто не возражал, то он становился членом организации и включался в общую работу.
Однажды только я столкнулся с человеком, который вроде бы и подходил по всем статьям, но не понимал истинных целей организации. Он занимался радиолюбительством и совершенно был поглощен этим. Думаю, он даже не слышал о Венгрии и никогда не размышлял о том, в какой стране живет. Идею взаимопомощи он принял за совершенно чистую монету и постоянно просил меня доставать какие-то радиодетали – видно, он думал, что вступил в тайный клуб радиолюбителей. Если же я заговаривал с ним о другом, он недоуменно смотрел на меня сквозь очки, не спорил, со всем соглашался, но чувствовалось, что совершенно не понимает, о чем речь. На всю нашу возню с конспирацией он смотрел снисходительно, как взрослый пес на возню щенков.
Разумеется, я доложил о своей неудаче, но такова была общепринятая атмосфера двусмысленности и недоговоренности, что невозможно было объяснить, чем я недоволен. «Наоборот, все очень хорошо, – ответили мне, – парень серьезный, хороший специалист, идею взаимопомощи приветствует, членом организации быть согласен, неболтливый, надежный – что еще надо?» Его приняли, а я был совершенно обескуражен. Я представлял себе его недоумение, если завтра вдруг нам раздадут автоматы или потянут на Лубянку. В сущности, игра велась так осторожно, что в случае ареста никто из нас ничего не смог бы сказать, даже если б захотел. Внешне все выглядело невинной игрой, а надежды на автоматы были личной фантазией каждого из нас. Никто при всем желании не смог бы объяснить, почему мы считаем организацию политической. Вслух не говорилось ничего.
В то же время организация росла. Куда бы я ни ехал: в пионерский лагерь, или просто на дачу в пригород Москвы, или в другую школу – мне всегда говорили заранее, кто там уже из наших, и как с ними связаться, и что делать. Поддерживалась постоянная тайная связь с руководителями, отыскивались новые кандидаты в члены организации и осуществлялась некоторая взаимопомощь. Само собой разумеется, что нельзя было отказаться от поручения или участия в оказании помощи – так же, как и расспрашивать о целях поручений, которые давались. Задавать вопросы вообще считалось бестактным и сразу снижало уважение к тебе. Знать полагалось ровно столько, чтобы успешно справиться с поручением, и после этого полагалось сразу же напрочь забыть все, что ты делал. Существовала целая система проверок на болтливость, и, если даже руководители спрашивали тебя потом, как прошло дело, принято было ничего не помнить и удивляться вопросу. Нечего и говорить, что родители не подозревали о наших делах.
Кто не справился с поручением, покрывался позором, и никакие оправдания не спасали. Даже опоздать на условленную встречу хоть на пять минут было несмываемым пятном. Считалось, что для полноценного человека не существует невыполнимых заданий и, если тебе что-то помешало, значит – сам виноват. Наше суровое предупреждение директору школы за мордобой тоже было акцией организации и являлось оказанием помощи нашему побитому сотоварищу. Другой раз, когда я отдыхал на даче под Москвой, мне передали, что у наших ребят, пока они купались в реке, кто-то украл вещи. Подозревали местных парней, весь день загоравших неподалеку. Я хорошо знал местных ребят, был с ними в приятельских отношениях и без труда уговорил их отдать мне вещи – для них же моя осведомленность оказалась неожиданностью.
Однажды, отрываясь от тренировочной слежки, я на бегу заскочил в какой-то подъезд. Мои преследователи не видели, куда я скрылся, но если бы они стали осматривать подъезды, то сразу же обнаружили бы меня. Это был бы большой позор, и я лихорадочно думал, что делать дальше. Забегая в подъезд, я случайно заметил в окне первого этажа целую коллекцию кактусов. Не теряя времени, я позвонил и дверь. Открыла пожилая женщина, и я стал говорить ей, что сам собираю кактусы, очень этим увлекаюсь и вот случайно заметил у нее в окне несколько незнакомых мне сортов. Наверно, вид у меня был такой простодушный, невинный и искренний, что она тут же провела меня в комнату, напоила чаем, подарила целую груду кактусов и долго не отпускала. С трудом отделался я от словоохотливой кактусоводки, и, когда вышел на улицу, никого уже не было.
Моя репутация постепенно росла, особенно же оттого, что я очень успешно вовлекал новых членов в организацию. У меня и до этого был свой круг единомышленников, которых я теперь притащил за собой, а кроме того, я не жалел сил и все готов был сделать для нашего успеха.
Конечно, мы мало задумывались тогда, какую задачу ставим себе, и, что любопытно, совершенно не думали о последствиях, о результатах. Мы не пытались подсчитывать силы противника и даже вообразить себе, что будем делать в случае успеха или, наоборот, неуспеха. Нас не интересовало, насколько реален наш замысел. Мы не планировали создать какой-нибудь новый строй взамен – нам нужен был взрыв, момент наивысшего напряжения сил, когда можно будет наконец уничтожать всю эту нечисть, когда вдруг по всем концам Москвы поднимутся во весь рост НАШИ и неудержимо пойдут на штурм всех этих Лубянок, партийных комитетов и министерств. Не удивительно ли – такие расчетливые и изощренные до цинизма, мы были совершенно иррациональны и беззаботны в главном. Как это могло совмещаться? Объяснялось же все безумно просто: каждый из нас втайне, быть может – бессознательно, жаждал погибнуть. После всего чудовищно подлого обмана, после того, как бездна человеческой низости разверзлась у наших ног, мы возненавидели всех, кто был старше нас, кто был причастен. После того как краснозвездные танки – мечта и гордость нашего детства – давили на улицах Будапешта наших сверстников, кровавый туман застилал нам глаза. После того как весь мир предал нас, мы никому не верили. Мы хотели погибнуть плечом к плечу с теми, кому доверяли безгранично, на кого полагались, как на самих себя, посредине этого моря предательства. Наши родители оказались доносчиками и провокаторами, наши полководцы – палачами, даже наши детские игры и фантазии были пронизаны обманом. Мы были циничны, потому что прекрасные слова стали разменной монетой обмана. Только цинизм казался нам искренним.
Эх, романтика, синий дым,
Обожженное сердце Данки,
Сколько крови и сколько воды
Утекло в подземелья Лубянки.
Эх, романтика, синий дым,
В Будапеште советские танки,
Сколько крови и сколько воды
Утекло в подземелья Лубянки.
Эх, романтика, синий дым,
Наши души пошли на портянки,
Сколько крови и сколько воды
Утекло в подземелья Лубянки.
Мы все курили и скверно ругались, говорили гадости про женщин и пили водку, а впереди была пустота. Мы, дети социалистических трущоб, готовились как-нибудь поутру расстрелять безразличие и сдохнуть. Кто же из нас бессознательно не чувствовал, что выиграть нельзя? А какое, собственно, могло быть будущее? Такие слова, как «свобода», «равенство», «братство», «счастье», «демократия», «народ», – были подлыми словами из лексикона подлых вождей и красных плакатов. Мы предпочитали заменять их ругательствами. И я уверен, что мы пропели бы свою безнадежную песенку кремлевским развалинам, только, как говорится, Бог не допустил. И пусть найдется в целом мире такой трезвый и разумный, чтобы осудить нас! Я не жалею о том времени и не стыжусь нашего безрассудства. На всю жизнь осталась во мне тоска по людям, которые, не задавая вопросов, всегда встанут рядом.
Наконец меня представили руководителю всей нашей «ветви». Несколько раз мы встречались с ним на улице, затем я бывал у него дома. Мы говорили подолгу, обстоятельно, и я все хотел докопаться до сути. Эти встречи породили во мне первые сомнения: что же мы все-таки делаем? Ему было тогда лет 27. Учился он в аспирантуре и по виду совершенно не подходил к роли руководителя подпольной организации. Дело было даже не в том, что он был много старше меня, то есть принадлежал к тому прокаженному поколению, которое мы от души презирали. Но сам его облик, его неторопливая манера говорить, слегка шепелявя, пристальный многозначительный взгляд через очки, нескладная фигура, лысеющая спереди голова – словом, все в нем настораживало меня, порождало какое-то неуютное чувство недоумения. Зачем ему-то все это нужно? – спрашивал я себя и не мог ответить. Зато я совершенно определенно знал, что, если бы мне предложили вовлечь этого человека в организацию, я бы отверг его кандидатуру.
– Общество, – говорил он своим тихим бесцветным голосом, – это как организм: у него тоже должны быть мускулы, грубая сила, но должны быть и нервы, мозг, должны быть глаза и уши.
Он аккуратно намекал, что мы с ним относимся к мозгу, а мне полагалось ощущать трепет, восторг и благодарность оттого, что я причислялся к избранным. Он умел быть очень настойчивым, убедительным и ни разу не нарушил того стиля таинственной двусмысленности, который царил у нас в организации. От любого прямого вопроса он умел уйти весьма ловко, постоянно оставляя тебя в неясности относительно истинного значения своих слов. Поражало, что всех нас он знает на память, со всеми нашими особенностями, достоинствами и недостатками, но знает как-то внешне, не чувствуя. Вряд ли он понимал, что оказался абсолютным властелином нескольких десятков смертников. И наши устремления интересовали его постольку, поскольку помогали управлять. Мне казалось, что ничто, кроме личной власти, его не интересует. И уж никак не мог вообразить я себе его с автоматом, под пулями или даже на допросе в КГБ.
С его младшим братом, однако, мы сошлись гораздо ближе. Он был всего года на два старше меня, значительно живее и понятней. В нем я чувствовал тот же импульс, какой двигал и нами. Своего старшего брата он очень любил и оттого идеализировал.
Из всех своих наблюдений и впечатлений я сделал вдруг неожиданный вывод: я понял, что никого выше их уже нет, что они-то и есть руководители всей организации, а не только ветви. Намеки же, что нас очень много, чуть не по всей стране, были необходимы для нас как приманка. Но это как-то не разочаровало меня – даже несколько десятков человек, с моей точки зрения, были уже силой. Конечно, не могло больше и речи быть о штурме, о каком-то таинственном сигнале, которого мы все ждали, но дело не было потеряно – нужно было найти способы разрастаться быстрее, как-то привлекать людей и внедряться в уже существующие официальные организации. Надо было менять тактику.
Главное же, становилось бессмысленным наше бездействие – сигнала-то прийти не могло, и ожидание кончилось. Это бездействие и так очень плохо влияло на членов организации. Оказывалось значительно легче вовлечь людей, чем удержать. Как только проходило первое оживление, обучение конспирации и прочее, так постепенно наступала скука. Человек же не может жить в постоянном ожидании. Да и вовлечение новых членов из числа знакомых имело свой предел: в кругу общения каждого человека находилось ограниченное число подходящих. Так возникал застой, и люди разбредались кто куда. Любая же деятельность неизбежно навела бы КГБ на наш след.
Возникало неразрешимое противоречие: массовой и действенной организация могла стать, только открыто заявив о себе, привлекши сразу всех сторонников и единомышленников в стране, – но тотчас и кончилась бы ее деятельность. За одно только участие в антисоветской организации полагалось 10 лет лагеря. И так было удивительно, что мы столько лет не проваливались, не нарывались на КГБ.
Но допустим, мы объявили бы себя каким-то образом, допустим, нашлись бы тысячи желающих вступить – как бы мы выяснили, не подосланы ли они к нам от КГБ? Откуда взялось бы доверие друг к другу? Да и нас самих, объявись мы, скорее всего сочли бы за провокаторов.
Чем больше размышляли мы об этом, тем меньше оставалось веры в возможность нелегальной работы. Получалась какая-то нелепость – наше членство в подпольной организации делало нас совершенно безопасными для власти. Этак, глубоко законспирировавшись и для камуфляжа вступив, например, в партию, человек может преспокойно всю жизнь прожить. Работать, ходить на партийные собрания и фактически поддерживать эту власть. Для пущей конспирации можно даже в КГБ поступить на службу! А с другой стороны, малейшее действие или неосторожность – и вся организация в тюрьме, ничего не сделав. Если же человек хочет действовать, то ему вовсе никакой организации не требуется – наоборот, она ему только мешает.
Уже много лет спустя, встречая в лагерях разнообразные организации, я понял, какой решающий вопрос возник перед нами, и радовался, что пережил все эти сомнения еще в детстве.
Действительно, все 50-е и 60-е годы, словно грибы, вырастали организации, союзы, группы и даже партии самых различных оттенков. Простительно было нам, пацанам, верить, что мы дело делаем, напускать таинственность, конспирировать с собственной тенью, обманывать друг друга, делая вид, что всюду НАШИ и скоро наступит день Z. Но когда в лагере встречаешь сорокалетних людей, получивших по десятке за то же самое, только плечами пожмешь. Ведь даже нам хватило ума сообразить, что всю страну не соберешь в такую организацию.
Обыкновенно логика всех начинающих примерно одинакова и танцуют они все от печки, то есть от истории КПСС. С детства мы помним по кинофильмам и книжкам, что сначала большевики создали партию, а потом, в глубоком подполье, упорно работая, распространяя «Искру» и «Правду», объединяли вокруг себя единомышленников и, наконец, совершили революцию. Следуя мудрой пословице, что у врага надо учиться, мы еще раз становимся жертвами пропаганды.
Мы забываем, что большевики работали в условиях свободы для создания тирании, а не наоборот; что существовала значительная свобода печати и свободная эмиграция, а все руководство сидело в Цюрихе или Баден-Бадене. Мы забываем, что была лишь горстка профессиональных революционеров, хорошо снабжавшаяся деньгами; что вся тайная полиция того времени умещалась в двухэтажном домике, в котором сейчас и районное отделение милиции не поместится; что, даже несмотря на это, ловили большевиков чуть не каждый день. Но никто не давал им за пропаганду 10 лет тюрьмы, а ссылали их в ссылку, откуда только ленивый не бежал.
Основные их пропагандистские книги – «Капитал» и прочая «классика» – свободно и легально печатались в России, даже в тюремных библиотеках выдавались. Газетки же их печатались за границей и, благо было свободно, ввозились через практически неохраняемую границу в Россию. Да и тиражи-то у них не превышали двух-трех тысяч. Уже в который раз покупаемся мы на коммунистическую пропаганду и забываем, что никакой революции большевики не сделали, а развили свою деятельность только после февральской революции – в условиях полной свободы, да еще на немецкие деньги. Тайной же полиции у Временного правительства не было вообще.
Как могут взрослые люди всерьез верить, что революции происходят в результате работы какой-нибудь подпольной организации? В стране, где легально существовали оппозиционные партии, процветало частное предпринимательство и не было паспортной системы, – экая трудность быть в подполье! Особенно если за это на каторгу не шлют. Разве трудно во Франции или Англии создать подпольную партию? Только вот зачем, когда можно легально?
И вот из-за этого-то пропагандистского наваждения у нас лет двадцать люди бились, копируя мифическую большевистскую революцию, да и сейчас еще не у всех выветрилось. И стоит только собраться трем единомышленникам, как тут же начинают соображать – как назвать свою партию. Затем пишут устав, программу, и все садятся в тюрьму.
Встречал я партии из двух человек, из пяти, из двенадцати. Самая большая – ВСХСОН – насчитывала примерно до ста человек. Только и успели, что написать глупую программу и почитать Бердяева, да и то не все. (Как будто без всяких организаций полстраны не прочитало Бердяева!) Самая маленькая партия, которую я встречал, состояла из одного человека по фамилии Федорков и называлась ПВН, что значит Прямая Власть Народа. Так его все в тюрьме и называли – ПВН, даже надзиратели. Был он часовщик из Хабаровска, лет 50, маленький, полный, подвижный, словно ходики. Поначалу все спорил, доказывал нам преимущества прямой власти народной, потом привык, смирился – ПВН так ПВН, черт с вами. Долго ломали голову в КГБ, что с ним делать, – не судить же одного человека за создание политической партии! Потом плюнули и посадили в сумасшедший дом.
Вспоминая теперь все партии и союзы, которые мне приходилось встречать, я с гордостью отмечаю, что мы в свои 15–16 лет создали не только самую многочисленную, но и самую законспирированную организацию, существовали дольше всех и ни разу не провалились. Секрет наш был очень прост: мы вовлекали только своих сверстников, а в этом возрасте еще не бывает агентов КГБ и люди искреннее, чище. А самый большой наш секрет – мы ничего не делали: не писали программ, не произносили клятв, не хранили списков, не вели протоколов наших сходок, и даже говорить на политические темы запрещалось, даже названия у нас не было. И если бы другие нелегальные организации просуществовали столько же, сколько и мы, дошли бы до своего естественного предела, то и они поняли бы невозможность и ненужность нелегальщины. Пришли бы к этому, так сказать, экспериментально.
Нам повезло больше – мы пережили этот опасный этап в раннем возрасте. И уж много позднее, совсем в другие времена, поняли другую, еще более важную истину: к демократии не идут подпольным путем. Нельзя учиться у врагов, если хочешь быть не таким, как они. Подполье рождает только тиранию, только большевиков любого цвета. Тогда я лишь заметил, что наш руководитель, получив в руки безграничную власть подполья, больше думал о личной своей власти, чем о судьбах мира. Но я еще не сообразил, что наткнулся на непреложный закон, а подумал только: «Для чего ж ему все это нужно?»
Но все это было прелюдией, не более чем разминкой. Счет еще открыт не был. Я, можно сказать, только карабкался на сосну, а пресловутая колода еще не сделала первого взмаха. Тут, однако, неожиданно для себя я толкнул ее, безо всякой мысли и намерения.
Я учился уже в последнем, десятом, классе, когда мы с ребятами забавы ради выпустили литературный журнал. В этом году в школе, после многих лет нудного изучения положительных и отрицательных образов у классиков русской литературы, давался очень краткий разбор литературных направлений начала века. Конечно, нам объясняли, что это была вовсе не литература, а так, вредная для народа словесная эквилибристика и что партия подвергла ее справедливому осуждению. Попутно давались некоторые примеры этой вредной эквилибристики, вызвавшие необычное возбуждение в классе. Все принялись сочинять пародии, подражая им, и, разумеется, вплетали сюда школьную тематику.
Мы настолько увлеклись, что сами не заметили, как получился журнал. Кто-то достал пишущую машинку, кто-то предложил свои услуги в качестве иллюстратора, все же остальные были авторами. Наша десятилетняя скука неожиданно вылилась в довольно ехидную пародию на школьную жизнь, отчасти и на советскую жизнь вообще.
В последние годы бесконечно вводились какие-то реформы в системе школьного образования. Они не делали обучение интересней или разнообразней, а вносили в него дополнительные нелепости и глупости, очевидные даже нам. Например, решено было где-то наверху, что школа слишком оторвана от жизни, а выпускники школ не приучены к труду, поэтому ввели нам уроки труда, а затем и трудовую практику. Один год мы должны были работать на заводе, летом другого года нас отправили в подмосковный совхоз. Это действительно расширило наш кругозор, однако совсем не в том смысле, как планировала мудрая партия.
Работая на автобусном заводе в Москве, мы впервые увидели, что такое советское предприятие с его показухой, обманом и принуждением. Прежде всего мы не обнаружили никакого трудового энтузиазма. Никто не торопился работать, сидели больше в курилке и только при появлении мастера разбегались по рабочим местам. «За такие-то деньги куда торопиться? – говорили работяги. – Работа не волк, в лес не убежит!» С утра почти все были пьяны или с похмелья, и в течение дня кто-нибудь периодически отряжался за водкой через забор.
Из всего цеха только один мужик лет сорока всерьез пахал, не отходя от станка. Все остальные его люто ненавидели и, показывая на него, многозначительно крутили пальцем у виска. Ему норовили сделать гадость: незаметно сломать станок или украсть инструмент. «Что, в передовики рвешься, норму нагоняешь?» – говорили злобно. Оказалось, что если кто-нибудь один перевыполнял норму, то на следующий месяц норма повышалась для всех, и за те же деньги приходилось работать вдвое больше.
Мы быстро усвоили стиль работы и распространенную у них песенку:
Сверху молот, снизу серп —
Это наш советский герб.
Хочешь – жни, а хочешь – куй,
Все равно получишь х…
Рабочий-токарь, к которому меня приставили в ученики, молодой парнишка чуть постарше меня, выполнял норму весьма своеобразно. Получив задание от мастера, он только делал вид, что работает. Улучив минуту, когда мастера не было поблизости, мы с ним крались к складу готовой продукции – большому сараю. В задней стене этого склада две доски свободно отодвигались. Мы ныряли внутрь, впотьмах находили нужные нам ящики и распихивали по карманам готовые детали. Затем окольным путем возвращались в цех и остаток рабочего дня проводили, почти не вылезая из курилки. Думаю, не один мой «наставник» был такой хитрый.
Мы с ним были самые молодые в цеху, и, естественно, за водкой посылали кого-нибудь из нас – второй оставался у станка и делал вид, что выполняет норму. К концу дня все оживлялись, двигались веселее, постоянно уходя куда-то из цеха. Возвращались с какими-то свертками и коробками, затем опять же кто-нибудь из нас с напарником лез через забор, а нам аккуратно передавали эти свертки. Сами же выходили через проходную и потом забирали у нас свою добычу. Крали практически все, что можно было так или иначе продать на толкучке или приспособить в хозяйстве. Однажды украли целый мотор от автобуса, другой раз – рулон обивки для автобусных сидений. А уж всякой краски, эмали или деталей мотора сосчитать нельзя было. При этом по всему заводу висели красочные плакаты и лозунги: «Дадим! Догоним! Перегоним!», диаграммы роста и улыбающиеся чистенькие рабочие с засученными рукавами. На плакатах страна неудержимо рвалась к вершинам коммунизма.
Приобщение к сельскохозяйственному труду было не менее убедительным. В подмосковный совхоз привезли нас к вечеру и поместили в барак. Ночь мы переспали на нарах. Чуть свет проснулись от оглушительной сверхъестественной матерщины. Высыпав из барака, мы увидели, как два десятка баб грузили лопатами на машины абсолютно гнилую картошку и материли Хрущева – просто так, чтобы облегчить работу.
– Никита, туды его и сюды! – галдели они. – С Катькой Фурцевой развлекается себе, боров жирный, и горя ему мало, а мы своих мужиков по неделям не видим. День и ночь эту …ую картошку грузим, так ее и сяк! Сюда б его, этого Хрущева!
Эту самую картошку везли на поля и там сажали. Что уж из нее могло вырасти? Это, однако, никого не интересовало. Как объяснили нам мужики, платили им сдельно за каждую тонну посаженной картошки, урожай их не интересовал. Скоро завернули холода, зарядили дожди, нас гоняли полоть вручную свеклу. Это занятие казалось нам совершенно нелепым, да так оно и было: послали нас туда, лишь бы чем-нибудь занять, результаты никого не интересовали. Разумеется, весь совхоз также был увешан плакатами и транспарантами, диаграммами роста и изображениями тучных коров и пышных доярок.
Грязь была непролазная, и за водкой ездили только на тракторе. С удивлением узнали мы, что уволиться, уехать из совхоза рабочие не могли – им не давали на руки паспорта. А без паспорта человек оказывался вне закона, первый попавшийся милиционер в городе мог арестовать его. Нельзя без паспорта устроиться и на другую работу. Молодые ребята нашего возраста, как спасения, ждали, чтобы их забрали в армию: после армии у них был шанс не вернуться домой, а устроиться где-нибудь в городе. Молодые девчонки мечтали лишь о том, как бы выйти замуж за городского и уехать. Пьянство, драки, поножовщина были делом обычным.
Все эти впечатления в наш журнал не попали – мы просто не считали, что это имеет отношение к литературе. Но косвенно, помимо воли, наше отношение к жизни сквозило в каждой строке. Были и двусмысленные шутки, пародии и насмешки над штампами советской пропаганды, вошедшими в литературу. Однако никто из нас не предполагал придавать журналу политическое звучание – это была просто забава.
Закончив журнал, мы созвали оба десятых класса после уроков в пустом классе и пригласили двух учителей – литературы и истории. Один из нас, считавшийся хорошим актером, прочел журнал вслух под всеобщий хохот. Все были очень довольны нашей затеей. Однако, оглянувшись назад, на учителей, мы с удивлением обнаружили, что они вовсе не смеются. У обоих лица были вытянутые и бледные. Буквально трясущимися губами они стали уверять нас, что журнал неудачный, шутки плоские, а все вместе – политически неправильно.
Видя своих учителей такими перепуганными, мы притихли. Всем стало жутко неловко, а главное – непонятно, что произошло. По домам расходились с таким чувством, будто кто умер.
Учился я в это время уже в другой школе. Года за два до журнала отец получил новую квартиру, и мы переехали в другой район, на Кропоткинскую. В нашей школе училось много ребят из семей крупных партийных работников, и школа считалась передовой. Ребята, видимо, рассказали о журнале дома, родители встревожились, и разразился скандал. Что ни день, в школу приезжали какие-то высокие комиссии, нас стали вызывать для расследований и обсуждений, и было дико видеть, как учителя, на которых нам полагалось смотреть снизу вверх, теперь глядят на нас со страхом, почти с ужасом. Вся школа ходила притихшая. Шепотом говорили, что наше дело разбирается где-то в ЦК.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































