Читать книгу "Певцы и вожди"
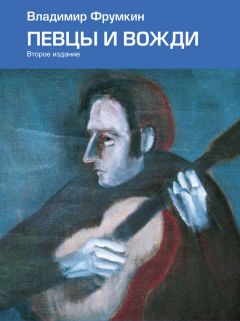
Автор книги: Владимир Фрумкин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Часть II. Рожденная свободной
«Но первым запел менестрель…»
Вместо предисловияВсе произведения мировой литературы я делю на разрешеные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух.
Осип Мандельштам, «Четвертая проза»
Мой роман с гитарной поэзией не был любовью с первого взгляда. Броситься ей навстречу сломя голову мне помешала профессиональная однобокость, музыкантская привычка слушать и оценивать песню как сочинение преимущественно музыкальное: оригинальна ли мелодия, хорошо ли она гармонизирована, интересен ли аккомпанемент. И когда в самом начале 60-х я услышал едва различимую сквозь шипение и треск безбожно заигранную магнитофонную запись первых песен Окуджавы, то искры она, увы, не высекла, чуда не произошло. Было, скорее, недоумение, вызванное отчасти тем, что моя коллега, музыковед Людмила Михеева, одалживая мне пленку, чрезмерно подогрела мои ожидания. Люда, как видно, приобщилась к новому жанру раньше меня – либо быстрее, чем я, раскусила его природу и могла наслаждаться свежестью талантливых и смелых стихов, прощая поэту некоторое однообразие мелодий, бедность гармонии и незамысловатость гитарного аккомпанемента.
Лед тронулся, когда я начал встречаться с живым исполнением «поющихся стихов». По прихоти судьбы первое такое исполнение я услышал осенью 1963 года от 23-летнего Иосифа Бродского, когда мой друг Александр Рут штейн пригласил его к себе на ужин с тайным намерением записать чтение молодого, но уже знаменитого в мире «второй культуры» поэта на магнитофон, привезенный для меня Аликом из командировки в Литву[88]88
А. Рутштейну Бродский посвятил стихотворение «Описание утра» 1960 года («Как вагоны раскачиваются, / направо или налево»).
[Закрыть]
Когда все было выпито и съедено, а магнитофон включен, Бродский читать наотрез отказался, но выразил желание спеть и, усадив меня за пианино, неожиданно начал:
Я и Рабинович раз пошли на дело.
Рабинович выпить захотел…

Иосиф Бродский
После «Мурки», переделанной на еврейский лад и спетой с необычайным напором и страстью, хотя и не без иронии, Иосиф переключился на песни и стихи своего друга Глеба Горбовского, автора знаменитой «Когда качаются фонарики ночные» на мелодию известного фольклорного шедевра «Костюмчик серенький, колесики со скрипом / Я на тюремную хламиду променял». «Фонариков» Бродский петь не стал, зато выдал нам каскад других, тогда еще малоизвестных песен Глеба:
На диване, на диване, на диване мы лежим, художники.
У меня, у меня да и у Вани протянулись ноженьки…
Он вез директора из треста на «Волге» цвета изумруд.
Не суждено было до места доехать тем, кого везут…
У помещенья «Пиво-воды»
стоял непьяный часовой…
Пел Бродский как-то по-особенному: он шел за словами, смаковал их, выделял удачные поэтические находки, радовался отступлениям от осточертевшего официального языка. Музыка при таком исполнении отступала на второй план, ее элементарность и неоригинальность уже не раздражали, казались вполне органичными. Почему «литературной песне» оказалась нужна именно такая музыка, мне еще предстояло понять…
Следующей ступенью моих «песенных университетов» стало знакомство и общение с авторами песен. Первым был Евгений Клячкин, который в один прекрасный день явился в ленинградский Дом композиторов на Герцена, 45 (ныне Большая Морская), чтобы брать уроки гармонии в семинаре самодеятельных композиторов. Я как раз вел этот предмет, и Женя попал ко мне.
Прошло два-три месяца, и я посоветовал своему ученику бросить это дело. Наши занятия походили на попытки засадить в клетку вольную пев чую птицу Я объяснил Жене, что каноны классической гармонии могут спугнуть его интуицию, что именно незнание этих канонов помогает ему находить свежие гармонические краски, прихотливые тональные сдвиги, каких и днем с огнем не сыщешь в песнях совет ских композиторов-профессионалов. Так или иначе, Клячкин, хотя и был по натуре упрям и обидчив, моим доводам внял и на Герцена, 45 больше не появлялся. Но мы продолжали общаться, Женя периодически показывал мне свои новые песни. Он был, несомненно, одним из самых музыкальных авторов в славной бардовской плеяде 60-70-х годов.

Евгений Клячкин
Как поэт он был слабее, и поэтому на меня, уже начинавшего понимать литературную природу нового жанра, производи ли большее впечатление его песни и композиции на слова Бродского, которые Клячкин, презрев грозившие ему неприятности, исполнял на своих концертах, гигантски расширяя круг поклонников опального поэта.[89]89
Автор стихов, однако, клячкинские трактовки категорически не принимал. Более благосклонно отнесся Иосиф к музыкальной версии своего «Рождественского романса», принадлежащей высокоталантливому ленинградскому композитору Борису Тищенко, который включил стихотворение Бродского в вокальный цикл «Грустные песни» для сопрано и фортепиано. Возможно, поэта подкупило то, что Тищенко, не мудрствуя лукаво, заимствовал у Бродского его собственный мотив, на который тот полунапевал-полудекламировал свое стихотворение.
[Закрыть] «Кого вы больше всего цените из ленинградских бардов?» – спросил я однажды у Высоцкого. «Пожалуй, Клячкина, – ответил Володя. – Такая интересная музыка у него, прямо завидки берут».
Вот тебе и раз, подумал я. У Высоцкого – комплекс музыкальной неполноценности?! А так ли уж нужна ему другая музыка, более разнообразная и тонкая? Разве его собственная музыка, при всей ее формульности, при всем том, что одни и те же мелодии и гармонии варьируются у него в самых разных песнях, – разве она не усиливает многократно воздействие стиха?
Я это почувствовал даже в весьма будничной ситуации, когда Высоцкий пел не на публику, а для одного меня: я должен был по его просьбе сделать нотную запись нескольких его песен. Дело происходило на квартире молодого ленинградского физика и выдающегося коллекционера бардовской песни Михаила Крыжановского. Высоцкий написал эти песни для кино, они были приняты, прошли цензуру, но в бухгалтерии ему сказали, что заплатят только за слова: «За музыку получишь, если представишь клавир»… Записывать за Высоцким оказалось не так просто: пел он хотя и вполсилы, гораздо сдержаннее обычного, но все равно излучал магнетизм, его голос завораживал, отвлекал от нотной бумаги… Нечего и говорить, что, взглянув на результат своего труда, на эти палочки и хвостики, долженствовавшие запечатлеть мелодии Высоцкого, я не поверил своим глазам, настолько они не передавали и тысяч ной доли того, чему я только что был свидетелем.

Владимир Высоцкий
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный…
Эти пушкинские строки вспоминаются мне всякий раз, когда я вижу нотную запись «поющихся стихов» наших лучших бардов. Ибо у каждого из них – своя манера подачи, сугубо своя интонация, своя звуковая атмосфера, неповторимая «тональность души», которую никак не передать абстрактными значками на бумаге.
Похожая сцена состоялась у меня с Александром Городницким, который попросил меня записать три-четыре песни для регистрации в Управлении по охране авторских прав.
Тогда одним моментом писал он мне клавир,
а после документы отнес свои в ОВИР…
– вспоминал Алик через много лет в стихотворении, которое начиналось так:
Жилв Питере когда-то мой друг-музыковед.
В Соединенных Штатах живет он много лет…

Александр Дулов, Александр Городницкий, Анна Наль. Ноябрь 1991
Цепкая память Городницкого сохранила и другой эпизод моей песенной биографии, который стал для меня чем-то вроде шоковой терапии: первый из цикла абонементных вечеров-концертов «Молодость, песня, гитара» в клубе «Восток» при Доме культуры пищевой промышленности на улице «Правды». Вести эти вечера (в зале на 900 мест) пригласили меня, а вскоре и литературоведа Юрия Андреева с условием, что, помимо «самодеятельных песен», в концертах будут звучать и произведения профессионалов – членов творческих союзов. Первый вечер – дискуссию (он состоялся 20 октября 1965 года) было решено построить так: в первом отделении выступают барды (москвич Александр Дулов и ленинградцы Борис Полоскин, Евгений Клячкин, Валентин Вихорев, Виталий Сейнов и Валерий Сачковский), во втором – композитор Андрей Петров и поэт-песенник Лев Куклин.
В своей мемуарной книге 1991 года «И вблизи, и вдали» Городницкий приводит мое вступительное слово к концерту, в котором я попытался обосновать этот взрывоопасный замысел:
«Нам хотелось бы слить воедино… две песенные культуры, которые до сих пор существовали и развивались параллельно… Мне вспоминается почему-то такое сравнение: торжественное открытие канала, который соединяет две реки… Вынимается последний кубометр земли… и две реки благодарно сливаются вместе. Правда, бывают два способа: либо взорвать перемычку, либо вынуть оттуда последний оставшийся кубометр. Нам хотелось бы надеяться на мирный способ. Цель этих вечеров будет достигнута, если и те, и другие – и профессиональные, и самодеятельные авторы – почерпнут для себя много нового и свежего. В этом случае не останутся в накладе и зрите ли…»[90]90
А. Городницкий, «И вблизи, и вдали», АО «Полигран», Москва, 1991, стр. 320. Расшифровка магнитофонной записи была сделана старейшим энтузиастом самодеятельной песни Н. Ф. Курчевым.
[Закрыть]
Мирного слияния, на которое я по наивности до некоторой степени рассчитывал, не произошло, да и не могло произойти. Зрители, среди которых преобладала научно-техническая молодежь, в накладе остались, структура вечера вызвала у них неподдельное недоумение, если судить по реакции зала, по выступлениям слушателей и их ответам на заранее розданные опросные анкетки. «Уважаемый музыковед Фрумкин! – прочитали мы в одной из них. – И вы серьезно можете говорить о тех и этих песнях? Это же несовместимо! Вы же умный человек, неужели вам не стыдно этого контра ста? Да, были и во втором отделении неплохие песни (хотя они и исполнялись манерно), но в общем – тягостное впечатление».
Еще два отзыва:
«Товарищи, где ваше чувство меры? Две половины вашего концерта не стыкуются. Публика смеется над вами. Нельзя путать настоящие песни с большим подтекстом с песнями эстрады».
«В дальнейшем не сочетать эстраду с самодеятельными песнями и их исполнителями. Сравнение – увы – не в пользу эстрады. Ей не хватает искренности и непосредственности».[91]91
Цит. изд., стр. 323.
[Закрыть]
Горькая пилюля пошла мне впрок. Нестыковка, несовместимость этих двух песенных потоков открылась для меня с потрясающей очевидностью. И вскоре, после двух-трех повторных попыток впрячь «в одну телегу… коня и трепетную лань», мы решили распрощаться с профессионалами – несмотря на сопротивление руководства ДК, смертельно боявшегося ленинградского партийного и гэбистского начальства, которое с повышенным вниманием относилось к тому, что происходило на улице Правды, 10. Так закончилась эта причудливая песенная схватка – советская версия турнира средневековых мейстерзингеров или трубадуров…
Песня негромкая, внешне неказистая явно превзошла свою самоуверенную соперницу, представшую перед публикой в блеске самых современных профессиональных доспехов. Чем же? Что притягивало этих студентов, инженеров, лаборантов, научных сотрудников, физиков и лириков, казалось бы, к эфемерной, наскоро слепленной, будто сымпровизированной песне? Оригинальное объяснение этого феномена дал в том же зале, но два года спустя Владимир Высоцкий.
1967 год. Ленинградская студия кинохроники снимает его выступление для фильма-диспута «Срочно требуется песня». Спев свою знаменитую «Но парус, – порвали парус!», Володя заговаривает об эстрадной песне, об информационной бедности ее текстов: «Есть, например, песня, которая начинается так: “На тебе сошелся клином белый свет. / На тебе сошелся клином белый свет. / На тебе сошелся клином белый свет, / Но пропал за поворотом санный след”… Никакой информации! И два автора там!»[92]92
Авторы текста М. Танич, И. Шаферан. Эта сцена описана А. Городницким в цит. изд., стр. 331.
[Закрыть]
У самого Высоцкого информации хоть отбавляй, ее плотность высока даже в его ранних песнях, виртуозно стилизованных под блатную лирику. Мое внимание на это обратил Юрий Кукин, рассказавший о том, как он, будучи в геологической экспедиции в Сибири, пел эти песни Высоцкого их героям – бывшим уголовникам. «Представляешь, они ничего не поняли. Не успевали за смыслом. Слишком много информации на единицу времени…»
«Информационный» подход к оценке песен, примененный Высоцким, подсказал мне идею доклада на музыковедческой конференции РСФСР в Ленинграде. Сообщение, которому я дал обтекаемое название, чтобы не насторожить устроителей конференции, состояло из сравнительного анализа «Песни о Родине» Дунаевского и Лебедева-Кумача и кукинской «Тридцать лет – это время свершений». Я попросил присутствующих заново вслушаться в слова классической советской песни и вдуматься в то, что они нам сообщают. Начал я с припева, который здесь, вопреки общепринятой традиции, не замыкает, а открывает куплет песни:
Широка страна моя родная.
Много в ней лесов, полей и рек…
«Есть ли здесь свежие мысли? Яркие образы? – спрашиваю я. – Нет, здесь, скорее, простая констатация общеизвестных истин, перечисление фактов, как в географическом справочнике. А следующие две строки и того хуже, ибо несут явную дезинформацию, откровенную ложь, тем более непростительную, что написаны они были в кровавые годы Большого террора:
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек…
Пройдясь затем по тексту запева с такими его перлами, как «Человек проходит как хозяин / Необъятной Родины своей»[93]93
«Эту фразу можно считать правдивой лишь в одном случае: если под хозяином имелся в виду Иосиф Сталин», – не преминул заметить докладчик…
[Закрыть] или «С каждым днем все радостнее жить», я представил застывшей в недоумении аудитории песню Юрия Кукина, насыщенную свежими образами, яркими метафорами, нетривиальными мыслями:
Тридцать лет – это время свершений.
Тридцать лет – это возраст вершины.
Тридцать лет – это время свержений
Тех, кто раньше умами вершили…
Лишь много позже до меня дошло, что поступил я не вполне корректно, сравнив, как говорят американцы, «яблоки с апельсинами»: глубоко личный по тону, лирико-философский монолог Кукина – с гимнической песней, рассчитанной на массовое исполнение. Не сообразил я тогда. Уж очень хотелось показать коллегам-профессионалам достоинства презираемого ими жанра…
Но чтобы успешнее защищать гонимую песню и отстаивать ее право на существование, мне нужно было глубже понять ее природу и найти ей законное место в истории культуры. Эти поиски привели меня однажды в Тарту, к Юрию Лотману, хотя он и предупредил меня в письме, что всерьез об этом загадочном жанре пока не задумывался. Но добавил, что если я приеду, то охотно со мной поговорит. Юрий Михайлович принял меня в своем университетском офисе. Этот гигант аналитической мысли был мал ростом и необычайно подвижен – разговаривая со мной, он непрерывно расхаживал из угла в угол, рассекая воздух своими роскошными усами…[94]94
Уже тогда, в конце 60-х, Лотман был фигурой почти легендарной. Помню, что строчку из чудесной песни Новеллы Матвеевой «Братья-капитаны» «Какую глубь еще покажет лот нам…» я и мои друзья, не сговариваясь, переиначили так: «Какую глубь еще покажет Лотман…».
[Закрыть]
Я начал со слов, услышанных от Городницкого, – о том, что в определен ной обстановке, в узком кругу единомышленников, чтение стихов вслух звучит менее естественно, чем их напевание, особенно если используешь мотивы, привычные для таких посиделок: задушевные, интимные, простые. Городницкий убедился в этом на собственном опыте, когда стал сочинять свои первые песни и напевать их товарищам по геологическим экспедициям. После этого вступления, закончившегося вопросом: «А не здесь ли кроет ся разгадка природы жанра, не есть ли это форма бытования неофициальной поэзии, своего рода “поющийся стих”?», и забегал Лотман по кабинету, рассыпая фейерверк идей и догадок: новый вид устной поэзии, возникший в послесталинской России… возрождение, в новых условиях, искусства мейстерзингеров и трубадуров… музыка у поющих поэтов – средство коммуникации, она «доставляет» стих слушателю, но, очевидно, вносит в художественное целое и некий смысловой элемент, дополнительные эмоциональные краски… Шла у нас речь и о том, что не всякая музыка годится для этой роли, а та, что прочно связана с бытом… В ход идут интонации вальсов, танго, старинного русского и цыганского романса, песен городских окраин и русской эстрады начала XX века, «песенок настроений» Александра Вертинского…
Тогда еще мне было невдомек, что в поисках подходящих напевов наши авторы иногда припадают к источникам из более высоких сфер. «Знаешь, откуда я, оказывается, взял начало для своей “От злой тоски не матерись”? – спросил меня однажды Городницкий. – Из финала бетховенской 17-й сонаты. Та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та…»
И в самом деле, взволнованный, упругий четырехзвучный мотив, открывающий финал гениальной 17-й сонаты, начинает одну из самых известных песен Городницкого, давно потерявшую автора и ставшую частью фольклора. У Бетховена он повторяется троекратно, а у Городницкого (в слегка замедленном виде) – дважды:

Обращался к классике и Александр Галич. Начальный мотив вагнеровского «Полета валькирий» послужил отправной точкой напева его «Аве Марии», замыкающей шестичастную «Поэму о Сталине» (в этой же песне цитируется «Аве Мария» Шуберта). Романс Рахманинова «Полюбила я на печаль свою» стал мелодическим прообразом галичевской «Песни об отчем доме». А сколько перекличек с музыкой разных стран и народов слышится у Новеллы Матвеевой, которая по разнообразию мелодических истоков, пожалуй, превзошла всех своих коллег по «авторской песне», включая и таких музыкально одаренных, как Ким и Окуджава! При этом она (инстинктивно? намеренно?) сторонится всего банального, избегает упрощенных и заезженных мелодико-гармонических формул.

Новелла Матвеева. Начало 70-х
Не случайно, что именно ее захотел послушать Альфред Шнитке, который в моем присутствии провел целый вечер у на редкость «распевшейся» Новеллы. Привела его к ней музыковед Татьяна Александровна Лебедева, заведующая книжной редакцией издательства «Музыка» и страстная поклонница бардовской песни. Сочинения «авангардиста» Шнитке (буду щей звезды мировой музыки!) почти не исполнялись, но его иногда приглашали писать для кино. По мысли Лебедевой, близкое знакомство с песнями Новеллы должно было послужить хорошей школой для начинающего автора киномузыки и помочь ему найти более простой, доступный и в то же время чистый, безукоризненный по вкусу интонационный язык. Песня следовала за песней, Шнитке слушал сосредоточенно, не шелохнувшись. Иногда мы переглядывались – после нестандартного поворота мелодии, свежей модуляции, необычного аккорда: ведь все эти «вкусности» не были изготовлены по профессиональным рецептам, они рождались на ощупь, по наитию, интуитивно.
Однажды, в очередной приезд в Москву, я пришел к Новелле с уже упомянутым мной Александром Рутштейном и, стараясь быть не слишком назойливым, попросил ее почитать нам стихи. И услышал в ответ поразившую меня фразу: «Знаете, я лучше спою. Когда читаешь, кажется, что ты навязываешься, заставляешь себя слушать. А вот петь легче, потому что я это делаю как бы для себя самой, просто напеваю, а если кто-то хочет – пожалуйста, это его дело, пускай слушает…».
Мысль, похожая на ту, что я сообщил Лотману, сославшись на Городницкого: поэт, напевая стих, чувствует себя (особенно в узком кругу) комфорт нее, чем когда декламирует его. Но выигрывает и слушатель – и прежде всего тот, перед которым не «живой» исполнитель, а магнитофон: такой способ общения с гитарной поэзией был в те годы преобладающим. Неда ром же появилось тогда словечко «магнитиздат».
Немало интересных наблюдений и мыслей высказала Новелла через несколько лет в эссе, которое она написала в защиту свободной песни. Поводом явилась моя статья в журнале «Советская музыка» (октябрь 1969) о новом сочинении Матвея Блантера: немолодой уже мастер массовой пес ни решил бросить вызов Окуджаве, написав новую музыку к пяти широко известным песням Булата.[95]95
Подробнее об этом – в главке «Между счастьем и бедой».
[Закрыть]
Редакция журнала поместила в том же номере свою статью под суровым названием «Ответ перед будущим» и предложила читателям включиться в спор. Новелла разразилась пространным и ярким эссе. Ей вежливо разъяснили, что в таком виде статья напечатана быть не может: нужно кое-что переписать, смягчить формулировки… Новелла пред ставила новый вариант, потом еще один, но результат был тот же: ее «крик души» до читателя так и не дошел. Вскоре по моей просьбе она написала другую статью – для сборника «Поэзия и музыка», который я составлял для издательства «Музыка» (Москва). Новелла назвала ее «Как быть, когда поется»
Увы, книга вышла в свет без этой статьи, она показалась начальству слишком смелой и неординарной.
Через некоторое время я получил от нее письмо: «Вот вам стихи взамен тех злополучных статей». Стихотворение называлось «Ласточкина школа». Так же был озаглавлен и новый сборник ее стихотворений, который Новел ла прислала мне незадолго до моего отъезда в эмиграцию. Нахожу стихотворение, давшее название сборнику. Над ним надпись: «Владимиру Фрумкину»… Посвящение проскочило чудом: к тому времени всё, что было написано мной, даже в соавторстве, было убрано из книжных магазинов и изъято из библиотек. К счастью, прорвалось сквозь заслон большое (из восьми строф!) стихотворение, в которое вошли крамольные мотивы отвергнутых статей, превратившихся под рукой поэта в гимн свободе, в песнь о неотъемлемом нашем праве слагать и петь свои песни, не оглядываясь на авторитеты:
Ударила опера громом
Над миром притихшим и серым,
Над племенем, с ней незнакомым.
Но первым запел менестрель.
Но первая песня – за нищим,
Но первая – за гондольером,
За бледной швеей, за старухой,
Качающей колыбель…
Журчит – пробивается к свету,
Сочится из каменной чаши…
Бежит – прорывается к свету,
То руслом пойдет, то вразброс…
Поэмы – аббатства большие,
Романы – империи наши,
Симфония – царство мечтаний,
А песня – республика грез.
………………………..
Не нам шлифовать самоцветы.
(И думать-то бросим!)
Не нам шлифовать самоцветы
И медные вещи ковать:
Ремесла сначала изучим. Но песню, –
Но песню споем – и не спросим;
Нас ласточка петь научила,
И полно о том толковать!
Напрасно сухарь-мейстерзингер
Грозит нам из старых развалин,
Напрасно перстом величавым
Нам путь указует педант:
Волов погоняющий с песней
Цыган – непрофессионален,
Простак-соловей – гениален,
У жаворонка – талант.
И парии нет между парий
(Бродяг, дервишей, прокаженных,
Слепых, на соломе рожденных
Под звон андалузских гитар),
Босейшего меж босяками,
Дерзейшего из беззаконных,
В чьем сердце не мог бы открыться
Таинственный песенный дар…
Помню, что мое внимание тогда особенно привлекла четкая до резкости мысль, замыкающая четвертую строфу:
Как синее небо смиренна,
Проста и смиренна.
Как синее небо смиренна,
Как небо горда…
Ее распевает извозчик,
Погонщик поет вдохновенно…
Но жуткая тишь на запятках:
Лакей не поет никогда.
Тысячу раз права Новелла: свободная песня – не для лакеев, она творится свободным человеком для свободных людей.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























