Читать книгу "Певцы и вожди"
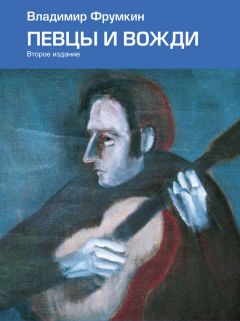
Автор книги: Владимир Фрумкин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Между счастьем и бедой…»
Приезжал твой племянник. Его молодая жена, на вопрос о профессии, сказала: «Я поэт».
Вышло очень смешно и грустно.
Я не сдержался и мягко заметил ей, что даже Пастернак не говорил о себе: я – поэт. Она удивилась.
(Из письма Булата Окуджавы, 1979)
Песня на пари
Булат как-то рассказал мне, что первую свою зрелую песню (если не считать «Неистов и упрям», которая появилась у него «совершенно случайно» в Тбилиси в 1946-м) написал на спор с приятелем. Сидел с другом в московской квартире при включённом радио. Играли какой-то советский шлягер середины 1950-х, и приятель, поморщившись, заметил, что песня, наверное, обречена быть глупой. Булат возразил, предложил пари и написал нечто такое, что друг был посрамлён.
Что это была за песня, Булат вспомнить не мог:
– Кажется, шуточная…
Он всегда отчётливо сознавал ту грань, которая отделяла его изящные песенные миниатюры от изделий советской эстрады.
– До этого в большом ходу были песни официальные, холодные, в которых не было судьбы, – сказал он однажды. – …Я стал петь о том, что волновало меня…
Через много лет я внёс эти слова в первый американский сборник его песен. Об официальной песне Булат сказал достаточно ясно, но сдержанно. Галич отзывался об этом предмете резче: «Даже название у неё отвратительное – “массовая песня”!» – заметил он в ходе дискуссии после моего сообщения «Музыка и слово» на конференции под Петушками в мае 1967 года. Любил повторять крылатую фразу, брошенную американкой Малвиной Рейнолдс, исполнительницей песен протеста: «Нам слишком долго лгали хорошо поставленными голосами». Мнение Окуджавы о феномене идеологизированной советской песни было примерно таким же, в чём я убедился в 1983-м, позвонив ему в Москву из Оберлина вскоре после выхода в свет (в 5-м и 6-м номерах парижского «Обозрения») моей статьи «Технология убеждения. Заметки о политической песне». Ответила Ольга – и сходу заговорила о том, как я их порадовал своей публикацией. Я не сразу понял, о чём речь: не представлял, что у них мог оказаться в руках свежий тамиздатский журнал. Потом трубку взял Булат и с нехарактерной для него горячностью стал говорить о том, что вот наконец-то появилась серьёзная, точная и бескомпромиссная оценка советской песни. Прошло несколько лет, наступила «гласность», и он снова вспомнил о той статье:
– Да-а-а, времена меняются, теперь она уже не звучит так остро, как тогда, в брежневско-андроповские годы…
Судьба свела меня с Булатом в Москве осенью 1967-го. После моего звонка о том, что вместе с молодым музыковедом Борисом Кацем и молодым филологом Александром Долининым я готовлю для издательства «Музыка» сборник из двадцати пяти его песен с мелодиями и буквенным обозначением гармонии и хотел бы задать ряд вопросов их автору, Булат Шалвович назначил мне встречу у входа в ЦДЛ.[96]96
Издательство согласилось на эту затею благодаря усилиям музыковеда Татьяны Александровны Лебедевой (1921-1990-е), которая заведовала книжной редакцией «Музыки».
[Закрыть] По дороге туда я волновался, как юноша. БШ был приветлив, мягок, идею благословил, согласился помочь, пригласил заходить к нему домой. И всё же – доля первоначального волнения, трепета, робости, смешанной с обожанием, осталась у меня навсегда. Он был для меня существом высшего порядка, непостижимым образом соединившим в себе огромный поэтический дар с безошибочной музыкальной интуицией, которой отмечены и его мелодии, и то, как органично слиты они со словами его песен, и то, как он эти мелодии интонировал, и даже то, как бережно касался гитарных струн своими отнюдь не обученными этому ремеслу пальцами. Вроде и на «ты» перешли, и знакомство переросло в дружбу, а дистанция преодолевалась туго, миллиметр за миллиметром.
Через десять месяцев после нашей первой встречи, 23 июля 1968 года, на странице с открывавшей рукопись «Песенкой об открытой двери» главный редактор отдела массовых жанров «Музыки» В. П. Букин размашисто, красным карандашом, начертал многообещающее «В набор». До набора, однако, дело так и не дошло. Вместо типографии рукопись попала в письменный стол директора издательства К. А. Фортунатова, где пролежала несколько лет, пока я не забрал её перед своим отъездом в Америку. Там сборничек из двадцати пяти песен разросся в две книги, любовно изданные в 1980 и 1986 годах Карлом и Эллендеей Проффер, основателями легендарного «Ардиса», на двух языках, с нотами, фотографиями и не публиковавшимися ранее высказываниями поэта. Первая («65 песен») открывается «Несколькими словами о Булате Окуджаве», написанными по моей просьбе Александром Володиным перед моим отъездом из СССР и переправленными в Америку окольными путями. Список песен я согласовал с их автором (попытки выяснить с ним абсолютно точные даты их создания мало что дали. Такие вещи его слабо интересовали, вот и письма свои он тоже не помечал датами). Булат всё принял и одобрил.
С фотографиями для первой книги мне помог мой друг Владимир Ковнер – инженер, коллекционер, переводчик, автор большого очерка «Золотой век магнитиздата» (http://www.obivatel.com/artical/323.html); для второй – сам Булат. Их взяла у него в Москве студентка Оберлинского колледжа Джуди Забаренко, которая, возвращаясь домой после семестрового курса русского языка в Ленинградском университете, пронесла через таможню солидную пачку снимков, спрятав их на спине под джинсовой рубашкой… Обложку «65-ти песен» украсила фотография: Окуджава прощается с кем-то невидимым, садясь в свою машину. Сзади, на другой стороне улицы – московский троллейбус (не синий и не последний…). Когда «Ардис» готовил второе издание первой книги (всего их вышло четыре, а второго тома – два), этот снимок Льва Полякова куда-то пропал, и мне удалось найти отличную замену: грустный и задумчивый Булат сидит на стуле посреди пустынного Арбата. По словам автора фотографии Льва Нисневича, он уговорил Булата Шалвовича приехать туда на рассвете, чуть ли не в пять утра. Выразительно и тепло написал об этой работе фотографа Василий Аксёнов в авторском предисловии «Булат и Арбат» к роману о шестидесятниках «Таинственная страсть».
Булат по моей просьбе пытался выяснить, какая инстанция погубила мою советскую книжку с его песнями. Узнал он следующее: её остановил не ЦК КПСС, а само издательство, убоявшееся гнева советских песенников – композиторов и поэтов, ревниво и нервно следивших за бурным развитием «магнитиздата». Так и получилось, что первое «музыкальное» издание песен Окуджавы вышло не на родине поэта, а в Польше (Okudzava В. 20 piosenek na glos i gitare. Krakow, 1970). Выполнено оно, однако, иначе, чем ардисовские сборники. Составители книги – В. Дабровский, В. Ворошильский и другие – по-видимому, хотели создать концертный вариант окуджавских песен: авторские мелодии и (особенно) аккомпанемент подверглись существенной переработке, которая далеко уводит от оригинала. Булат подарил мне её в Ленинграде 29 апреля 1971 года, надписав на титульном листе:
Дорогому Володе Фрумкину эту книжечку взамен многострадальной отечественной с самыми добрыми пожеланиями. Булат.
«Наверное, можно и так…»Вот если бы в решении судьбы «многострадальной отечественной» книжечки участвовал прославленный автор «Катюши», он, я думаю, отнёсся бы к ней доброжелательно. Матвей Исаакович Блантер был человеком благородным (говорят, он – чуть ли не единственный из коллег Шостаковича, кто осмелился поддерживать его морально и материально после Постановления ЦК от 1948 года «Об опере Мурадели “Великая дружба”»).
К тому же он никак не мог заподозрить в Булате своего соперника по части музыки. «Я слышал, что вы благоволите этим самым “бардам”, – сказал мне Матвей Исаакович, когда нас познакомили во время поездки в Англию и Шотландию на Эдинбургский фестиваль в августе 1965 года. – Так вот, вам, полагаю, будет небезынтересно узнать, что я пишу цикл песен на слова Окуджавы. Зачем? Объясняю. Мне нравится его поэзия. Она настоящая, это не ремесленные потуги наших текстовиков, из-за которых молодёжь отворачивается от советской песни. Песне, как воздух, нужны хорошие слова, которые мы должны брать и у бардов, но – отбрасывая их музыку, потому что – какая же это, простите, музыка? Ведь у этих людей – никакого музыкального образования! Я, между прочим, специально выбрал те стихи Окуджавы, которые он поёт на свои мелодии – пусть увидит, как нужно писать песни!»
Года через три Булат рассказал мне, что был у Блантера дома, и тот исполнил его, Булата, песни, но с другой музыкой.
– Что же ты ему сказал?
– А я ничего не понял. Промямлил что-то вроде «наверное, можно и так…».
В следующий свой приезд в Москву встречаю Матвея Исааковича во дворе композиторского дома на улице Огарёва, которой теперь возвращено название «Газетный переулок». «Эх, жаль, что не приехали раньше! Вчера вечером у меня была в ЦДЛ премьера окуджавского цикла. Сам сыграл и спел». – «Ну и как?» – «Полный триумф! Видел в зале Булата, но он не подошёл – ревнует!»
Не в пример моему несостоявшемуся сборнику, пять окуджавских стихотворений, увенчанные музыкой знаменитого мастера, тут же были опубликованы и выпущены на пластинке в исполнении Эдуарда Хиля и эстрадного инструментального ансамбля «Камертон».
Конечно же, «можно и так». Но нужно ли? Искусству – вряд ли. Аналитику искусства – ещё как нужно! Матвей Исаакович подкинул мне благодатный, бесценный материал. Пусть земля ему будет пухом. Как явственно высветил он для меня самобытность окуджавской музыки!
Вдруг открылось, что простые напевы поэта бережнее, тоньше и многозначнее соединены со стихом, чем мелодии талантливейшего музыканта-профессионала. Блантер и Хиль втиснули окуджавскую лирику в абсолютно чуждую ей интонационную среду. Стихи зазвучали натянуто и плоско. Исчез подтекст, испарилась окуджавская щемящая ирония, пропало чувство меры. Там, где у Булата тихий и сдержанный марш («Песенка о ночной Москве»), у Блантера – сентиментально-страстное танго. Грустная и серьёзная «Песенка об открытой двери» превратилась в игривый вальс, а печально-ироническая баллада «Старый пиджак» – в бойкий водевильный куплет. Лишь в одной из пяти песен («В Барабанном переулке») композитор проявил жанровую чуткость и, как и Булат, выбрал неторопливый лирический марш.
Молодые слушатели, которым я во время своих выступлений (два из них шли в прямом телеэфире) проигрывал в записи обе интерпретации окуджавских стихов, реагировали живо и, как правило, отстаивали авторскую трактовку. Некоторые из высказываний я включил в свою статью для журнала «Советская музыка», которую напечатали только после того, как я согласился, чтобы вслед за ней шла «контрстатья» от редакции (Советская музыка. 1969. № 10). Моя статья называлась скромно: «Песня и стих». Редакционный ответ, написанный Лианой Гениной, был озаглавлен «Ответ перед будущим». Новелла Матвеева, поверив призыву журнала вступить в полемику, разразилась большим эссе, которое было отвергнуто…
Булат смотрел на развитие событий с усмешкой, сохранял нейтралитет. Он и так был убеждён (и совершенно справедливо), что композиторы-профессионалы (кроме одного – Исаака Шварца) искажают интонацию его стиха. Придирчиво прислушивался и к тому, как его песни исполняли другие. В 1979-м, когда Булат был гостем филиала Калифорнийского университета в городе Эрвайн (Irvine), Елена Вайль, глава русской программы, приглашавшая меня несколько раз с лекциями-концертами, проиграла ему запись моего пения. По её словам, Булат слушал с интересом, но в конце заметил, что интонация не совсем верная, не авторская. Позднее он сам рассказал мне об этом эпизоде, посоветовал поработать над тоном подачи.
Через восемь лет произошёл другой эпизод, не совсем для меня понятный. Мы с женой Лидой и дочкой Майей привезли Булата из Оберлина в вирджинский пригород Вашингтона Маклейн, в дом наших друзей Владимира и Анны Матлиных. «Булат попросил поставить кассету с его песнями в исполнении дуэта – автора этих строк и его девятилетней дочери» – так я написал в воспоминаниях, опубликованных в сборнике «Встречи в зале ожидания». Но В. Матлин и Лида утверждают, что Булат попросил нас спеть. Наверное, так и было. Слушал он, обняв за плечи Майку. Молча, сосредоточенно. За день до этого мы пели ему эти песни в Оберлине, а по дороге в Вашингтон, в машине, он захотел нас послушать в записи. Где-то на полпути мы предложили Булату «порулить», и он с готовностью согласился: водить машину он любил, а тут ещё такая возможность подвернулась – прокатить с ветерком по американской скоростной магистрали… Потом, у Матлиных, когда все уселись за стол, и произошёл тот самый не совсем понятный эпизод. Хозяин дома включил «Полночный троллейбус».
Булат недовольно протянул:
– Да не надо, надоело себя слушать.
– А это не вы, это Володя Фрумкин поёт…
Возвращаясь к Елене Вайль. Девичья её фамилия – Гармаш, родилась она в Днепропетровске и попала на Запад во время войны. В 1979-м была главной устроительницей первого визита Окуджавы в США. Её настойчивость, неукротимая энергия и воля помогли преодолеть все препятствия. Но эти же качества осложнили её отношения с независимым, свободолюбивым поэтом. Елена настояла, чтобы он жил в её доме, который находился в городе Коста Меса, в десяти милях от Эрвайна. По словам Булата, хозяйка как-то уж слишком плотно его опекала, и он потребовал, чтобы его поселили в отеле. Произошёл разрыв, о котором Булат, приехав к нам в Оберлин, говорил с горечью и раздражением, возвращался к этой теме несколько раз, поражался, каким нелёгким человеком оказалась его благодетельница… В 1987-м, в следующий свой приезд в Америку, он снова вспомнил о Елене, но на сей раз – с облегчением:
– Она прилетела в Москву, позвонила, попросила о встрече, я её пригласил к себе. Помирились. Как-то жалко её стало…
В последний раз они встретились в Лос-Анджелесе в мае 1987 года, за несколько дней до приезда Булата ко мне в Оберлин: после его концерта она въехала к нему за кулисы в инвалидной коляске, безнадёжно больная – рак… Моя последняя встреча с Еленой произошла в ноябре 1986-го в том же городе, на американской премьере (снятого с полки после пятнадцати лет запрета) фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах», главным оператором которого был мой приятель Яков Склянский. Я с трудом узнал её – в коляске, исхудавшую, с потемневшим лицом.
Кстати, у неё в доме, во время своего первого визита в Америку, Булат познакомился и с Яшей Склянским, и его женой Бертой (бывшими ленинградцами, переехавшими в Москву, а потом – в Лос-Анджелес). Быстро подружились. Летом 1991-го Берта приняла деятельное участие в добыче средств на предстоявшую Булату операцию. А также – в попытке экранизировать «Путешествие дилетантов». Яша рассказал Булату об этой идее годом раньше, найдя его (с моей помощью) в вермонтской Русской школе. Булат затею одобрил, но отнёсся к ней скептически, понимая, что заинтересовать ею Голливуд будет очень даже не просто (и, в конце концов, оказался прав). Ольга настаивала, чтобы Булат ответил отказом и отправил обратно присланный Яшей аванс за разрешение переработать роман в сценарий: «Пусть обращается не к тебе, а к твоему литературному агенту! Может, он на тебе нажиться хочет? Как и многие другие, которые всё норовят использовать твоё имя корысти ради».
Булат стоял на своём, коса нашла на камень:
– Яша? Друг? Нажиться, надуть? Да из этой затеи вообще вряд ли что выйдет! Может, он просто решил нам помочь материально?..
Произошла ссора, супруги не разговаривали несколько дней, даже в столовую ходили порознь…
А Елена Вайль умерла вскоре после встречи с Булатом, 1 августа того же года, в возрасте пятидесяти пяти лет.
«Родина, к сожалению, везде»Через шесть с половиной лет с момента нашего знакомства, 11 марта 1974 года, мы, получив визы в голландском посольстве, встретились на квартире моих друзей, московских музыковедов Даниила Житомирского и Оксаны Леонтьевой (они жили в «башне» возле метро «Щербаковская»), чтобы попрощаться перед моим отъездом в эмиграцию. У меня была с собой моя убогая шестиструнная советская гитара, на которой Булат начертал: «Родина, к сожалению, везде»… Надпись загадочна и многозначна, как и его лирика. Вначале я воспринял её как грустный намёк на то, что человек слишком уж легко привыкает к новым местам и забывает о местах родных. Много позже понял, кажется, истинный смысл булатовского напутствия: от России не скроешься, не убежишь, так и останется она с тобой, в тебе…
(Возле строчки Булата красуется полустёршаяся от времени надпись, оставленная за несколько часов до этого на прощальной вечеринке в другом московском доме: «Мало есть гитар – из деревообделочной промышленности – на которых бы я не тренькал. Это – одна из них. Галич». Александр Аркадьевич спел на прощание недавно написанную им пронзительную «Когда я вернусь», но для автографа обратился, по контрасту, к языку своих реалистических сатир…)
От Житомирских Булат отвёз нас с Лидой на своей машине на Ленинградский вокзал. Там и обнялись, на всякий случай – как в последний раз…
«…Объятья наши жарки от предчувствия разлуки…»Это было написано много позже, когда Булат получил по почте фотографию: лето 1991-го, священник Виктор Соколов и я стоим на поляне студенческого городка Норвичского университета в Вермонте (приютившего у себя в 1968 году Летнюю русскую школу, основанную за десять лет до этого русскими эмигрантами при колледже Wingham в городке Putney на юге Вермонта). В обратном адресе на конверте значилось: California. К тому же Булат знал, что о. Виктор, отправитель этого письма, получил приход в Святотроицком кафедральном соборе в Сан-Франциско. И хотя по поляне, обрамлённой общежитиями, он не раз проходил летом 1990-го, почему-то её не узнал и начал посвящённое нам обоим стихотворение так:
Калифорния в цвету. Белый храм в зелёном парке.
Отчего же в моём сердце эта горечь, эта грусть?..
Я уже писал о том, как объятья наши жарки
от предчувствия разлуки. Ничего, что повторюсь…
Рукопись стиха Булат вложил в очередное письмо. «Мы, затерянные где-то между счастьем и бедой…» – читаю во втором четверостишии. А в конце:
Я не знаю, где страшней и печальней наша драма,
и вернётесь ли обратно, я не знаю – не спросил.
Мы не раз говорили о том, где же она всё-таки страшней и печальней – там или здесь… (в опубликованном тексте строка зазвучала иначе: «Я не знаю, где точней и страшнее наша драма»). В начале 1970-х, как и многие наши сограждане, то и дело обсуждали вопрос «ехать – не ехать». Булат говорил, что для него отъезд исключён – по разным соображениям. Одно из них – здесь всё-таки привычнее: «пусть говно, но своё»…
Так или иначе, в стране, где я пишу эти строки, он словно бы оттаивал. Живо ею интересовался, расспрашивал, писал о ней стихи. Мне кажется, что перед первым свиданием с нами в Америке Булат немного нервничал: в каком мы окажемся виде на чужбине. В первом же письме из Москвы заметил: «Должен тебе сказать, что я остался доволен увиденным сверх ожидания. Ты мне понравился, Лида тоже».

С Ольгой Окуджава и автором воспоминаний на даче Натана и Вики Шиллер, Рэндолф, Вермонт, 1990. Фото А. Смирнова
Оба лета в 1990 и 1992 годах, проведённые Булатом при Русской школе в Вермонте, он пребывал в хорошей форме, был открыт и приветлив, гулял, работал, рассказывал смешные истории, иногда пел, читал стихи и прозу, общался со студентами и преподавателями, охотно приходил на обильные застолья. Во время одного из них объяснил мне, что можно смело пить подряд водку, коньяк, виски, ром, в общем – всё крепкое, либо – только всё слабое, но ни в коем случае не смешивать напитки разных уровней крепости. «Булат прав», – авторитетно кивнул Фазиль Искандер: он, как и Булат, дважды был гостем Норвичского университета, который летом 1990-го присвоил им обоим почётную степень доктора гуманитарных наук.

С Фазилем Искандером на даче Натана и Вики Шиллер, Рэндолф, Вермонт, 1990. Фото А. Смирнова
Церемония проходила второго августа в просторной университетской часовне, новоиспечённые доктора, облачённые в классические мантии, выглядели странновато, но держались с достоинством. В конце торжества их ждал сюрприз: десятка два студентов Русской школы, по моему знаку, грянули «Возьмёмся за руки, друзья». Булат, слушавший со слезами на глазах, потом признался, что хотя эта песня ему порядком надоела – уж очень её запели и зацитировали, – здесь, в этой обстановке, вдали от России, она пришлась вполне впору… В тот же день и в той же часовне он устроил свой творческий вечер. В первом отделении, по просьбе Булата, пели мы с Майей. Второе отделение он начал так: – Ну, после Майечки петь – трудновато будет… После концерта ко мне подошла недовольная Ольга: «А я разве не просила вас не петь “Молодого гусара”? Булат сам должен был его исполнить. Кроме того, там теперь не “в Наталию влюблённый», а “в Амалию”, запомните это». Почему произошла замена, я сообразил сразу. И пожалел: «Наталия» звучит лучше, теплее…

Окуджава и кролик на даче у Шиллеров. Вермонт, 1990. Фото А. Смирнова
Через несколько дней Булат отправился выступать к нашим конкурентам – в Русскую школу колледжа Миддлбери. Она, в отличие от Норвичской школы, всё ещё жива и здорова: в этом колледже, известном высоким уровнем преподавания иностранных языков, есть крепкая русская кафедра, обеспечившая круглогодичный приток студентов даже во время спада интереса к русскому языку, наступившего в Америке после краха СССР. Городок Миддлбери находится в пятидесяти милях на запад от Нортфилда – если ехать прямиком, через два горных перевала. Там, кстати, учился на китайском отделении старший сын А. И. Солженицына Ермолай, который перед этим провел лето в Норвиче, – записался в аспирантуру, несмотря на свой нежный возраст: было ему тогда пятнадцать лет… У меня он прослушал курс истории русского театра, писал толковые работы, умно и интересно выступал и получил в итоге вполне заслуженное «А».
В один из дней лета 1992 года Булат (впервые за двадцать пять лет нашего знакомства!) попросил меня записать «с голоса» мелодию его только что написанной песни:
– Боюсь забыть. Память никудышная стала. Листок с нотами повезу в Москву – там мне мотив Буля наиграет.
Пошли в гостиную, Булат сел к пианино, стал наигрывать и напевать, с остановками – чтобы я успевал записать напетое:
– Новая Англия. Старая песенка. Дождь. И овсяной лепёшки похрустывание, и по траве неизвестного хищника след…
Мелодия была в ритме вальса, минорная, меланхоличная, но подвижная, с мерными, настойчивыми повторами фраз. Вот ее запомнившееся мне начало:

Во время нашей следующей встречи в Америке я спросил Булата, довёз ли он до Москвы мелодию «Новой Англии». Он ответил, что довезти-то довёз, но она ему не пригодилась: придумал новый мотив, лучше прежнего. Спеть новую версию он тогда не смог, и я так и не знаю, сохранилась ли она в каком-либо виде: в нотной записи (рукой сына?) или на звуковой дорожке…
Звуками и ароматом Новой Англии проникнут и «Жаркий полдень в Массачусетсе», посвящённый приятельнице Булата, преподававшей русскую историю в Смит-колледже, расположенном в городке Нортхэмптон, в штате Массачусетс. Как-то во время прогулки по норвичскому кампусу Булат сказал, что хочет съездить к ней, благо это недалеко, два с половиной часа на юг.
– Помнишь, я тебе говорил про Джоан Афферика, но ты сказал, что не знаком с ней. Очень достойная женщина.
– А ты знаешь, как американцы произносят это имя? Джоун. Вот и другая американка, знаменитая Джоан Баез, которая поёт твой «Союз друзей», на самом-то деле – Джоун.
– Гм… Странно…
После этого визита и появился «Жаркий полдень в Массачусетсе», посвящённый… Джоан Афферика. Поэт остался верен привычному, русскому произношению популярного в Америке женского имени…
Булат и Фазиль (с жёнами, Ольгой и Антониной) охотно бывали у моих добрых друзей, Натана и Вики Шиллер, бывших москвичей, ставших бостонцами, а потом – и хозяевами дачи в вермонтском городке Рэндолф, до которого от Нортфилда – полчаса езды на юг. Познакомились они с Окуджавой летом 1990 года, когда приехали с дачи на его выступление в Русской школе. Так началась их дружба и регулярные встречи – не только в Америке, но и в Москве, куда Натан и Вика ездили по делам. Для гостей из школы (нас набиралось человек двадцать) хлебосольные хозяева накрывали под открытым небом длинный стол, сооружённый из сдвинутых нескольких и заставленный всевозможной снедью и бутылками. На Булата и Фазиля приятно было смотреть, они чувствовали себя здесь, вдали от кампуса, кишащего студентами, аспирантами и преподавателями, ещё вольготнее и раскованнее. Вопреки встречающемуся иногда мнению, что они в Русской школе преподавали, Окуджава и Искандер считались «писателями при университете» («writer in residence»), время от времени выступали перед студентами, но учебных курсов не вели. Как и наш общий приятель Наум Коржавин, жена которого Люба была у нас постоянным преподавателем русского языка, а он – «поэтом при университете».

С Майей Фрумкиной в столице Вермонта Монтпелиер, 1990. Фото А. Смирнова
Живо помнится ещё одно застолье под вермонтским небом-на даче старшей дочери нашей коллеги В., бывшей москвички – и не столько благодаря великолепным шашлыкам, сколько благодаря изумительному пению старинных русских песен замечательным фольклорным ансамблем Дмитрия Покровского, который приезжал в нашу школу на две-три недели несколько лет подряд. Булат сидел не шелохнувшись, отрешившись от всего, щека оперта на ладонь, глаза полузакрыты…
Бочка мёда, однако, не обошлась без ложки дёгтя: муж В., отец хозяйки, в прошлом близкий к московским диссидентским кругам, попытался сжечь на костре, разведённом для шашлыков, книгу Юрия Дружникова «Узник России» (о «невыездном» Пушкине), объявив, что книга эта – омерзительный пасквиль на русское государство. Инцидент замяли, к выходке пламенного русского патриота (кстати, рождённого евреем) отнеслись снисходительно: ветеран войны, был ранен, контужен, да и характер у него вспыльчивый и нервный…
Происходившее в России в начале 1990-х никак не отпускало Булата, тема родины оставалась, она шла контрапунктом ко всей этой необычной для него, почти курортной жизни. Разговаривая о тамошних событиях, он тревожился, мрачнел. Состояние подвешенности «между счастьем и бедой» было для него, по-видимому, перманентным. Регулярно, как на работу, приходил на просмотры российских теленовостей. Новости были невесёлые – неурядицы, перебои, забастовки, протесты, выступления красно-коричневых.
– Странно, – горько усмехался Булат. – Отсюда на всё это смотреть даже интересно, но вот когда ты там…
В письмах оттуда у него вырывалось: «Я и раньше знал, что общество наше деградировало, но что до такой степени – не предполагал. Есть отдельные достойные сохранившиеся люди, но что они на громадную толпу?» Или: «Не хочется ни торопиться, ни участвовать в различных процессах, происходящих в обществе. Хочется тихо, молча, смакуя, не озираясь, не надеясь, не рассчитывая… У нас снег, слабые морозы, неизвестность, бесперспективность, недоброжелательность. Почти вся западная помощь разворовывается. Вчера в совершенно пустом хозяйственном магазине невероятная очередь. Что дают? Дают открывалки для пива. Крик, брань. Все берут по сорок-пятьдесят штук. Стоимость тридцать копеек. “Для чего вам столько?” – “А завтра продам по трёшке”. И вся философия».

С автором воспоминаний. Вермонт, 1990. Фото Александра Смирнова









































