Текст книги "Путь хирурга. Полвека в СССР"
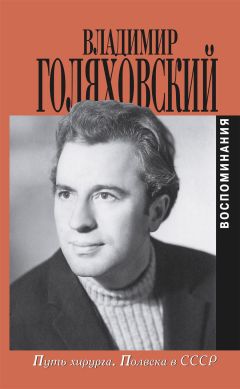
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Жизнь как она есть
Я размечтался: каким будет мой первый врачебный день, что я буду делать? За день до начала работы я пришел в больницу. Главный врач, хирург Василий Александрович Баранов, высокий, белоголовый, лет пятидесяти, пробубнил глухим голосом себе в усы, что направляет меня в травматологическое отделение, и сказал, где мне выдадут халат.
– Рабочий день с 9 часов, не опаздывайте.
Я пришел раньше. Заведующая отделением была в отпуске, никто меня не встретил, и я пошел в отделение. Все палаты забиты больными, простые железные койки стояли так тесно, что между ними трудно пробраться. В коридоре вдоль стен тоже много коек с больными. Стоял удушливый больничный запах – йодоформа, карболки, гноя и пота. Не зная, что делать, с чего начинать, я взялся читать истории болезней. Проходивший мимо доктор Михаил Раудсеп, хирург, прервал меня:
– Вы – новый доктор? Пойдемте со мной в травмпункт.
Я решил, что он хочет показать мне его. Травмпункт – три комнаты: ожидальная, приемная и крохотная перевязочная, она же и операционная для малых операций; рядом небольшая рентгеновская комната. Нас ждали сестра и санитарка. В коридоре сидело с десяток людей, ожидавших приема. Раудсеп сказал:
– Ну вот, принимайте больных, – и ушел, ничего не объяснив.
Мне еще никогда не приходилось делать что-либо самому, без наблюдения старших. Я почувствовал себя щенком, брошенным в воду, надо было учиться выплывать. Наверное, что-то изобразилось на моем лице, потому что немолодая сестра посмотрела на меня с состраданием.
– Зовите больного, – попросил я.
Первый больной был грязный мужчина, от него несло перегаром, на куртке – пятна запекшейся крови. Я стал его подробно расспрашивать и обследовать. Отвечал он как-то нескладно и со странным выговором. Я вопросительно посмотрел на сестру. Она сказала:
– Он карел, они все так говорят.
Карел не помнил, что с ним случилось, наверное, в драке его ударили по голове. В запекшихся кровью волосах была рана 5–6 сантиметров длиной. Поскольку это травма головы, я действовал, как меня учили в институте: чтобы не пропустить сотрясение мозга, я тщательно проверял реакцию его зрачков на свет, водил перед его глазами палец вправо-влево, просил его оскалить зубы, потом высунуть язык и поводить им в разные стороны (проверка работы нервов). Он понимал с трудом, а когда открыл рот, я чуть не отшатнулся от перегара. Записав все подробно в амбулаторную карточку, я сказал сестре:
– Надо ушивать рану. Приготовьте шприц, полпроцентный новокаин, скальпель и иглы с шовным материалом.
– Шприцы и иглы еще кипятятся, а новокаин у нас только однопроцентный.
Оборудования для одноразового использования тогда не было, а то, которое было, подлежало стерилизации кипячением до двадцати минут. В перевязочной я вымыл руки раствором нашатырного спирта в тазу с ободранной эмалью и приступил к ушиванию. Технике местной анестезии по методу Вишневского меня обучил отец, на сестру это, кажется, произвело хорошее впечатление. Точеный скальпель резал плохо; когда я иссекал неровную рану по краям, полилась кровь – ушло время на ее остановку. Наконец, я наложил швы, как меня учили, и сказал сестре, что больного надо положить в больницу для наблюдения.
– Что вы, доктор, – пьянь такую!.. Да они каждый день десятками приходят. Если таких класть, так не то что коридоры – все полы в больницы будут ими завалены. Обойдется!
Кого слушать – свой голос или голос опытной сестры? Наверное, она знала, что говорила. Я выдал ему больничный лист и назначил прийти через три дня. На все это ушел час. Сестра сказала:
– Доктор, у нас на сегодня записано сорок больных, да еще могут привезти по скорой.
Сорок больных! Я прикинул, что на одного мне нужно выделять всего около десяти минут. Следующих я принимал, наращивая темп. Для этого надо было импровизировать самому, а не повторять, как обязательный протокол, то, чему и как учили. Я еще зашивал какие-то раны, делал перевязки, накладывал гипсовые повязки. От неумения и спешки многое получалось плохо, я был собой недоволен и стеснялся сестры. Но, с ее помощью, кое-как справлялся. Прося что-либо, я каждый раз слышал:
– Доктор, у нас бинтов мало, вы экономьте…
– Доктор, у нас шовного материала не хватает, режьте нитки покороче…
– Доктор, у нас всего несколько гипсовых бинтов, кладите повязки потоньше…
– Доктор, у нас рентгеновских пленок нет, смотрите перелом через криптоскоп… (устройство 1920-х годов: темная труба, в один конец надо смотреть, а другой направлять на сломанную кость через луч рентгеновской лампы).
– Доктор, у нас всего три шприца, надо ждать, когда они прокипятятся…
– Доктор, новокаинового раствора для обезболивания не хватает…
От непривычного напряжения и от голода у меня кружилась голова. Прерваться на еду невозможно, да и где было ее взять – буфета в больнице нет, а с собой на работу брать мне было нечего. Наконец пришла на смену следующая врач – Людмила Рассказова. Я еще что-то дописывал, а она сказала, что мне надо срочно идти – подменить заболевшего младшего дежурного.
– Что я должен делать?
– Принимать новых больных в приемном покое, делать вечерний обход хирургических больных. Если будут срочные операции, будете на них ассистировать. Вы не волнуйтесь, вам повезло – старшая дежурная очень хорошая женщина и опытный хирург.
Старшая дежурная Ревекка Львовна Виленская, пожилая, маленького роста, с очень длинным носом, не вынимала изо рта папиросу. Пронзительными глазами навыкате она посмотрела на меня:
– Вот что, сначала идите на кухню – снимите там пробу за меня. Они вас накормят. А то вы очень бледный.
Действительно – добрая, раз заметила мое состояние. Утолив голод, я потом почти целую ночь принимал вместе с ней срочных больных в приемном отделении и ассистировал ей на двух операциях. Хирург она была очень опытный, многое мне показывала, а в перерывах между работой рассказывала о нашей больнице и врачах. Ее слабость – она постоянно курила, а другая – любила поговорить. Спать мне довелось всего три часа, да и то с перерывами.
На другой день с утра я опять вел прием в травмпункте. Работать стало немного легче – прошел психологический шок от неожиданного начала. Мы с сестрой лучше понимали друг друга, и прием больных шел быстрей.
В конце дня ко мне пришел Марк Берман, с которым мы познакомились на телефонном переговорном пункте.
Марк был физиотерапевт и заведовал поликлиникой. Ленинградец, старше меня на пять лет, он уже отслужил в армии и поэтому институт окончил всего год назад. Улыбаясь приятной, мягкой улыбкой, он предложил:
– Давайте сразу перейдем на «ты»: Марк – Володя. Согласны?
– Конечно, согласен.
Мы шли по улице, и он предложил:
– Ты есть хочешь? Зайдем в кафе «Северное». Там у меня директор знакомая, чем-нибудь нас накормит.
Ясно было: докторам здесь выгодно заводить практические связи. В кафе мы разговорились на тему, еще очень свежую для всех докторов-евреев – о деле врачей-отравителей. Он сказал:
– Ты член партии? А я, к сожалению, партийный. Меня в армии заставили вступить. Поэтому мне приходилось сидеть на всех партийных собраниях и голосовать против тех профессоров. Я сам себя за это ненавижу. Ты радио слушать любишь – например, новости по «Голосу Америки» или по Би-би-си»?
– Да, слушать это интересно. Только в Москве их сильно глушили.
Он воскликнул почти с энтузиазмом:
– А здесь совсем не глушат, все ясно слышно. У кого есть приемник, мы часто собираемся и слушаем. Только приемников мало, а желающих слушать много.
Он говорил со мной доверительно – немногие решались тогда сказать друг другу, что слушают «вражеские голоса». Так между нами установилось «идеологическое понимание».
Он упросил директоршу гостиницы дать нам с мамой комнату на двоих. Шофер больничного грузовика финн Герман согласился (за плату) поехать ночью со мной на вокзал – встречать маму. Грузовик действительно был нужен, потому что мама привезла несколько чемоданов, коробок и свертков и большой трофейный немецкий радиоприемник «Телефункен», по моей просьбе после разговора с Марком.
Теперь, когда я уходил на работу или на ночное дежурство, мама обходила ближайшие улицы, присматривая какой-нибудь прилично выглядящий дом. Дело это для москвички было непростое – все дома здесь были старые, деревянные. Она стучала и спрашивала – нет ли комнаты для сдачи?
Одновременно мама обходила продуктовые магазины и была в шоке от разницы в столичном и провинциальном снабжении.
– Володенька, в ваших магазинах просто ничего нет. Как ты будешь питаться?
– У врачей здесь связи, все как-то живут.
– Но они, может быть, практичные, а ты вырос непрактичным.
– Это с тобой я был непрактичный. По поговорке – в двадцать лет ума нет… я могу сказать, что он у меня уже есть. Я тоже достаточно практичный.
Но мама хотела, чтобы хозяйка комнаты за дополнительную плату готовила мне обеды. И вот она нашла комнату на улице Фридриха Энгельса, в шести кварталах от больницы – на работу мне идти всего двадцать минут. И повела меня смотреть комнату.
Бревенчатый дом с мезонином стоял на краю крутого обрыва. Комната всего 10 квадратных метров, за кухней, а на кухне – куры копошатся в клетках. В углу комнаты круглая чугунная печь. Одно из двух окон выходило на обрыв, открывался вид на простор, вдали виднелся серый массив Онежского озера. Этот вид больше всего мне понравился – он был просто вдохновляющим. Я подумал: как приятно будет писать стихи, глядя вдаль на этот северный простор. Удобств в доме – никаких: водопровода нет, колонка через улицу – носить ведра надо самому. Рукомойник в кухне, туалет русской деревенской «конструкции» – выгребная яма за дверью, при холодном входе.
Но очень располагала к себе хозяйка – Ольга Захаровна Дубровская, русская, вдова за шестьдесят лет, пухлая и веселая. Она все время весело смеялась. С ней жили четверо взрослых детей: двое женаты, одна разведенная дочь Тамара и один сын моего возраста. Ольга Захаровна согласилась готовить мне обеды, но из моих продуктов. За комнату с одноразовой готовкой обеда она просила 200 рублей (20 долларов) в месяц, еще 100 рублей в год (10 долларов) за дрова, но колоть я их должен сам, и топить свою печку тоже сам.
– Мне ведь уже тяжело – задыхаюсь от нагрузки, – объяснила она.
Первая моя зарплата была 600 рублей в месяц (без вычетов) – это приблизительно 60 долларов по меркам начала 2000-х годов. За рабочий день я получал 2,5 доллара, или по 40 центов за час работы. Я должен был дежурить сутками два раза в месяц, но брал еще два-три дополнительных платных дежурства и мог заработать ими около 150–200 рублей (15–20 долларов) в месяц. Стоимость нового жилья составляла чуть ли не третью часть моего заработка. Марк и другие снимали комнаты дешевле, за 120–130 рублей, но жили они на краю города и ездили на работу на автобусе. Мы с мамой прикинули, что надо соглашаться на условия хозяйки – дороговато, конечно, но за местоположение и за готовку стоило заплатить.
Мы купили пружинный матрас и маленький письменный стол, хозяйка дала обеденный стол и четыре стула. С некоторыми трудностями удалось купить платяной шкаф. Матрас я установил на четыре кирпича, а письменный стол поставил под окно с видом на простор. Мама привезла все: белье, одеяла, покрывала, скатерти, немного посуды и даже плотные занавеси вишневого цвета. Комната вдруг ожила – вот что значит мама!
Вскоре она уехала. Теперь по вечерам я обживал свою комнату. Как она ни была мала, но мне нравилась: впервые в жизни я, наконец, жил сам по себе – отдельно. Я соорудил ящик, накрыл его привезенной мамой парчовой тряпкой и установил в изголовье матраса, поместив на него приемник. Теперь, приходя домой, я ложился на матрас, не глядя включал радио и слушал музыку или передачи «Голоса Америки» и Би-би-си. Первым я пригласил Марка.
– Здорово устроился, уютно, – сказал он. – Ого, у тебя даже шкаф есть. А у меня все валяется в куче в углу.
Мы вместе прослушали «запрещенные голоса» и пили чай, заваренный Ольгой Захаровной. В Карелии, в которой чай расти не может из-за холодного климата, ритуал чаепития издавна является национальной традицией. Как это получилось, почему? – неизвестно. Но все там пьют исключительно крепко заваренный чай. В деревнях многие карелы заваривают его настолько крепко, что получается дурманящий напиток чифирь – заварка целой пачки чая всего на две-три чашки. Они тратили на чай много денег, нередко предпочитая пить чифирь вместо водки.
Живя в доме с тонкими перегородками между комнатами, я включал радио негромко. Но моя музыка и передачи все равно были слышны в соседней комнате, где жили хозяйка и ее дочь Тамара. Дочери было немногим более тридцати лет – довольно интересная и стройная брюнетка. Работала она старшей медсестрой в кожно-венерологическом диспансере и занималась велосипедным спортом (в сенях стоял гоночный велосипед).
Однажды вечером Тамара робко постучала в мою хилую дверь:
– Можно у вас музыку послушать?
– Конечно! Заходите, садитесь. Вы какую музыку любите?
– Да мне все равно, только чтобы хорошую.
– Угощайтесь конфетами – это из Москвы.
– Спасибо. О, вкусные! Можно еще одну?
– Конечно, можно. И не одну.
После этого она часто заглядывала ко мне, рассказывала про петрозаводскую медицину и сплетни про знакомых докторов. В провинции все про всех все знают.
Присутствие молодой женщины в моей крохотной комнате, где невозможно было не быть близко друг к другу, волновало меня. Я чувствовал себя напряженно, но никакой инициативы не проявлял, наоборот, по-юношески старался быть холодным и серьезным. Меня смущало, что близко за стенкой была ее мать, что сама Тамара почти на десять лет старше меня, а к тому же я помнил поговорку: «не живи, где е…ешь, и не е…и, где живешь».
Однажды поздно вечером я заснул, усталый, после дежурства, слушая радио. Было уже больше одиннадцати часов, приемник продолжал играть, я валялся на матрасе. Когда я открыл глаза, близко передо мной было лицо Тамары. Она наклонилась надо мной, была в домашнем халате, а под ним совершенно явно не было ничего. Ее глаза были так близко… Мне ничего не оставалось, как притянуть ее на себя и начать целовать.
Поддаваясь мне, она шепнула:
– Не теперь – в другой раз.
Какой там «другой раз»! – я и минуты не мог ждать. Прильнув ко мне, она шепнула:
– Только не выключай музыку, а то мать за стенкой нас услышит.
А все-таки о практической осторожности я не забыл, уже проникнув в нее, спросил:
– Мне нельзя кончать?
– Можно, я не беременею…
Вот так, шаг за шагом, все больше начиналась моя самостоятельная взрослая жизнь – жизнь на самом деле.
Моя хирургическая школа
Моя первая хирургическая школа была – провинциальная хирургия. Она во многом отставала от столичной в оснащении, новые достижения доходили да нее лет на десять позже. Я скоро заметил разницу между московскими специалистами и петрозаводскими докторами. Здесь доктора старшего и среднего возраста были просто хорошими ремесленниками своего дела, они лечили больных, и больше ничего. Условия работы были довольно примитивные, работать им приходилось много, они не углублялись в чтение журналов по специальности, не отвлекались на преподавание, на науку, на конференции с докладами. Делали операции по-старому, как их когда-то учили – и все. На операциях они были спокойней и сдержанней московских коллег: больше дела – меньше суеты.
Моя непосредственная начальница – заведующая отделением травматологии Дора Ивановна Степанова – была хирург с восемнадцатилетним стажем. Такой опыт работы в хирургии – это близко к вершине умения и возможностей. Она умела быстро и точно ставить диагнозы и у нее была неплохая хирургическая техника, но я смог оценить это не сразу. Помощники у нее были малоопытные – Фаня Левина и Людмила Рассказова работали только второй год, да еще я – совсем зеленый. Ей надо было иметь много терпения – все нам указывать и за нас переделывать. Но характер у нее был добрый и веселый, ко мне она отнеслась хорошо, и я многому учился на ее примере.
Отделение наше всегда было переполнено больными: травма была бичом советского общества. Из-за плохой организации ручного труда и плохой техники безопасности многие рабочие получали повреждения и увечья на производстве. Но еще больше было больных с тяжелыми бытовыми травмами. Почти все это были молодые мужчины, и их повреждения были результатом повального пьянства: пили все и пили много – до потери сознания. Когда привозили новых больных со страшными ранами, изуродованными ногами или руками, со сломанными позвоночниками, из-под поезда – с отрывами конечностей, мы, молодые, терялись и зачастую просто не понимали, что делать, с чего начинать? Но опытная Дора Ивановна приучила нас справляться со всем этим.
В те годы переломы и вывихи костей лечили в основном консервативно – без операций. Надо было научиться исправлять руками положение отломков (ручная репозиция) и потом накладывать гипсовые повязки. Если вправление не удавалось, лечили «скелетным вытяжением» – проводили через кость тонкую стальную спицу, закрепляли ее в дуге и соединяли тросом (или просто длинным бинтом) с чугунными гирьками-грузами для постоянной тяги. Гирек было мало, вместо них мы вешали кирпичи и записывали в истории болезней: «наложено скелетное вытяжение тремя кирпичами». Эти больные лежали «на вытяжении» по два-три месяца, пока кость не срастется. С позиций сегодняшнего лечения это была почти средневековая методика. Но для больших операций у наших докторов не было опыта и не хватало оборудования и инструментов.
И вот однажды в город приехал профессор Михельман – из московского Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО). У него здесь жила и работала хирургом дочь Виктория. Наша заведующая попросила его сделать первую операцию скрепления отломков кости специальным металлическим стержнем – остеосинтез. Для этого стальной стержень вводится в канал кости и этим закрепляет правильное положение ее отломков. Такие операции лишь недавно начали делать в московских и ленинградских клиниках, Дора хотела практиковать их и в нашей республиканской больнице. Ассистировали на операции Дора и я. Мы были преисполнены почтением к московскому светиле, я ждал, что это станет переломным моментом в нашем лечении – вместо гипсовых повязок и вытяжения мы начнем делать больше операций. Но московское светило оказалось очень нервным хирургом. Операция не ладилась, и вместо того чтобы показывать и учить, он кричал на нас и на операционную сестру. Мы были подавлены, а главное – так ничему и не научились.
Я написал об этом письмо отцу. Он ответил, что такие операции еще в 1939 году начал делать немецкий хирург Кюнчер, и что он сам видел одну операцию в клинике знаменитого австрийского хирурга Беллера, в Вене, сразу после войны. Стержень вводили в канал кости из маленького разреза и потом, под контролем рентгеновских снимков, ловко проводили его через перелом, скрепляя кость. Я был поражен: значит, такие операции в Европе делали уже пятнадцать лет назад, метод был усовершенствован и стал простой операцией. Вот до чего мы отстали! Значит, прав был доктор Иссерсон, когда говорил мне, что нам есть чему поучиться у европейских хирургов. Да, но как нам у них учиться, если мы, советские доктора, полностью изолированы от всего мира, как и вся наша страна!.. Вот тебе и передовая и прогрессивная советская медицина!
Вскоре после этого мне довелось оперировать впервые в жизни. В травмпункт привезли пожилого русского рабочего. Он случайно ударил топором по тыльной стороне четырех пальцев своей левой кисти. Пальцы болтались на перемычках мягких тканей с ладонной стороны – они были практически ампутированы. Ясно, что прижиться они не смогут, это было бы чудом. Самое простое решение – пересечь те перемычки и полностью ампутировать пальцы. Так сделал бы любой хирург, и я решил, что не стоило звать на консультацию никого из старших. Я мыл руки в эмалированном тазу в маленькой перевязочной комнате, на столе лежал мой пациент. Он страдал, но смотрел на меня с улыбкой, как на юнца, потом сказал:
– Вы, доктор, похожи на моего младшего сына.
– Сколько их у вас?
– Четверо. И всем им я дал образование, работая этими вот руками. Двое стали врачами. Да, жалко руки. Что, доктор, отрезать будете?
Меня как током ударило: его спокойный тон и краткий рассказ произвели на меня такое впечатление, что я мгновенно решил – не могу я отрезать эти пальцы, я обязан их пришить. Для этого надо сшивать сосуды – это называется «микрохирургия», но тогда она еще только развивалась где-то в западном мире, а в России не была известна. Да и вообще – хирург я был никакой и инструменты у меня были самые примитивные. Я делал операцию на одном энтузиазме, долго старался, сшил кое-как ткани, наложил повязку и гипсовую лонгету (одностороннюю гипсовую шинку) и положил своего первого пациента в больницу. На другой день старший хирург Раудсеп мне строго сказал:
– Что ты наделал! – пальцы все равно не приживутся, и начнется гангрена. Тогда придется ампутировать всю руку.
Неужели я сделал такую ошибку? Я очень испугался. Как сильно я тогда переживал! Мне представлялось, что ему ампутируют руку по самый плечевой сустав… что он умрет от гангрены и его четверо детей станут меня проклинать… что главный врач выгонит меня из больницы… что я никогда не смогу стать хирургом… Я просыпался по ночам, вздрагивая от мысли – что я наделал! – скрежетал зубами и кусал себе губы. Но от больного я старался скрывать «слезы своей души», проверял состояние его руки по несколько раз в день и менял на ней повязки с мазью Вишневского (единственное, что тогда было в арсенале). Он не знал моих волнений и доверчиво спрашивал:
– Как, доктор, думаете – срастутся мои пальцы?
– Должны срастись, – а сам тоже думал: приживутся ли?
Я тогда понял и запомнил на всю жизнь: как бы хирург ни переживал, но перед своим больным и его родными он всегда должен выглядеть целенаправленным, деятельным и уверенным. Хирург не имеет права показывать больному свои эмоции, как актер на сцене.
А пальцы опухли и посинели, хотя на концах были пока еще теплые. Я всматривался – живы они или уже началась гангрена? Нет ли красных тяжей нагноения по ходу вен? Так продолжалось две недели. И вот отек пальцев стал спадать, кожа порозовела и – что же? – они прижились! Мой больной выписался с двумя руками. Потом долго восстанавливались движения в пальцах. И хотя не восстановились полностью, но мой первый больной потом даже работал двумя руками. Мы с ним стали приятелями.
Так мой молодой энтузиазм помог мне сделать правильный первый шаг, а моя чувствительная душа получила первое представление о переживаниях хирурга. Я запомнил их навсегда, они выжгли на моей совести рубцы профессиональной горечи. Мне еще повезло, что так случилось, а ведь бывает и намного хуже – когда пациенты умирают от осложнений из-за ошибок хирурга. Я думал: неужели мне когда-нибудь придется переживать и такое?!
Мои коллеги не проявили интереса к моей операции – у всех были свои случаи переживаний после операций, это – невидимые миру слезы хирургов. Специальность хирургия – это почти полное двадцатичетырехчасовое напряжение мыслей и воли. Большинству людей хирург представляется в упрощенном и героическом виде: он приходит, дотрагивается до больного скальпелем, как волшебной палочкой, и спасает его. Только сами хирурги знают, до чего это не соответствует реальности. Мало есть сфер человеческой деятельности, где профессионалам приходится переживать столько тяжелых огорчений, сколько достается на долю хирургов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































