Текст книги "Путь хирурга. Полвека в СССР"
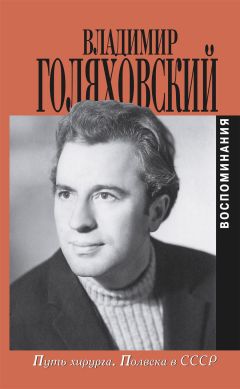
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Наш гусь просыпался до рассвета и начинал по-гусиному трубить. И я, в своей романтической тоске, просыпался рано. Чтобы он не будил ребят (и девчонки жаловались), я брал его под мышку и шел бродить за город, держа в руке конец веревки – не давая ему убежать. Он спокойно щипал траву, а я тем временем сочинял стихи.
Ожиданье
Уже не ночь,
Еще не утро —
Час просветленья темноты;
И скоро свет забрезжит смутно,
Как зарождение мечты;
Туман проступит над лугами,
Застыв недвижно на плаву,
И вспыхнет вдруг рассвета пламя,
Не как мечта, а наяву;
Блеснет на дереве,
На камне И на воде Лучей привет,
И первый луч Скользнет в глаза мне,
В глаза, встречающие свет…
Я ждал рассвета в нетерпенье,
Но этот миг не уловил;
Неуловимо просветленье
И зарожденье новых сил.
Но как я ни скучал, мне нравилась операционная сестра Вера – незамужняя, моего возраста, слегка курносая, с ярким румянцем на щеках и с соболиными бровями. Она всегда была веселая и улыбалась приятной улыбкой. Девушки наши все замечали и меня поддразнивали:
– Заглядываешься на Веру? Вот мы расскажем твоей Дине.
Я долго крепился, но все-таки назначил Вере свидание. Мы уговорились встретиться под вечер на берегу реки Мологи, возле крыльца купальни. Первое свидание, тихий берег реки, закат солнца – все было романтично. Вера пришла в синем облегающем костюме и понравилась мне еще больше, чем в халате. Мы далеко ушли по берегу и все чаще, как бы невзначай, касались друг друга. По крутой тропке мы спускались к реке, где густо росли кусты. Я шел первым и протянул ей руку. Она прыгнула мне навстречу – ее пепельные волосы защекотали мою щеку. Потом я написал об этом стихи:
Было или не было? —
Трудно сказать,
Было или не было,
Надо угадать.
Было или не было
Встречи на крыльце?
Было или не было
Улыбки на лице?
Было или не было
Тропки под горой?
Было или не было
Тумана за рекой?
Было или не было
Утренней зари?
Было или не было,
Смотри – не говори.
Было или не было
Пепельных волос?
Было или не было —
Трудный вопрос…
* * *
Из участковой больницы неподалеку от Бежецка привезли старушку в тяжелом состоянии. Как раз в те дни мы проходили терапию. Доктор предложила нам выслушать ее легкие – в одних участках были сплошные хрипы, в других дыхание не прослушивалось совсем.
– Какой ваш диагноз? – спросила терапевт.
– Наверное, это воспаление легких.
– Вы правы. Что надо сделать, чтобы подтвердить диагноз?
– Надо сделать рентгеновское исследование.
Терапевт сказала больной:
– Бабушка, вам надо сделать рентген. Вам когда-нибудь рентген раньше делали?
– Нет, милая, ренгену мне не давали. А вот просвечивание давали.
– Какое просвечивание? – удивилась терапевт. – В той больнице нет аппарата.
Больная объяснила:
– Дохтур через большую трубу меня просвечивал. Занавески закрыл, свету из лампы на меня направил и говорит «подымай, мол, рубашку выше». А сам в две трубы большие меня просвечивал и болезнь мою определил.
Терапевт пожала плечами:
– Ничего не понимаю, какая-то странная история.
Больной нужны были антибиотики, но их в больнице так и не было. Через несколько дней она умерла. Мы уже видели в больнице несколько смертей – к этому тоже надо было привыкать. Мы рассказали историю об ее «просвечивании» Амбарцуму. Он нахмурился:
– Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Я сам работал в той больнице, пока меня не взял сюда Василий Иванович.
В Бежецком районе было несколько участковых больниц на двадцать пять кроватей, и вскоре Амбарцум повез нас на санитарной полуторке в ту больницу. Из нее вышел улыбающийся врач. Вид его нас поразил: страшно лохматый, небритый, в грязном халате на полуголом теле, в рваных галошах на босых ногах. Невозможно было себе представить, что перед нами врач на работе. Медицина – интеллигентная профессия, и сам вид врача должен это отражать. Больные в полупустых палатах тоже выглядели страшно запущенными. Все как в чеховских описаниях больниц сто лет назад. Операционная еще больше поражала: запыленная комната с паутиной, с облезлыми стенами и грязными окнами. В шкафах лежали заржавевшие от неупотребления инструменты. Амбарцум с грустью сказал:
– Здесь я когда-то делал операции, даже резекции желудка.
Действительно, можно было загрустить от такого запустения. Они с доктором ушли в кабинет, Амбарцум вышел оттуда очень злой. На обратном пути он рассказал:
– Та старушка была права – этот доктор-шарлатан делал ей «просвечивание». Знаете чем? Биноклем. Он мне со смехом рассказал, как дурит своих больных. У него есть большой немецкий полевой бинокль. Он ставит больных в одном углу, а из другого смотрит на них в бинокль. Он называет это «просвечиванием» и берет с них взятки – яйцами, мясом, маслом, рыбой. Я на него наорал и сказал, что если он будет это делать, его отдадут под суд за шарлатанство.
Мы были потрясены всем увиденным и услышанным – как можно так обманывать? И как можно так запустить и себя, и больницу? При всей скудности провинциальной медицины было ясно, как много все-таки зависит от желания и энтузиазма врача.
* * *
Наша практика подходила к концу. Незадолго до этого выписался Саша Портнов, тот, которому мы с Вахтангом отдали свою кровь. Он ушел, не сказав никому спасибо.
Все мы поразились отсутствию чувства благодарности. Василий Иванович объяснил это просто:
– Вы, ребята, того – вы знайте: врачу не стоит ничему удивляться и ни на что надеяться. В мое время говорили: «Врач любит своего больного больше, чем больной любит врача». Мы работаем не за страх, а только за совесть.
Я записал это в свой дневник.
Перед окончанием практики Павел Шастин зарезал гуся. Девушки кричали на него:
– Ты убийца!
Но потом они выщипали из него пух на подушку – для первого, кто выйдет замуж или женится. Мы жарили нашего гуся в больничной кухне. Опыта у нас не было, и Вера, улыбаясь и поглядывая на меня, помогала нам. Зашел на кухню Василий Иванович:
– Ты, того, налей-ка им пол-литра спирта, пусть будет выпивка «под гуся», – сказал он ей.
Спирт был «золотой валютой» бедной советской медицины – многое делалось «за спирт».
С этой выпивкой и нашим вкусным гусем мы весело распрощались с нашими учителями. Конечно, мы никому не рассказывали, как назвали гуся.
Уезжали мы из Бежецка другими людьми: практическая подготовка и наблюдения над жизнью провинции и над медициной в ней – все это сделало нас более готовыми к трудностям предстоящей самостоятельной работы и жизни. Самое главное это то, что мы своими глазами увидели глубокую пропасть между жизнью в бюрократическом центре Москве и в провинции. Такая же разница была и в медицине. Хотя столичная медицина сама была тогда далека от уровня мировых стандартов, но еще намного ниже нее стояла медицина районных и участковых больниц. Чтобы поднять ее хотя бы на приемлемый уровень, нужны были десятилетия упорной работы. Мы были молоды и были энтузиастами, но и тогда думали, что такую работу предстояло делать не одному нашему поколению, а еще многим за нами. Однако этот вывод в дневнике я не записал, чтобы меня потом не обвинили в политической неблагонадежности.
Как мы изучали основы врачебного искусства
На пятом курсе нам полагалось изучать не просто медицину, но овладевать опытом врачебного искусства. Что такое – искусство врачевания? Это сочетание трех умений: умение проникать в глубину болезни, умение находить наиболее рациональный путь лечения и еще – умение учитывать психологические особенности состояния пациента. Все эти три компонента должны одновременно «работать» в голове врача с момента первого осмотра больного и в течение всего лечения – его мозг должен действовать как компьютер. Но известно, что в компьютере имеются заранее заложенные программы. Вот эти-то сложные программы искусства врачевания и должны были закладывать в нас на пятом курсе.
Как раз в то время, в 1950-х годах, мировая наука шла к новой области – кибернетике. Но… высшие партийные инстанции и советская пресса объявили кибернетику «буржуазной лженаукой». Все газеты и журналы писали о ней с издевкой, на лекциях по философии (марксистской, конечно) ее громили «в пух и прах». Наши остряки даже прозвали кибернетику «къебенематика». «Железным занавесом» Сталин крепко отгородил Советский Союз от всего передового. Но мы наловчились догадываться о новых научных достижениях Запада по негативным сообщениям прессы: если советские газеты критиковали что-то в западной науке, то это было признаком действительных достижений.
Медицина в годы нашей учебы еще не была той точной наукой, которой стала в конце века, она во многом была основана на индивидуальном искусстве врачей. Строгие научные подходы были разработаны слабо, техника лабораторных исследований была медленной и неточной, почти все делалось вручную, аппаратура была довольно низкого уровня, да и той никогда не хватало. И поскольку медицина не была основана на объективных исследованиях, то хорошие врачи прежних времен славились искусством огромного субъективного опыта. Хорошие были те, кто учил нас на своем личном опыте. Тем более что учебники, по которым мы учились, были выхолощены – без ярких мыслей и примеров, в них отсутствовало умение зажигать интерес студента, но было много «идеологии» со ссылками на классиков марксизма, в них отсутствовало умение зажигать интерес студента, которое необходимо для учебника. Удовлетворительных книг было мало. Но все равно – по одним учебникам медицину не выучишь, будущим врачам необходимо видеть и слышать примеры врачебного искусства, впитывать их в себя и учиться на них. Врачебное искусство больше всего базируется на опыте – хорошие доктора-преподаватели были те, которые учили нас на своем личном опыте.
Как-то раз к заболевшей соседке в нашей коммунальной квартире пришел участковый врач из поликлиники. Когда он уходил, муж соседки провожал его, они разговаривали, и мне показалось, что я услышал знакомый голос. Я выглянул в полутемный коридор и увидел невысокого доктора в халате. Его фигура была мне знакома. Я вгляделся и узнал в нем нашего преподавателя на третьем курсе – доктора Вильвилевича.
– Григорий Михайлович, здравствуйте!
Он ответил, не глядя:
– Здравствуйте.
– Григорий Михайлович, я – ваш ученик Голяховский. Два года назад вы были учителем нашей группы.
Теперь он тоже взглянул на меня:
– Ах, да-да – помню. Конечно, помню: я поставил вам «отлично» за историю болезни.
– Да, я храню ее. Григорий Михайлович, а я и не знал, что вы – наш участковый врач.
Он немного замялся:
– Я только недавно получил эту работу.
Я понял, что он не хотел говорить об этом с учеником, да еще при свидетеле.
– Григорий Михайлович, можно, я вас провожу немного?
Мы шли по улице, он говорил уже более доверительно:
– Вы говорите – «участковый врач». Ничего позорного в этом, конечно, нет. Но мне ужасно обидно. Понимаете, я ведь проработал в институте пятнадцать лет. Пятнадцать счастливых лет! А когда окончился мой очередной пятилетний ассистентский срок, новый завкафедрой не захотел мне его продлевать. Меня обвинили в некомпетентности и отсталости от требований времени. Вы были моим студентом – неужели я некомпетентен?
– Что вы, Григорий Михайлович?! Мы все считали вас самым компетентным учителем.
– Вы так думаете? Спасибо. Но на мое место взяли другого, а я вот устроился здесь.
Трудно было поверить – доктор Вильвилевич был нашим лучшим учителем за все годы. Именно с него можно было брать пример врачебного и преподавательского искусства. Но я помнил, как зависимо он держался с новым профессором – очевидно, уже тогда боялся увольнения. Так оно и случилось.
– Григорий Михайлович, кого же могли найти лучше вас?
Он усмехнулся:
– Нашли. Помните, там были молодые интересные женщины-ординаторы?
Я помнил красоток со стройными ногами.
– Конечно, помню. Так что же? они ведь молодые и неопытные.
– Зато они русские и вступили в партию. А это – ворота для карьеры. Одну из них взяли на мое место, и других тоже пристроили, – тут он заторопился. – Вы меня извините, мне еще три квартиры надо обойти. Желаю вам вырасти в хорошего доктора.
– Спасибо, – я смотрел вслед его сгорбленной фигуре и думал: а раньше он был прямой.
Работа участкового врача обычно давалась начинающим докторам. Держать на этом месте Вильвилевича было просто преступлением. По-настоящему это и было преступлением – преступлением руководства института перед студентами, преступлением перед больными. И это был далеко не единственный случай. Мы постоянно видели, как «исчезали» из института хорошие учителя. За годы нашей учебы состав преподавателей сменился наполовину. Партийная линия властей и руководителей института была ясная – освободить институт от евреев и беспартийных докторов и заменить их молодыми русскими членами партии.
В результате возвысилось поколение молодых карьеристов. Они занимали общественные позиции членов парткомов, месткомов и других организаций, но были малоопытными докторами и не умели преподавать. Примеров врачебного искусства дать студентам они не могли. Чему было у них учиться? – только как делать незаслуженную карьеру. И действительно – некоторые студенты нашего курса быстро это усвоили, они вступали в партию, пристраивались на разные общественные позиции и этим заранее подготавливали себе места в аспирантуре. А оттуда был прямой путь к успеху. Потом из них быстро получилась когорта плохих профессоров и доцентов. Но ученые и преподаватели они были очень слабые.
Чем больше я наблюдал ситуацию вокруг и думал об этом, тем ясней чувствовал, что общая атмосфера в медицине сгущалась. Да и во всем советском обществе нагнеталось что-то похожее на предгрозовое состояние. На нашем институте это отражалось, как в маленькой луже отражается все небо. А нам надо было учиться врачебному искусству. Только у кого?
На пятом курсе я стал задумываться о своем будущем. Передо мной был пример отца и его друзей – крупных хирургов и ученых. Смогу ли и я когда-нибудь стать кем-то вроде них? Я не мечтал о профессорстве, но мне стало мерещиться впереди что-то большое и интересное. Раньше у меня много времени уходило на увлечения искусствами – поэзией, рисованием, хождением на спектакли драматических театров, в музеи, на выставки и концерты. Москва давала к этому большие возможности. Теперь мне все больше хотелось готовиться к своему искусству – врачебному. Но у кого и как было учиться врачебному искусству, если его уровень падал прямо на глазах? Тогда я впервые нашел для себя свой собственный выход, которым руководствуюсь всю жизнь: всему на свете можно научиться двумя путями: один путь – учиться, как нужно делать, и другой путь – учиться, как не нужно делать.
На занятиях я все более критически наблюдал за преподавателями – что они объясняли и, главное, как они показывали. Были хорошие примеры, но больше было слабых и просто плохих. Я старался запоминать – «брать» то хорошее, что замечал, но помнить и то, что мне не нравилось, для того, чтобы это «не брать». Думаю, кое что из этого мне удалось.
Госпитальную хирургию нашей группе преподавал доктор Василий Родионов, молодой ассистент кафедры, который закончил институт всего на три года раньше нас. Мы его хорошо знали, как недавнего демагогического секретаря комитета комсомола – это был его «трамплин» на преподавательскую должность. Но как преподаватель Родионов ничего из себя не представлял, занятия проводил вяло, по бумажке – читал какие-то свои записи, не отрывая от них глаз. Как-то раз я на занятии раскрыл учебник и увидел, что его бумажка слово в слово была списана с тех страниц. Для таких «занятий» нам даже не стоило приходить в клинику.
Однажды Родионов должен был под наркозом вправить вывих бедра и наложить большую гипсовую «кокситную» повязку подростку лет двенадцати. Мы завезли больного в перевязочную. Мальчик испуганно дрожал, наши девушки его успокаивали, обнимали, разговаривали с ним. Анестезиология тогда еще не выделилась из хирургии, анестезиологов не было – хирурги сами давали больным «масочный наркоз» хлороформом или эфиром. Мы наблюдали, как неумело Родионов это делал – больной мальчик задыхался, кричал, вырывался. Родионов велел нам помогать, кричал:
– Прижимайте его ноги сильней к каталке и держите его руки. Учитесь, как давать наркоз.
И он все добавлял и добавлял хлороформ на маску. Вдруг мальчик затих и обмяк. Родионов снял маску с его лица – больной не дышал: от передозировки хлороформа он умер. Мы не сразу сообразили, что произошло. Техника реанимации тогда еще не была разработана. Может быть, если бы Родионов начал интенсивное искусственное дыхание, больного можно было бы вернуть к жизни. Но он стоял смущенно и искал себе оправдание:
– Что ж, это известно, что есть организмы, не переносящие наркоз, – сказал он.
Мы были потрясены этой ничем не оправданной смертью и таким грубым неумением давать наркоз. Наши девушки зарыдали и выбежали из перевязочной.
Ну, какому врачебному искусству могли мы научиться от Родионова?
(Потом Родионов сделал блестящую карьеру: он работал в аппарате Центрального Комитета партии, после этого ему нетрудно было стать профессором хирургии; через двадцать лет мне пришлось с ним встречаться по работе, он и тогда продолжал читать студентам лекции по тексту учебника; наркоз своим больным он уже не давал, но хорошим хирургом никогда не стал.)
Затишье перед грозой
В Третьяковской галерее, в Москве, есть великолепная картина Дубовского «Притихло» – над рекой нависла тяжелая наполненная влагой серая туча, вот-вот ее прорежут молнии и разразится гроза. Картина настолько реалистична, что она довлеет и нагнетает беспокойство и волнение. Такое состояние было в столичном медицинском мире в 1952 году – над ним нависла туча и вот-вот должна была разразиться гроза.
Первые отдаленные раскаты грома уже прозвучали: в 1950 году был арестован профессор нашего института Яков Этингер, известный терапевт. За ним арестовали профессора Иосифа Фейгеля, тоже известного терапевта. Никаких официальных сообщений об этом не было. В чем их обвиняли, никто не знал – они просто исчезли. Еще с 1936 года все привыкли, что известные люди, занимавшие положение в политике, в администрации, в науке и искусстве, неожиданно исчезали – и все. Но, конечно, глубоко в кулуарах медицинского мира это тайно обсуждалось, и все ждали – что за этим последует.
Тем временем после пятого курса всех мужчин нашего курса забрали на месяц на «солдатский призыв» и отправили рядовыми в военный лагерь под Курском. Нам выдали застиранную форму БУ (бывшую в употреблении), грубые яловые сапоги и шинели, показали, как обматывать ноги портянками, и дали команду маршировать строем. Мы неуклюже топали и по приказу старшины орали военные песни. Запевал Костя Смирнов:
Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет —
Там пролетит стальная птица
Мы подхватывали:
Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья,
За вечный мир в последний бой
Летит стальная эскадрилья.
Когда нас не гоняли, капитан, замполит батальона, проводил с нами под палящим солнцем политические занятия по международному положению. По занятиям выходило, что мы должны быть готовы к войне каждую минуту. На эту тему он говорил так:
– Великая сила учения товарища Ленина проявляется в чем? – что оно есть самое правильное и верное. Согласно решений исторического Восемнадцатого съезда партии и величайшего гения и учителя всего трудящегося человечества, генералиссимуса и Верховного главнокомандующего товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, враги коммунизма кто? – враги коммунизма и всего человечества это империалисты Соединенных Штатов Америки и Европы. Они будут окончательно разгромлены на суше, на воде, под водой и в воздухе. Победа будет за нами! Повторить!
Мы обязаны были повторять эти изречения слово в слово, даже с его интонацией. Один наш студент, Женя Гинзбург, тихий и немного заумный парень, с толстыми очками на носу, раздражал замполита небравой еврейской внешностью. Он скомандовал ему:
– Рядовой, там, вы, вы – в очках, да, да – вы. Повторить!
Женя никогда в жизни не говорил громко и не умел вытягиваться по-военному. Он переминался с ноги на ногу, заложил руки за спину и промямлил:
– Ну, значит, по теоретическим исследованиям Ленина и по работам товарища Сталина…
Замполит мгновенно пришел в ярость и посмотрел на него с прищуром:
– Отставить! Явиться в три часа ночи – к дежурному по полку!
Мы уже знали, что это значило – провинившегося Женю отправят до рассвета чистить лопатой полковую выгребную яму, стоя по колено в жидкой массе вонючих испражнений.
Он явился, выгребал и вдобавок потерял там в говне очки – еле нашел, шаря руками.
После этого наказания тихий Женя в следующий раз вскочил перед замполитом навытяжку и громко и четко повторил за ним все слово в слово, как попугай.
Старшины и сержанты старались выбить из нас интеллигентность. В соседних с нами ротах были регулярные свежие призывники из азиатских республик – Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Для них повторять за замполитом было немыслимо – они вообще с трудом говорили по-русски. Поэтому они-то и были главной «выгребной силой». Русские старшины презрительно называли их «чучмеками» или «чурками». И на нас они глядели с неменьшим презрением. Старшина говорил нам:
– Вы – есть кто? Вы есть гнилая интеллигенция. Из вас солдаты – никакие. Вы что? Вы рассуждаете, а солдату рассуждать не положено. Поняли? Не по-ло-же-но! Солдату – что? Солдату нужен приказ. Из этих чучмеков мы сделаем образцовых солдат. Они будут стрелять по врагам согласно приказу, без рассуждений. А вы будете – что? Будете рассуждать и убиты в первый же день войны.
В солдафонском миропонимании мы ничего не стоили. Но если нас, почти врачей, сделали солдатами, то, очевидно, кому-то, зачем-то и для чего-то это было надо. Надо – для какой войны?
Намаявшись за день, перед отбоем на ночь мы сидели на нарах в своей палатке и валяли дурака. У многих из нас появился солдатский юмор с ядреным матом. Особенно отличался Изя Зак. Из него будто перло. Другие даже морщились, и я предложил:
– Давайте договоримся: за каждый мат – дневалить по палатке вне очереди. Кто ругнется, тот пусть подметает глиняный пол и застилает все нары.
Возразил Федя Рогачевский, который успел побывать солдатом на войне:
– Нет, солдату без матыча нельзя.
– А мы и не солдаты, мы – офицеры медицинской службы в запасе. Будем после лагеря.
Проголосовали большинством против мата – стали сдерживаться и восстановили атмосферу цивилизации. Даже Изе Заку потом понравилось.
Ну, и конечно, как у всех солдат, была у нас и «трепотня о бабах». Кто рассказывал свои приключения, кто сокрушался о своих подругах: Вахтанг – о Марьяне, Юра Токмачев – о Нине, а я – о своей Дине.
И вот – конец короткой солдатской службы, мы стащили сапоги, вышвырнули вонючие портянки, переоделись в свое и заспешили к вокзалу маршем в сто сорок шагов в минуту.
Прямо после этого мы с Диной поехали отдыхать в дом отдыха в Алупке-Саре, в Крыму. За два года наши любовные отношения вошли в привычное русло. У Дины с дочкой была своя комната в квартире родителей, для любовных дел этого нам хватало. Мы привыкли друг к другу, я ни о чем не думал. Но с недавних пор она стала заговаривать о женитьбе. Моя первая страсть прошла, безумной любви уже не было – была теплая привычка. И еще одно, важное: все мои попытки вовлечь Дину в свои разнообразные интересы – чтение, искусство, наука, – все это не вызывало в ней интереса. Она была женщина, и ей этого хватало. И мне вначале этого хватало. А теперь было недостаточно. После окончания института, всего через год, мне предстояло начинать новую жизнь – неизвестно где и как. Одно я знал точно, что зарабатывать буду очень мало, как все врачи. Как мне брать в неизвестное будущее их обеих с дочкой? А если мы женимся и я уеду работать один, а она останется в Москве – какая это семейная жизнь? Все это меня останавливало, и на ее попытки говорить об этом я отмалчивался или писал стихи:
Я еще не рассудил, не взвесил —
Жизнь мою с твоей ли я солью,
Просто я нетерпеливо весел,
Оттого, что снова я люблю,
Оттого, что новое вниманье
Мысль во мне влюбленно горячит,
Оттого, что прежнее страданье
Сникло и подавленно молчит;
Счастлив я, что встретил эти губы,
И подумать тяжело до слез:
Если б был я в жизни однолюбом,
До тебя любовь бы не донес.
Когда я вернулся в Москву, то сразу окунулся в еще более напряженную общую атмосферу: из нависшей тучи все чаще сверкали молнии. Одна из них ударила прямо в моего отца. Он еще работал заместителем директора института хирургии и деканом, но эти должности делали его положение мучительным – администрация все чаще игнорировала его как беспартийного еврея. И вот однажды, около полуночи, зазвонил телефон. Отцу часто звонили дежурные врачи – с вопросами по больным, и он всегда отвечал бодрым голосом. На этот раз голос его сразу ослаб и охрип. Мы с мамой нервно прислушивались к его односложным ответам:
– Да, я понимаю… я к этому был готов… ладно, я напишу… если так решили, то я не могу возражать… я знаю, что это не ты… спасибо, что сказал.
Повесив трубку, он присел на стул, встал, опять присел. Мы ждали. Он сказал:
– Звонил Шура Вишневский, он сказал, что райком партии дал ему указание назначить другого заместителя и другого декана вместо меня – на этих должностях должны быть русские и члены партии. Райком уже подобрал кандидатов. Шура извинялся и сказал, что очень расстроен, что хотя он директор, но ничего не может сделать против решения райкома. Он просил меня написать завтра заявление об уходе. Если я не напишу, они могут меня просто уволить. Куда я тогда пойду – работать участковым врачом, как твой учитель? А если напишу заявление, то он сможет оставить меня ассистентом на кафедре. Это на два ранга ниже и зарплата будет в два раза меньше. Что ты об этом думаешь, лапа? – спросил он маму.
Мама сделала вид, что она к этому отнеслась абсолютно спокойно:
– Знаешь, что Бог ни делает – все к лучшему. Ты до того измотался на этих двух работах, что тебе полезно отдохнуть. Так что не расстраивайся, и давай лучше думать, как станем проводить свободное время. А денег нам хватит, будем меньше расходовать.
Отец прислушался к ее утешению:
– Ты так думаешь, лапа? Может быть, ты и права. Я действительно чувствую, что в такой тяжелой общей ситуации мне все это уже не под силу.
Он сел и написал заявление о добровольном отречении от того, чего достигал годами упорной работы. Это заявление было как бы вместо того письма Сталину, которое он так никогда и не написал.
Нам было обидно за отца, но мы Вишневского понимали – в этом случае возражать он не мог, это было бесполезно, а может быть – и небезопасно, даже несмотря на его чины и награды. Александр Александрович Вишневский, которого мои родители звали просто Шура, был другом моего отца с молодости. Он был сыном знаменитого академика Вишневского, имя которого носил институт хирургии, и сам уже был генерал, член-корреспондент Медицинской академии и главный хирург Советской армии. Мой отец был старше него на шесть лет. В 1927 году, когда отец был ординатором клиники в Казани, старший Вишневский привел к нему своего сына-студента и сказал:
– Вот, Юлька, тебе мой Шурка, сделай из него хирурга.
Мой отец дал Шуре в руки скальпель, в первый раз в жизни. И потом всю жизнь они были вместе, работали и воевали вместе, мы дружили семьями. Шура был частым гостем в нашем доме, интересовался моей учебой и однажды дал мне такой совет:
– Помни – твоя будущая научная карьера во многом будет зависеть от того, как ты женишься.
Я запомнил и потом действительно убедился, как важна в жизни будущего ученого его семейная жизнь, как важны понимание и поддержка жены.
Теперь отец приходил с работы раньше, и я тоже сократил свои походы в театры и на выставки. Мы садились с ним рядом и вполголоса обсуждали новые слухи в предгрозовой атмосфере в московской медицине: нависшая над нами туча становилась все черней и страшней.









































