Текст книги "Путь хирурга. Полвека в СССР"
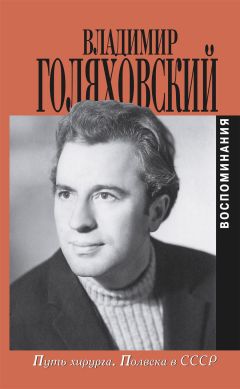
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Некоторые наши чувствительные девицы и дамы тоже заплакали, утираясь платочками.
Нам отменили занятия, мы разбрелись по палатам – к больным детям. Между делами мы вполголоса обсуждали новую трагедию – только с очень близкими. Мы по-настоящему не знали, как к этому отнестись. Болезнь Сталина была тяжелая, во многих случаях – смертельная. Некоторые радовались такому неожиданному обороту. Саша Калмансон был всегда говорливее других:
– Чего наши дуры нюни распустили? Ну, помрет он, так всем лучше будет.
Мы были приучены, что все в стране делалось от имени и под именем Сталина, нам трудно было представить, как все пойдет, если он умрет. Падение или смерть диктатора – редкое историческое событие. К нему всегда разное отношение. Но слова «диктатор» в нашем лексиконе тогда не было вообще. Только очень большие интеллектуалы и то лишь очень глубоко в своей душе могли осмелиться применить это слово к Сталину. У нас вместо него тогда было отживающее слово «вождь». Но что будет, если вождя не станет?
Каждый день по радио и в газетах сообщали бюллетени о его состоянии. Конечно, надо было дать взвинченному населению страны представление, что Сталина лечат как надо и только самые проверенные врачи. Писали: «Лечение товарища Сталина проводит специальная комиссия из лучших профессоров Мясникова, Лукомского, Филимонова. Комиссия работает под руководством Политбюро». Его болезнь превратили из медицинского факта в факт политический. Лукомский и Филимонов были профессора нашего института, которые заменили арестованных Гельштейна и Гринштейна. Мы знали, что они гораздо худшие специалисты, чем те, кого они заменили. О Мясникове говорили, что это он давал заключения о правильности предположений Тимашук. Для многих московских врачей это была плохая рекомендация, хотя все понимали, что если бы он отказался, то сразу попал бы в число обвиненных. И, конечно, здравомыслящим людям было ясно, что члены Политбюро руководить лечением не могут. Как они «руководили» – мы не знали, но…
В два часа ночи 5 марта 1953 года глубокий голос диктора Юрия Левитана скорбно и медленно оповестил по радио: «Товарищ Сталин умер». Мы не спали, потому что вообще перестали спать. Услышав это, отец начал навзрыд плакать – его нервы не выдержали накала:
– Что теперь будет?.. Что будет со всеми нами?..
Глядя на него, я тоже почувствовал, что слезы подступают к горлу. Только мама оставалась спокойной:
– Может быть, это и не так плохо. Может, с его смертью кончится этот ужасный период нашей жизни.
Отец посмотрел на нее:
– Ты так думаешь, лапа?
– Конечно, я уверена. Что Бог ни делает – все к лучшему.
– Что ж, может быть, ты и права.
Он как-то сразу успокоился. Я даже удивился этому. Для меня это был наглядный пример, как умная жена может успокоить растерявшегося мужа. Охладив разгоряченные нервы, мы стали укладываться спать. Мы знали, что в эту ночь за отцом не придут – агенты всех рангов наверняка сами были в растерянности.
Сталин и советская медицина
Целую неделю люди заполняли весь центр Москвы – шли и шли прощаться со Сталиным. Их было так много, что нескольких затоптали в толпе. Поклонение и любопытство гнало всех увидеть Сталина хотя бы в гробу. Традиция русских похорон – чтобы всегда с помпой. Наверное, это перешло от предков-скифов: их раскопки поражают великолепием захоронений вождей. А уж для такого вождя, как Сталин, хотели затмить все. Что думали о нем на самом деле его ближайшие помощники, это выявилось потом. Но сразу после смерти они все еще продолжали его возвеличивать и угождали поклонению толпы. Поэтому они придумали положить его рядом с Лениным, в Мавзолей.
В двух кварталах от Филатовской больницы была биохимическая лаборатория Мавзолея. Ею руководил профессор Борис Збарский, который бальзамировал Ленина, а тогда тоже был арестован. Его срочно освободили из-под ареста, и мы видели, как члены Политбюро привезли туда Сталина на другой день после его смерти. Известно, что Ленин не любил живого Сталина и в политическом завещании писал, чтобы тому не давали власти. Но теперь ему самому приходилось потесниться (через несколько лет правители одумались и перехоронили Сталина в землю за Мавзолеем, но уже без толпы).
Смерть Сталина вызвала в людях растерянность: по заведенной им самим басне о его величии и исключительности многие не могли себе представить, что будет без него. Они лили слезы и выкрикивали проклятия в адрес врачей-отравителей. Мы с тревогой ждали еще целый месяц – куда это могло привести? И вот 4 апреля, ровно через месяц после его смерти, в 6 часов утра сообщение по радио. Тот же глубокий голос Левитана:
«Сообщение Министерства внутренних дел (мы насторожились – почему министерство, что это может означать?). Министерство тщательно рассмотрело все материалы расследования дела группы докторов, обвиненных в преступлениях, шпионаже и другой вредной деятельности, направленной на нанесение вреда советским лидерам (мы замерли – что скажут?). Установлено, что аресты обвиненных в заговоре – профессоров Вовси, Виноградова, Когана, Егорова, Фельдмана, Этингера, Василенко, Гринштейна, Зеленина, Гельштейна, Преображенского, Закусова, Попова, Шерешевского и Майорова (мы все ждали – что же?) были ошибочными, а документы против них были сфабрикованы». (Левитан сделал паузу, а мы от неожиданности заплакали; и даже сейчас, когда я пишу это, у меня тоже наворачиваются слезы тех давних сильных переживаний.)
Дальше говорилось, что ни одно обвинение не было ничем подтверждено, что признания были вырваны «незаконными методами допросов» (мы догадывались об этом и раньше), что все они освобождены. И в конце: «лица, виновные в неправильном проведении расследований, арестованы, против них возбуждено уголовное дело». Потом прочитали указ Президиума Верховного Совета об отмене прежнего награждения Лидии Тимашук орденом Ленина.
Я никогда не видел отца таким счастливым. От возбуждения и радостных эмоций его губы дрожали, он не знал, что с собой делать, – он кинулся целовать нас с мамой, потом кинулся звонить друзьям, он смеялся, опять подбегал к маме и целовал ее:
– Умница ты моя – как же ты была права, когда сказала мне, что смерть Сталина принесет облегчение. Как ты могла это предвидеть? Ах, какая умница!
У всех нас к радости за освобожденных добавлялась радость за самих себя: не будет больше угрозы ареста, не станут нас третировать, а может быть, и высылать из Москвы. Это был решающий момент жизни страны и нашей собственной жизни.
После первого возбуждения мы стали анализировать события последних трех месяцев. Итак, значит, первое сообщение 13 января было грубой ложью. Но мы знали, мы кожей чувствовали, что каждое слово в нем было взвешено самим Сталиным. Значит, «великий вождь», в полнейшем презрении к своему народу, преступно врал всей стране! О нем самом в сообщении не было ни слова. Только логически вытекало, что те «виновные в неправильном проведении следствия» следовали его прямым указаниям. Вся история была апогеем зверских преступлений самого Сталина и тысяч коммунистов перед народом. Но вряд ли много людей тогда понимали это в таком ключе – зловещая фигура Сталина продолжала привлекать к себе большинство (и даже через пятьдесят лет и после множества кардинальных перемен она все еще привлекает некоторых).
Ужасный гнет слетел с душ всех нормальных людей, облегчение наступило для московских врачей, полное ликование было среди евреев. Те, кто считал обвинения правдой, смущенно и без особого энтузиазма разводили руками:
– Что ж, ошибки бывают.
Какие ошибки – убийственные? Неясно было – рады они или совсем не рады. В больнице доценты Дубейковская и Мурашов делали вид, будто ничего не произошло, но в глаза никому не смотрели. Зато Стасик Долецкий дал себе волю поиздеваться над ними:
– Их пресловутая бздительность – это бешеный онанизм их языков. Все твердили, как попугаи: бздительность, бздительность… Вот и добзделись.
Но все же все хотели знать – как возникло то жуткое обвинение? Через два дня в газете «Известия» была опубликована статья. Из этой статьи и разных устных источников стало ясно, что все было делом рук некоего М.Рюмина, рядового следователя госбезопасности. Желая выслужиться, он просто-напросто сыграл на двух слабых струнах черной души Сталина – на его ненависти к евреям и нелюбви к медицине. Рюмину было известно, как сфабриковали дело против Еврейского антифашистского комитета. В нем были писатели и актеры. Почему бы не проделать то же самое с врачами? Фантастической идее о врачах-отравителях сначала не поверил даже его начальник – матерый преследователь людей Лаврентий Берия (он рисковал этим навлечь на себя подозрения в нелояльности). Но Рюмин сумел дойти до самого Сталина и доложить ему, что существует «еврейский заговор врачей» и у него есть нити к его раскрытию. Верил ли этому Сталин или не верил – остается тайной. Он не был дураком, но он был параноик – заговоры мерещились ему повсюду. Идея расправы сразу с евреями и врачами должна была импонировать его параноидному мозгу. Он сделал Рюмина генералом и заместителем министра и дал ему полномочия действовать. Вот от этих действий мы и содрогались уже больше двух лет. Много людей было вовлечено в эти преступления: сначала – Лидия Тимашук, она сама была агентом КГБ и лишь добросовестно выполняла задание; за ней были профессор Мясников и другие, которые давали заключения об ошибках лечения (возможно, они не знали, что документы были поддельные, и наверняка могли быть под давлением и страхом); за ними стояли тысячи следователей, которые круглосуточно арестовывали и вели допросы обвиняемых «с пристрастием», документы и досье на каждого были уже подготовлены (Рюмин работал упорно и бил прямо в цель); а за всем этим стояли партийные власти на местах – по всей стране, которые послушно нагнетали антисемитизм и недоверие к врачам; и в последнем эшелоне были органы печати и радио, которые добросовестно заморочивали население страны теми грубыми вымыслами, не смея, конечно, их проверять. А журналисты и писатели воспевали «героизм» чудовищных преступников против своего же народа.
Последнее преступление Сталина пустило в работу всю верноподданническую машину. Однако наказание понесли только двое: министр Игнатьев и его заместитель Рюмин – после разоблачения их расстреляли по решению военной коллегии Верховного суда.
Но вот интересный вопрос: почему было Сталину не любить медицину? Если в это вдуматься, то ответ может быть только один: потому что ему было чуждо все туманное. В презрении к гуманным законам и устоям медицины, он много раз использовал врачей для провокаций своих политических зверств. В самом начале его единоличного рывка к власти, в октябре 1925 года, по его указанию был умерщвлен нарком (министр) обороны Михаил Фрунзе. Между ними были разногласия в вопросах реорганизации армии. Фрунзе был болен, у него была язва двенадцатиперстной кишки. Сталин настаивал, чтобы ему сделали операцию, которую сам больной не хотел. Операцию делал известный хирург профессор Иван Греков с авторитетной бригадой хирургов. Греков считал, что операция была наркому показана, хотя у него было слабое общее здоровье. Хлороформный наркоз на операции давал врач Холин. Во время операции Сталин сумел «убрать» Фрунзе руками врачей – он умер на операционном столе от передозировки хлороформа (как тот мальчик, смерть которого мы видели студентами на пятом курсе). Доктор Холин сделал, что ему приказали, а потом сам пропал навсегда – его тоже «убрали»: он знал слишком много. Если вдуматься, способ убийства политического оппонента с помощью наркоза был на редкость изощренной идеей Сталина.
В 1934 году скоропостижно умерла жена Сталина – Надежда Аллилуева. По его указанию профессор Дмитрий Плетнев и тогдашний главный врач Кремлевской клиники Александра Канель должны были подписать медицинское заключение, что она умерла от аппендицита. Но они оба видели ее труп с простреленной головой (она покончила жизнь самоубийством, хотя ходили слухи, что убил ее он). Они отказались подписать это заключение, и Сталин затаил на них злобу. Канель сняли с работы, но Плетнев был тогда лучшим терапевтом и был главным терапевтом Красной армии и генералом – его оставили до поры до времени. Но вот в 1937 году тоже скоропостижно умер нарком (министр) тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Ходили слухи, что он покончил с собой по прямому принуждению Сталина. Плетнева на этот раз заставили подписать фальшивое заключение о его смерти от сердечной слабости. Но после этого его вместе с кремлевским специалистом доктором Львом Левиным обвинили в преднамеренно неправильном лечении и смерти Горького. Над пожилым Плетневым устроили суд, якобы за попытку укусить за грудь пациентки (подставной фигуры). Оба доктора были арестованы и пропали в застенках и лагерях.
Но ведь и сам Сталин мог нуждаться во врачах. Кто и как его лечил? До семидесяти лет у Сталина было, очевидно, очень неплохое здоровье и большая работоспособность (к общему сожалению). Единственный врач, допущенный изредка его осматривать, был профессор Владимир Виноградов, старый русский интеллигент. В последний осмотр, перед 1953 годом, он записал, что у вождя сильно повышенное артериальное давление и ему необходимо временно отказаться от большой нагрузки. Это обозлило Сталина и он поставил русского Виноградова в ряд с «отравителями»-евреями.
Но парадоксально, что нелюбовь Сталина к медицине сделала его жертвой собственной жестокости: когда он заболел, его некому было лечить – все лучшие специалисты были им арестованы. В Америке и в западных странах кровоизлияния в мозг уже умели лечить операциями. Сталину надо было срочно делать нейрохирургическую операцию. Но привезенные к нему врачи боялись его лечить: перед ними стояла дилемма – при активном лечении они рисковали его жизнью, а в таком случае рисковали и своими собственными. Поэтому они лечили его «симптоматическими средствами» – давали кислород из подушки и делали бесполезные уколы сердечных средств. Так, под самый конец жизни Сталин единственный раз получил то же самое лечение, которое получил бы любой старик в самом глухом углу страны. Он уравнялся со всеми стариками – и умер.
Распределение на работу
От мамы я слышал однажды мудрую старую поговорку: «В двадцать лет ума нет – и не будет, в тридцать лет жены нет – и не будет, в сорок лет денег нет – и не будет». Мне уже исполнилось двадцать три – нажил я себе ум или нет? Не тот ум, который получают из книг, а который дается уроками жизни для правильной в ней ориентации.
Мы были поколением с промытыми мозгами и, в разной степени, верили в социализм – когда правительство думает за тебя. Да и как нам было не верить, если мы не могли сравнивать – сталинский «железный занавес» не давал нам заглянуть в другой мир. Но потрясение делом врачей сильно «вправило мозги» многим, и мне тоже. Хотя впервые правительство показало пример восстановления справедливости, у меня осталось предчувствие, что при советской системе могут возникать новые потрясения.
Общественные потрясения – это и есть уроки жизни, которые надо осмысливать для ориентации в будущем. Из пережитого я вынес одно из самых главных правил, которым руководствуюсь всю жизнь: не доверяй правительству на всех его уровнях – думай сам и доверяй своему уму и чувству, в решительные моменты жизни надо иметь интеллектуальную уверенность в своей правоте.
По долгим размышлениям о своем отношении ко всему происходящему вокруг меня я решил, что первый этап той маминой поговорки уже прошел – в двадцать с небольшим лет я сумел приобрести ум, который поможет мне в жизненной ориентации. Впереди оставались еще два этапа – к тридцати и сорока годам, но думать о них мне пока было еще рано: сначала надо было начать свою докторскую карьеру и уже на ней созревать для следующих этапов.
И вот нашему курсу назначили явку в государственную распределительную комиссию – кого куда пошлют работать. Это вызвало бурю волнений: москвичи хотели остаться в Москве, особенно наши девушки. Тем из них, кто был замужем, должны были дать распределение по месту работы мужа. Женатые пары с курса распределялись вместе. В Москве оставляли в основном членов Коммунистической партии и комсомольских активистов. Партийный комитет и недавно пришедшие новые партийные профессора заготовили им места в аспирантуре на кафедрах института. Все мы знали, что они не были лучшими студентами и их «научная карьера» строилась на партийной основе – вряд ли из них могли получиться хорошие ученые и преподаватели. Это было простое продолжение обычного советского разбавления мозгов: плохие профессионалы приваживали к себе еще более слабых. Так ослаблялось будущее советской медицины.
Дома мое распределение обсуждалось много раз. Я надеялся, что профессор Терновский оставит меня в клинике за художественный талант, и не очень волновался. Отец все-таки предложил:
– Я поговорю с детским хирургом Кружковым, главным врачом больницы имени Русакова. Может, он запросит тебя для распределения к нему в больницу.
Мама горячо поддержала:
– Надо поговорить, чтобы было верней.
Я хотел остаться у Терновского. Но однажды он остановил меня в коридоре:
– Володя, доктор Кружков просил меня передать вас ему.
Ага, вот оно что! – значит, он меня не оставляет. Ну что же – фактически большой разницы в этом не было: так или иначе, я останусь в Москве.
За день перед распределением нас собрал аспирант кафедры Юрий Исаков, один из партийных активистов (после смерти Терновского он заведовал его кафедрой, стал заместителем министра здравоохранения и вице-президентом Академии медицинских наук). Тогда Юра был секретарем комитета комсомола и поэтому остался в аспирантуре в Москве. С нами он был откровенен:
– Вас будут вызывать по одному в кабинет ректора, где сидят все члены комиссии. Я хочу дать вам совет, как себя держать. Там будут председатель комиссии, от Министерства здравоохранения, наш ректор, секретарь парткома, декан факультета, наш профессор, еще кто-нибудь из министерства. Члены комиссии имеют перед собой ваши личные дела, и все вы уже приблизительно распределены по разным точкам страны. Они будут их вам советовать. Но решение не может быть окончательным без ваших подписей. Очень важно, как вы себя поведете. Держитесь спокойно, не торопитесь с решениями. Сначала председатель комиссии задает всем один и тот же вопрос: «Куда бы вы хотели поехать работать?» Этим он вас проверяет. Вы должны отвечать: «Поеду туда, куда меня пошлет Родина». Говорите только это, и ничего больше. Такой ответ сразу определит ваше политическое лицо. Для начала предложат: «Родина посылает Вас на Сахалин, или в Якутск, или в
Верхоянск», – в самые дальние и невыгодные точки. Ни в коем случае не отказывайтесь, делайте вид, что вы соглашаетесь. Члены комиссии будут удовлетворены и дадут вам бумагу на подпись. Вы продолжайте делать вид, что готовы подписать, берите ручку в руку, но в последний момент спросите: «Может быть, Родина может послать меня куда-нибудь в другое место?». Они предложат вам две-три точки ближе к Москве, но не очень близко. Вы опять не отказывайтесь, делайте вид, что готовы подписать. Но в последний момент опять спросите: «Нет ли чего-нибудь поближе к Москве?» Вот тогда они дадут вам то, что вас больше устроит.
Мы понимали, что такая игра – простой фарс. Но за годы учебы мы привыкли к тому, что все в советской общественной жизни было фарсом. Поэтому мы послушались его, и многим это помогло.
Комиссия работала в классических советских традициях и была очень похожа на бюрократию, высмеянную в пьесах русского драматурга Александра Островского. Когда вызвали меня, я увидел перед собой надутые лица и холодные глаза важных чиновников – никакой приветливости к молодому врачу. Председатель комиссии профессор Николай Виноградов, начальник Управления учебными заведениями, говорил холодным, безразличным тоном, другие отстраненно молчали. Все повторилось слово в слово по данному нам совету. От первых двух предложений я не отказывался – сначала в Омскую область, потом в Саратовскую область – поближе. Каждый раз я просил что-нибудь другое. На третий раз я ждал, что сидевший там Терновский скажет о том, что меня запрашивал доктор Кружков. Но он почему-то молчал. На минуту я растерялся – ведь решался серьезный для меня вопрос. Я решил сам сказать:
– Я хочу быть там, где смогу работать детским хирургом.
– Что ж, место детского хирурга есть… – председатель Виноградов сверился с бумагами. – Есть только в городе Петрозаводске. Там нужен детский хирург.
Об этом городе я ничего не знал и в растерянности глянул на Терновского. Он продолжал молчать, не выражая поддержки. Я почувствовал, что Москва уплывает у меня из-под ног. Вся важная комиссия молча и холодно ждала моего ответа. Молчание бывает разное: бывает выжидательное, зловещее, вопросительное, недоумевающее. Их молчание казалось мне скрыто-враждебным. Я стал быстро решать: если я хочу быть хирургом, то для меня не так важно, почему они дают мне только один вариант; я сам разберусь на месте, в том Петрозаводске, и вернусь оттуда в Москву с хирургическим опытом. И я подписал. Комиссия сразу забыла про меня, вызвали следующего.
В вестибюле института была одна обшарпанная будка с телефоном-автоматом. Перед ней выстроилась длинная очередь из наших студентов: все сообщали своим близким результаты их распределения. У кого лица были спокойные, а у кого – слезы на глазах. Почти навзрыд плакала Аня Альтман – ее распределили в самый далекий и холодный сибирский город Магадан. Он пользовался мрачной славой – это была столица ГУЛАГа. Все знали, что туда ссылали жертв сталинского политического террора, осужденных на большие сроки. Аня была хрупкая девушка, жила с больной матерью, была единственная дочь и ее поддержка. Заливаясь слезами, она говорила подругам:
– Как я маме скажу? Оставить ее одну дома я не могу, а везти в те условия – это ее убьет.
– Ты комиссии хоть говорила про это?
– Говорила. Даже умоляла. А председатель Виноградов ответил, что советские люди разных возрастов живут в нашей стране повсюду, и моя мама тоже может жить в Магадане, как живет в Москве. И еще усмехался.
Жалко было Аню. У нее была довольно привлекательная внешность – темные волосы и голубые глаза. Но при этом она все годы выглядела забитым существом, была незаметна, держалась позади всех и молчала. Может быть, потому что жизнь была невеселая? Наши ребята никогда не обращали на нее внимания, одна из немногих она оставалась незамужней. Я слушал эти разговоры и думал: мне еще повезло, что не послали в Магадан.
Взволнованная мама ждала у телефона. При всех уверениях, она боялась, что меня могут заслать в какую-нибудь глушь. Я выпалил сразу:
– Меня распределили в Петрозаводск.
– В Петрозаводск? Где это?
– В Карело-Финской Республике, на севере от Ленинграда.
– На севере?.. Далеко?..
– Наверное, километров пятьсот. Только там было место детского хирурга.
Она замолчала, переживая. Потом спросила:
– Ты сам доволен?
Надо было ее успокоить:
– Конечно, доволен. Других распределяют по еще более дальним местам. Там я смогу стать хирургом, а потом вернусь.
Мама, как все мамы, боялась, что если я уеду из-под ее крыла, то буду недостаточно питаться и жить неухоженным. И она боялась, что по неопытности я могу жениться на какой-нибудь провинциалке. Она столько сил вложила в мое воспитание, что ей казалось – никакая женщина не будет достаточно хороша для меня. Родственники тоже волновались за мое будущее. Мой дядя Миша, старший брат отца, дал такой совет:
– Смотри, Володька, поедешь в провинцию – только не сделай там две глупости: не вступай в партию и не женись.
Из всех партийных активистов на распределении пострадал только один Борис Еленин, тот самый, который пять лет назад выступил на собрании против профессора Геселевича и своим выступлением окончательно его угробил. Пять лет Борис был самым могущественным из студентов – членом партийного комитета и «своим человеком» при секретаре райкома Фурцевой. Считали, что он будет иметь головокружительную карьеру. Но… перед окончанием института выяснилось, что он украл деньги из партийной кассы – партийные взносы коммунистов. Дело как-то замяли, но в аспирантуре его не оставили. А ведь потерпи он всего несколько лет и укради эти деньги уже после аспирантуры, то вполне мог бы стать всем, кем угодно, даже советским министром (примеры бывали).
Уже в конце экзаменов произошло трагикомическое событие. Как-то раз в вестибюле института появилась растерянная женщина пожилых лет, которая искала какого-то преподавателя по марксизму. Толком объяснить она не могла, ей сказали, чтобы она спросила о нем в партийном комитете. Старуха пришла туда.
– Бабушка, что вам нужно?
– Да вот ищу этого, как его? Фамилия такая чудная – Пугалло, что ли.
– Подгалло, наверное. Он доцент кафедры марксистской философии. Зачем он вам?
– Мне-то, милые, все равно, кто он. Я не потому пришла. Он деньги мне задолжал, за два месяца не заплатил.
– Бабушка, о чем вы говорите? За что он вам не заплатил?
– Он, милые, у меня комнату снимает, на два вечера в неделю. Он приводит разных девчонок-студенток, а я и ухожу. Мне-то все равно, зачем он их приводит. Но я женщина бедная, мне деньги нужны, каждая копейка дорога. А он за два месяца не заплатил.
Партком, куда она попала случайно, был самым подходящим местом для разбора грязных дел – этим они в основном и занимались. Вызвали Подгалло:
– Эта женщина говорит, что вы к ней студенток приводите. Зачем?
Выяснилось, что наш лектор по марксистской философии приводил туда студенток и за сеанс любви тут же подписывал им зачет в зачетную книжку и обещал положительную оценку на государственном экзамене по марксистской философии. Ему было за сорок, на вид малопривлекательный – невысокий, лысоватый. Но зато – какая им-то выгода! – не ломать голову над дурацкими книгами. Был скандал, ему влепили партийный выговор и пригрозили выгнать с работы. Много было об этом разговоров, но мы так никогда и не узнали, кто из наших девчонок согласился расплачиваться своим телом за марксистскую философию.
(Через двадцать лет я с удивлением снова встретил в институте Подгалло – он все еще преподавал марксистскую философию. Так она крепко въелась в программу медицинских институтов, что эти «философы» всегда были нужны.)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































