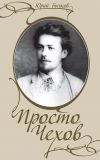Текст книги "Журавли над полем (сборник)"

Автор книги: Владимир Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Так уж и до смерти? – удивляются. – А чё ж ты до сих пор жива?
– Вот сюды попала, дак и жива, – наивно высказывает предположение Дуся. – А так, може, и не жила бы на свети.
– Выходит, счастье тебе выпало, что сюда попала? – донимают.
– Выходит, – соглашается Дуся, не переставая орудовать тряпкой.
– И тебе хорошо здесь? – удивляются теперь организаторы «концерта».
– Хорошо аль плохо – везде нада работать.
В конце концов ей надоедают расспросы, а может и начинает понимать, что над нею смеются. Дуся вдруг выпрямляется, подбоченивается, оглядывая зэков, произносит всегда одно и то же, будто ставит точку:
– Вас, оглашенных, на работу пора бы выгнать, дак зубы не скалили бы. Все дружно смеются.
Дусе на вид было лет сорок, и находились такие, кто пробовал подкатываться к простодырой – все ж баба, а тепла женского всякому хочется. Подкатывались и попадали под тяжелую руку крестьянки, а это все одно, что лечь под кувалду на наковальню.
Но, видно, душа русской женщины столь же загадочна, сколь неисповедимы пути Господни. Дуся в конце концов обратила свой взор на вечного истопника больнички неказистого мужичонку с обидной кличкой Сопля. Сопля тот попал на Колыму по какой-то воровской малости, но на полную зэковскую катушку. Обычную колымскую работенку, по причине своей слабосильности, исполнять не мог, за что перепадало несчастному и от охранников, и от собратьев по нарам, отчего Сопля время от времени оказывался на больничной койке. И однажды главный врач Варвара Петровна своей волей оставила Соплю при больничке. Менять же ее решение никто не стал.
Дуся с Соплей умудрились произвести на свет белоголового мальчонку, который крутился тут же возле матери и отца.
Сразу после войны, когда у обоих закончились сроки заключения, все трое канули в необъятных просторах Советской Родины.
В колымской эпопее это, может быть, одна из самых нехитрых историй со счастливым концом, неизмеримо больше с трагическим, отчего земля здесь усеяна бесчисленными захоронениями, о которых никто уже не помнит. Мало кому удавалось дотянуть и лямку своего срока. Василий Маркин был одним из немногих, кто в 1948 году отправлен был на поселение.
8.Маркин шел по поселку, и встречный народ не узнавал его. От того бывший зав. отделом пшеницы, а потом и бывший враг этого вот, проживающего в поселке селекционной станции, народа, испытывал странное чувство, будто его, Василия Степановича Маркина, здесь нет и никогда не было. Не было молодости, горячей работы, грандиозных планов, безудержной отваги и решимости – торить новую дорогу в селекционной науке. Не было соратников, коллег, сослуживцев. Не было любви, семьи, соседей, друзей.
Ничего не было. И вот он, Василий Маркин, идет по совершенно чужому ему поселку, где уже давно живут новые, не знаемые ему люди, а сама селекционная наука шагнула далеко вперед: появились новые сорта пшеницы, и не только пшеницы. Без него шагнула, а он, Василий Маркин, остался где-то на обочине жизни – всеми забытый, никому не нужный, преданный своим прошлым. Да-да, преданный своим собственным прошлым, которое, как известно, есть только у того, кто оставляет за собой приметный след – в написанных книгах, построенных мостах, зданиях, гидроэлектростанциях, новых сортах.
А что оставил после себя он – здесь, на Тулунской селекционной станции, куда стремился столько лет и куда, наконец, пришел с сердцем, отягченным пережитым, с думами о не свершенном, с душой скорбящей и опустошенной страданиями?.. Что?..
И он почти никого не узнавал. Мимо него проходили все незнакомые ему люди, куда-то спешили, о чем-то говорили между собой, с любопытством поглядывая на него, Василия Маркина, видно, спрашивая себя: кто он, зачем здесь, что ему надобно и какая забота привела его в поселок?
* * *
Рядом с элитным выросли новые склады, автогараж, где стояли комбайны, сеялки, прицепной инвентарь.
А солнце светило ярко, резало воспаленные глаза, заливало светом улицы, дома, реку, тонуло в зелени деревьев.
По широкому двору ходили люди, грузились машины, здесь же суетился кладовщик с бумагами в руках, видно, накладными на отписываемый груз, на него наседали шофера, и он, как мог, отбивался от них – горластых и напористых.
У входа в контору стоял высокий мужчина и с кем-то разговаривал, в нем Маркин узнал своего последователя Александра Соловьева – заматеревшего, вошедшего в зрелые года, уверенного в себе, которого Маркин помнил еще совсем молодым человеком.
Остановился неподалеку в ожидании, что на него обратят внимание. Соловьев взглянул в его сторону раз, затем другой, в глазах отразилось нечто вроде удивления, подошел к Маркину:
– Ты, Василий Степанович, или я ошибаюсь?
– Не ошибаешься, Александр Александрович. Прибыл в Тулун, не удержался, чтобы не побывать на селекции: увидеть знакомых, пообщаться, узнать, как и чем вы тут жили без меня почти двадцать лет, поклониться родным могилкам.
– И правильно сделал, Василий Степанович, ведь в новых сортах есть и твой труд, хотя.
Соловьев замялся, будто не решаясь сказать о чем-то важном для гостя.
– Говори-говори, я не кисейная барышня, привык и не к такому.
– В сортовых свидетельствах, к сожалению, в силу известных тебе причин, не отмечено твое имя. Но ты ведь сегодня еще не реабилитирован?
– Нет, но буду, известия жду со дня на день. Слишком долгим был путь к реабилитации. Слишком многое упущено, похоронено, позабыто-позаброшено. А начинать сызнова – возраст уже не тот, да и внутри пусто. Что касается сортовых свидетельств, то это, как мы с тобой понимаем, не окончательный документ, даже Конституция подправляется. А моего вклада никуда не денешь – он в гибридах, линиях, периодичности, лабораторных исследованиях и так далее. Да что я говорю, ты ведь не дилетант какой-нибудь.
– Коли реабилитирован, то и вопрос можно будет поставить на ученом совете совсем по-иному.
«Правильно толкуешь, – подумал про себя Маркин. – Тебе-то деваться некуда. Вы все здесь, видимо, надеялись, что я не вернусь, а я – вот он, нарисовался – не сотрешь».
– Что это мы, Василий Степанович, все о работе, давай завернем в магазин да пойдем куда-нибудь, отметим встречу.
– Я не прочь отметить, да прежде хочу зайти к вашему руководству.
– Хорошо. Я тем временем в магазин, в общем подожду тебя. Директора, Михаила Федосеевича Бычко, на месте не оказалось, и Маркин этому обстоятельству даже обрадовался – не хотелось ему именно в день прибытия на селекционную станцию вступать в какие-либо беседы с людьми им не знаемыми и, по сути, чужими. И, наоборот, тянуло к тем, кто был рядом в его лучшие годы.
Соловьев не был рядом, но все же родная душа – селекционер, с которым пересекался в пору, когда читал лекции в Иркутском институте сельского хозяйства. Этот, конечно, об оставленном им материале знает все. Знает и о том, на сколько далеко шагнули тулунские селекционеры, а для Маркина лучшего собеседника и не надо.
Он вышел на улицу, присел на лавочку покурить, задумался и не заметил проходившей мимо женщины, которая остановилась напротив, на лице отразились и радость, и боль, и желание кинуться со всех ног на грудь вновь прибывшего, дорогого, но, как думалось, потерянного навсегда человека.
– Бож-же мой, Надежда Афанасьевна, Надюша! – подняв голову, воскликнул Маркин. – Ты ли это, дорогой мой товарищ?
Они обнялись, Надежда Сенкевич заплакала навзрыд: Маркин утешал, как мог, но и у него самого текли по щекам слезы.
– Как я рад, как я рад, что тебя встретил – первого дорогого мне человека на станции. – бормотал он.
– И я рада, очень рада видеть тебя в здравии, многие ведь не вернулись. оттуда. – говорила Надежда, отстраняясь, чтобы получше разглядеть. – Ты, я вижу, такой же статный, сильный, уверенный в себе, только постарел.
– Постареешь тут. Годы прошли бездарно и безвозвратно – это меня и гнетет, – отвечал ей Маркин. – Вернуться бы туда, откуда начинали мы своим отделом работу над сортами, но время на всех одно – неумолимое, жестокое, перемалывающее людей на свой лад, что мельничный жернов.
Говорил еще что-то, улыбался, вздыхал, печалился.
– Ну, рассказывай, как вы тут жили-поживали? – спросил, наконец, о заветном.
– Ты знаешь, Василий Степанович, а у меня все эти годы из головы не выходит твоя Прасковья. Замечательная была женщина… Ведь ей предлагали от тебя отречься, она – ни в какую. Сначала попросили выселиться из дома, потом оставить работу в школе. Чем жила и как жила – не знаю. Сгорела, как свечка, а доченька твоя – уже взрослая женщина, слышала я, что работает в Братске учительницей.
– И я не забыл Прасковью. А дочь – отыщу, это теперь нетрудно будет сделать, я ведь подал документы на реабилитацию, думаю, решение комиссии будет положительным. Мне ничего существенного не было предъявлено.
– Че ты говоришь? – всплескивала по-бабьи руками Надежда. – И слава богу, разберутся, наконец. А сколь страданий принесли тебе эти годы – уж и не спрашиваю. Только материал твой использован полностью. Соловьевым использован.
– Об этом я знаю. Кстати, его я и жду.
– Да?… – искренне удивилась Сенкевич. – А я-то думала…
– Что ты думала? Ты думала, я буду скорбеть по использованному кем-то материалу? Я ведь когда-то тоже материалом Гусельникова воспользовался, но и по-другому не могло быть, потому что каждый селекционер отталкивается от своих предшественников.
– Не в этом дело. Дело в том, что твоего имени нет в реестре соавторов. И тот же Соловьев никогда не ставил вопроса о включении твоего имени.
– И это мне известно. Мы все были запуганы на столько, что собственной тени боялись. Боялся и он, потому и не хлебнул мурцовки колымских лагерей. И правильно, что боялся, по крайней мере, было кому здесь работать.
– Ну тебе лучше знать, Василий Степанович, может, ты и прав, – стояла прислонившись к его плечу и вытирая кончиками платочка слезы, будто боялась, что видение исчезнет.
– Так нежданно-негаданно ты объявился, что и не знаю, чё сказать-то…
– А ничего не говори, дорогая моя Надюша. Я и так обо всем догадываюсь, ведь ты – одна из немногих моих товарищей, которая помнила обо мне все прошедшие годы. Ведь помнила?
– Помнила, Вася, – впервые назвала его просто по имени.
– Вот и хорошо, что тебя встретил, на душе, Надюшенька, стало так спокойно и легко, будто вернулся в молодость.
Подошел Соловьев, предложил всем троим пойти на берег Ии.
– Нет, – отказалась Надежда. – Вы уж мужской компанией отметьте встречу. Но тебя, Василий Степанович, я жду к себе вечером. У меня и заночуешь.
И пошла, склонив голову, своей дорогой – постаревшая, но не потерявшая женской стати эта уставшая от жизни женщина: из тех русских женщин, которые отдают всю себя без остатка работе, мужу, детям, людям, и про которых сказал поэт, что они и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут.
Мужчины некоторое время смотрели ей в след, затем направились к обрыву, где была едва приметная, теряющаяся в траве тропинка к воде.
Скалистый высокий берег, с выступами гранитных валунов тянулся вдоль всего поселка. На крутом его склоне каким-то чудом удерживались сосны, березы, рос шиповник, а чуть ниже – черемуховые кусты, боярышник, ива, мелкий тальник. Между кромкой воды и началом склона пролегала протоптанная многими ногами тропинка – по ней чаще всего ходили рыбаки, перебираясь с места на место в поисках доброго рыбацкого фарта. На тропинке можно было наткнуться на выползшую из кустов змею. Шум воды, птичий гомон и жужжание паутов, шмелей, пчел сливались в единую песню природы, одарившую эти благодатные края буйством всевозможной растительности, красок, ароматов.
Хорошо было здесь просто сидеть на валежине и смотреть на волнистую поверхность устремляющейся куда-то вдаль реки, по берегам которой издавна селились люди, из которой брали воду для питья, для приготовления пищи, для бань и других хозяйственных нужд. Здесь же отдыхали семьями, купались, влюблялась и поверяла друг дружке свои сердечные тайны зеленая молодежь. Здесь бродили веселыми ватагами парни и девушки, звенела гармоника, далеко окрест разносилась задорная незатейливая частушка.
«Не гуляй по бережку —»,
Мать грозила пальчиком.
Я любовь приберегу
В потайном карманчике.
Маркин шел за Соловьевым, а где-то, в заветных тайниках души, в самых-самых укромных уголках сердца звучали эти частушки, которые пели не только здесь, на берегу сибирской реки, но и у него на Родине на смоленщине, и в них была сама Россия – любящая и страдающая, нежная и суровая, радующаяся и скорбящая. Звучали, будоража память, поднимая со дна памяти всю муть пережитого и среди этой мути будто открывалось нечто, чего не коснулась грязь и вонь тюремная, подлость низких и мелких людишек, дуболомность следователей, злобность охранников и равнодушие тех, от кого зависят человеческие судьбы.
Долго еще Маркину болеть памятью, долго излечиваться среди красоты и благодати прекрасной сибирской природы, среди людей добрых, бесхитростных и жалостливых – таких, как Наталья Сенкевич, Говорины Никифор со своей Аннушкой, Блажной.
«Где он теперь, Владимир Михайлович Блажной, может, и на свете нет его?» – подумалось и тут же забылось, ибо внимание его отвлек Соловьев, остановившийся как раз на том месте, где они когда-то часто бывали с Прасковьей.
Маркин огляделся, вдруг почувствовав, что сердце в груди забилось сильнее, дыхание участилось, знать, ничего не забылось, не поросло быльем, не ушло в туманную даль прошлого.
– Здесь посидим или дальше пойдем? – спросил Соловьев.
Ничего не ответив, Маркин пошел дальше, а его спутник, больше ни о чем не спрашивая, последовал за ним.
Остановились напротив переката, где Ия будто переваливалась через гранитные камни, нежась и играя в лучах яркого солнца.
Здесь меньше было растительности, от чего шире открывался простор реки, леса, скалистых берегов. Сели под тень черемухового куста.
– Я вот что хотел у тебя спросить, – после выпитой первой рюмки сказал Маркин. – Моя работа была в такой стадии, что отдельные сорта хоть завтра отдавай на испытания. Неужели и эти не отмечены моим именем?
– Ты о пшенице Сибирка 1818? – переспросил Соловьев, который не знал, что ответить своему бывшему наставнику.
– О ней и о других тоже.
– Сибирка была районирована в 1940 году, мы ее со своим отделом еще дорабатывали. Тулун 14 – в 1942-м – и с этой было немало работы. Ударница – в 1947-м. Иркутская 49 – в 1952-м. Иркутская 147 должна получить свидетельство уже в этом, 1955 году. А в будущем 1956-м ожидаем высокой оценки еще одному сорту – пшенице Скала. Этот превзойдет все предыдущие сорта по всем показателям, прежде всего, по урожайности, устойчивости к заморозкам, полегаемости. Так что все в свои сроки. В 1938-м, когда тебя арестовали, Сибирка, например, была передана на сортоиспытания, а через два года ее районировали.
– Выходит, что кроме моих сортов пшеницы, над которыми я работал, за эти восемнадцать лет другие сорта и не появились? – усмехнулся Маркин, понимая, что его вклад в селекционную науку тулунской станции не так уж и мал.
– Выходит, не появились. Я твои сорта дорабатывал и, признаться, потрудился всласть. Но Скала, повторяю, превосходит все предыдущие сорта вместе взятые. Это будет сенсация на всей территории Сибири и Дальнего Востока, – с ноткой гордости в голосе произнес Соловьев.
– Сан Саныч, дорогой, я думаю, тебе, как опытному селекционеру, не надо объяснять, что твоя хваленая Скала взялась не на ровном месте. Ей предшествовал и мой труд, и Мусатова, и Гусельникова.
– И труд Антонины Николаевны Скалозубовой, которую ты не знал, но вклад ее в селекцию пшеницы очень заметный. И труд лично мой, я ведь уже более пятнадцати годков на селекции, за эти годы перелопатил материала – дай бог каждому. Ты-то ведь и всего-то не полных пять лет, – продолжил в запальчивости Соловьев. – Все мы работали, используя один и тот же материал. И не моя вина, что тебя арестовали.
– Не заводись, я тебя и не виню. Тут вообще нельзя никого винить, разве сволочь какую-нибудь, которая строчила доносы. Но выискивать, кто написал донос на меня, я не собираюсь. На прошлом поставлена точка. Все!
Маркин рубанул рукой воздух. Встал, прохаживаясь, видно, чтобы успо-коиться.
– Надо продолжать жить, работать. Да и руки чешутся по настоящему делу – не все ж на дядю горбатиться на лесоповале или где-нибудь на руднике, как пришлось мне. Благо выжил – выжил, благодаря здоровью, которое мне досталось от родителей, да по причине моей личной настырности. И заверяю тебя: придут документы по реабилитации, и я явлюсь на ваш ученый совет и потребую восстановления справедливости – слишком дороги мне те годы, – дорогие мне годы, когда начиналась моя жизнь и в науке, и в семье, и как отца, и как гражданина. А гражданином своей страны я не переставал быть и там, в колымских лагерях.
– Я в этом и не сомневаюсь, – поспешно добавил Соловьев. Маркин усмехнулся, ничего не сказал. Немного погодя, спросил:
– Как ты думаешь, Бычко возьмет меня на работу?
– Михаил Федосеевич человек добрый, но взять тебя, думаю, побоится. Ты ведь еще не реабилитирован. Да и не будет он один принимать решение – обязательно соберет всех селекционеров. На мнение людей и сошлется. А мнение. – ну ты сам знаешь, каким может быть.
– Ну и бог с ним. Работа найдется в другом месте.
Так оно и случилось. Бычко сослался на мнение селекционеров, которые, посовещавшись, решили: с приемом Маркина на работу не торопиться.
В управлении сельского хозяйства Тулунского района предложили место участкового агронома на Гуранскую машинно-тракторную станцию. Маркин согласился, включившись в работу со всей нерастраченной силой стосковавшегося по настоящему делу человека, и скоро с его мнением стали считаться все специалисты: в управлении, в районе, хозяйственники.
Василий Степанович взялся за наведение порядка в севооборотах, в подборе семян для посевов, в качестве обработки почвы. Его решительный нрав, умение доводить дело до конца, способность вникнуть во все детали, работоспособность одних отталкивали, других притягивали к себе, как магнит. Василий Степанович шел напролом, если это касалось интересов дела, и проявлял гибкость, если сталкивался с начальством. Этому он научился в лагере, где выживал тот, кто не гнулся перед всяким фраером, но и не бился головой о непробиваемую стену.
Во всяком случае, в считанные месяцы все, кто с ним соприкасался, поняли, что на должность агронома пришел человек знающий и серьезный, сходясь во мнении, что этот выправит положение даже там, где работа безнадежно запущена предшественниками.
Как специалист, Маркин ничего не забыл из того, что знал и что потом затвердил наизусть, выполняя каторжную работу, когда руки заняты, а голова свободна. Маркин научился построчно, постранично повторять читаные некогда книги по агрономии, и в том проявилась еще одна черта его характера: не терять самого себя в любой ситуации и, наоборот, совершенствовать, обогащать знаниями, извлекать полезное для будущей жизни и работы.
Маркин знал, что вернется на тулунскую землю. Вернется не за тем, чтобы кому-то предъявить счет за бездарно потерянные годы, а за тем, чтобы утвердить себя в своем собственном мнении. Иначе все попусту, иначе грош ему цена.
Работоспособности Василия Степановича удивлялись все, кто с ним соприкасался. Но и это было не самое главное. Главное же было в том, что находящиеся с ним в одной упряжке люди начинали работать с удвоенной силой. Он втягивал в орбиту собственной личности всех, кто в нее попадал, и ничего нельзя было с этим поделать.
Маркин вставал рано, приходил домой поздно, спал мало, ел ровно столько, чтобы хватало организму для жизнедеятельности.
И наконец осенью 1955 года пришли документы по его реабилитации. Маркин явился к начальнику МТС и попросил неделю отпуска за свой счет.
– Да ты чё, Василий Степаныч, кто ж будет работать?
– Уборка кончилась, технику поставите без меня, а с подработкой зерна я разберусь, когда вернусь в Гуран.
– Куда ж ты собрался, ежели не секрет? – только и успел, спросить Виктор Васильевич Демин, привыкший к напористости агронома.
– Вот, почитайте, – подал ему бумагу Маркин. – У меня дочь в Братске, которую еще надо найти, да кроме того навести порядок в кое-каких делах.
– Так ты теперь реабилитирован подчистую? – спросил Виктор Васильевич, хотя спрашивать уже было не о чем – все написано в документе.
– Выходит, что так. С ярлыком «враг народа» покончено. Теперь перед тобой честный, равный со всеми в правах гражданин Страны Советов. Ну и сам понимаешь важность этого документа лично для меня: я его должен показать прежде всего на селекционной станции, откуда меня забрали и направили на Колыму. Затем найти дочь и сказать ей, что ее отец ни в чем не был виноват, ведь и она, бедняжка, натерпелась в своей еще небольшой жизни много такого, в чем виновата была еще меньше, чем ее отец.
– Ладно уж, поезжай. Лошадь я прикажу тебе запрячь. Хотя… – нет. Бери машину. А вот до Братска добирайся как знаешь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?