Читать книгу "«Жизнь происходит от слова…»"
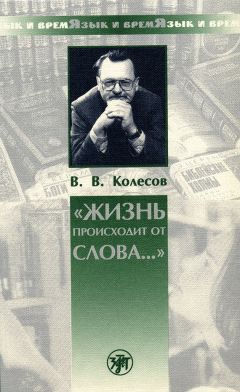
Автор книги: Владимир Колесов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Хорошо известно, и не раз обосновано филологами, что норма литературного языка создается на основе среднего стиля. К усредненности стиля стремились многие художники слова. Но потребовался гений Пушкина, чтобы через его тексты «образованный слой» воспринял саму идею среднего стиля как нормы. О Крылове и Грибоедове уже современники говорили, что они «умели облагораживать простонародный язык», но только в «низких жанрах», в басне или в комедии. Средневековая традиция донесла до XIX века идею совмещенности жанра и стиля; эту традицию не смог преодолеть и Ломоносов в своей «теории трех штилей». Пушкин ворвался в русскую литературу как представитель высокого стиля романтиков и староверов, Карамзина и Шишкова одновременно – в жанрах исторического повествования прежде всего. Лицеисту Пушкину аплодировал Державин – «Капитанская дочка» стала первоистоком русского реализма. За несколько лет Пушкин преодолел XVIII век и опередил век XIX-й. Программа определена и просто и ясно: «простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей». Независимо от жанра – высокого или низкого – и вопреки традиции Пушкин соединил в тексте «грубость и простоту» народной речи и «некоторую библейскую похабность» вместо французского жеманства.
В романе «Евгений Онегин» слова всех трех стилей представлены в общем ритмическом потоке: "Высокопарный, но голодный Для виду прейскурант висит…» «И Страсбурга пирог нетленный…» «А вы, ребята подлецы, – Вперед! Всю вашу сволочь буду Я мучить казнию стыда!» Экспрессивная сила хотя бы этих строк кажется нам непонятной сегодня, когда волею и талантом Пушкина большинство таких слов вошли в общеупотребительный канон нормы, обогатив литературный лексикон.
Как и «известный ретроград» адмирал Шишков, который в своих текстах копировал «высокогремящую славянщизну», Карамзин тоже копировал, но «европейский стиль речений»; Пушкин призывал «переводить, т. е. перефразировать». По его мнению, следует заимствовать только то, что не противоречит национальному духу русского языка и мысли; обычно это обозначения неизвестных нам предметов («но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов по-русски нет…»; а есть ли они сегодня?) или отвлеченные философские термины (которых достаточно и в старославянском языке). Будучи аристократом, но аристократом русским, Пушкин «отбросил буржуазные подражания салонам» (слова академика В. В. Виноградова) и вместе с тем преодолел низменную грубость «площадных речений», навсегда завещав русской литературе матерному языку предпочесть материнский. Одновременно был показан тупик, в который заводит избыточное употребление заимствованных слов или оборотов. С одной стороны – тот же «подлый» стиль, с другой – высокий (в XVIII веке иностранные слова воспринимались как слова высокого стиля; не так ли и сегодня?). «Таким образом, – справедливо делал вывод Виноградов, – Пушкин сблизил поэтический «язык богов» с живой русской речью и сделал поэзию общенациональным достоянием»; язык его поэзии вовсе не «простонародный», а народно-поэтический. У Пушкина нет ни диалектизмов, ни жаргонов, ни искусственного волапюка.
Кроме того, в отличие от современников – первоклассных поэтов, – Пушкин в художественном своем языке не занимался количественным накоплением художественных средств и возможностей русского языка, а совершил качественный рывок; он дал образцы концентрированного выражения эмоции, чувства и мысли в слове; емкость и свобода пушкинского стиля стали примером для художников слова, искавших в языке новые выразительные возможности.
Не следует думать, что давалось это просто и без труда. Известны десятки вариантов текста, над которыми Пушкин работал истово и с вдохновением. Постоянное исследование русского слова видно и по высказываниям поэта о чужих текстах. Это был мастер одновременно и устного, и письменного текста. Он не просто «слагал», расхаживая как Маяковский или Мандельштам, но и потом, записав текст, работал над каждой строчкой, подобно Льву Толстому испытывая слова в их взаимном соответствии друг другу. В соединении устного ритма и звучания с отточенным в написанной фразе смыслом также происходило незаметное для поверхностного взгляда совмещение приемлемых качеств разговорного и высокого стилей речи, создавало ту гармонию среднего стиля, которая и стала субстратом нового литературного языка.
«Прелесть нагой простоты» видна в каждой поэтической строчке. Это типично народная форма выражения мысли (описания действия), когда слово можно выразить картиной или воспроизвести в действии. «Дети спят, хозяйка дремлет, На полатях муж лежит, Буря воет; вдруг он внемлет: Кто-то там в окно стучит». Слову Пушкина доступно все, он может в разговорной интонации передать любое переживание своего героя, чувствуешь даже, как героиня задыхается: «И страшно ей; – и торопливо – Татьяна силится бежать; Нельзя никак; – нетерпеливо – Метаясь, – хочет закричать. – Не может…» Непринужденное следование глаголов и наречий – и ничего более… Да, «прелесть нагой простоты нам непонятна». Начало каждого пусть даже отрывка пушкинской прозы содержит в себе всю пружину возможного действия и характер действующих лиц; во фразе, сжатой до минимума, видна обстановка, сгущающаяся до трагедии. Не случайно Лев Толстой восхищался началом, не получившим полного развития: «Гости съезжались на дачу…» Или: «Мы проводили вечер на даче…», и еще: «Участь моя решена. Я женюсь…» – и так далее. Зерна шедевров, не давших ростков.
6.
Пушкин – читаемый автор; как образец языка он оказал влияние на становление морально-этических терминов. В качестве одного приведем пример, обсуждаемый в книге молодого филолога В. М. Круглова (Круглов, 1998).
Старорусское слово гордыня обозначало поведение, в котором высокомерие, надменность, заносчивость сочетались как с унижением других, так и с богоборческими настроениями (только я! – по Достоевскому). Включение в оборот слова гордость сняло богоборческие коннотации, но сохранило все остальные, и только в XVIII веке в сочетаниях типа благородная гордость в результате семантической компрессии был устранен оттенок, связанный с выражением надменности и высокомерия. Наконец, лишь с появлением слова достоинство (человеческое достоинство) был устранен и оттенок уничижительности по отношению к другим людям. Пушкин впервые новое этическое понятие (не образ!) передает самостоятельным словом, которое, вероятно, было калькой с немецкого Selbstachtung или английского self-respect – самоуважение: «Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». Это – характеристика человеческой личности в общественной и социальной среде. Одновременно это и точка зрения поэта, который творчески воссоздает новый нравственный климат, столь необходимый для правильного понимания его творений.
7.
Полновесность каждого слова в поэтическом тексте Пушкина хорошо показал Ю. Н. Тынянов: «Слово выдвигается из обычных своих границ, начинает быть как бы словом-жестом». Это и перечни предметов, и скрытые цитаты, и игра созвучиями, и многое другое. Но всегда здесь присутствует некий подтекст, который создает глубину содержания.
«Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы…» Простая информация? Нет, вовсе нет. Прочтите еще раз: добрый… родился… Евгений – «благорожденный». «Итак, она звалась Татьяной…» Уже известно, уже сказано, уже привыкли: Татьяна. Зачем повторять? Повторять нужно, поскольку «простонародное» имя звучит в ушах многих столь же грубо, как Маланья или Пульхерия. Именно роману Пушкина должны быть благодарны современные Татьяны за звучное и красивое имя свое.
У Пушкина нет пустых слов… но можно сказать иначе: из самых «пустых» слов он создает красоту. «Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь…» Только одно полнозначное слово – глагол, как и положено в русской речи, однако целое все есть шедевр глубокомыслия.
У Пушкина функционально определенны все синонимы в общем стилевом ряду. Это касается и таких выразительных, как беременна – брюхата – на сносях (использовано в рассказе Юрия Нагибина о Пушкине-лицеисте), или более изящных очарованье – обаянье – обворожить (о них писал Виктор Виноградов). Обворожить представлен только в глагольных формах, это действие; обаянье только имя, но в исконном значении корня («сонным обаяньем Он позабылся); очарованье употребляется часто и притом с производными (очаровательный) и служит как бы приметой пушкинского идеостиля.
8.
Существует заблуждение, разделяемое многими. Считается, что язык и стиль Пушкина развивался, очищаясь от славянизмов. Нельзя смешивать литературный язык начала XIX века, который только формировался, в том числе и усилиями Пушкина, и язык русской литературы того времени, которым поэт пользовался. Самые поздние стихотворения поэта буквально насыщены «библеизмами» отнюдь не «похабного» свойства. Достаточно раскрыть любой том и перечитать, например, «Отцы пустынники и жены непорочны», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» или «Как с древа сорвался предатель ученик…»
В отличие от современных исследователей, таких как Юрий Лотман или Борис Успенский, Пушкин не считал «церковнославянизмы» отработанной формой – для него это были столь же полновесные зерна народного языка, но только в обобщенно высоком стиле, пренебречь которыми нельзя, поскольку и литературная норма созидается на распутиях между высоким и низким – как гармония речи, осветленная в поэтическом тексте.
Когда в начале XIX века совершенствование литературного языка потребовало выработки новых выразительных средств, вопрос стоял так: либо остаться на почве высокого стиля, соотнесенного с ресурсами церковнославянского языка (это – позиция А. С. Шишкова), либо преобразовать высокий стиль с оглядкой на западноевропейские языки – путем заимствований и калькирования (позиция Н. М. Карамзина). В обоих случаях стилевое пространство литературного языка качественно не изменялось, и это как-то притормаживало развитие языка литературы. Сильно изменившиеся категории и формы живого русского языка как основные в расчет не принимались. Они лишь составляли некий фон литературного языка. Значение Пушкина в том, что он своим гением вторгся в запретную для высокой поэзии область живой речи, в развивавшиеся ее формы, и сделал их основным элементом поэтической речи. Используя отвлеченные формы церковнославянского языка (прежде всего – суффиксы и общий склад речи) и логическую точность иностранных слов (там, где это оправдывалось текстом терминологически), коренную силу русских слов он использовал всесторонне и до тонкости. А корень слова и есть основное в смысле этого слова.
Вот и ответ на вопросы, поставленные в начале нашего рассуждения.
Пушкин интуитивно использовал идею системности языка (система как инвариант стилей), обработав функциональные стили речи и превратив их в художественный стиль, который, в свою очередь, стал основой для выработки и закрепления «правильных» форм, структур и смыслов, и тем самым развивал идею нормы.
Именно у Пушкина мы находим органическое единство всех возможных проявлений языка и во всех его стилях-функциях. В этом и заключается творческий подвиг поэта. Именно Пушкин, почерпнув из сокровищницы народного языка, реформировал стиль речи и оказал мощное влияние на нормы речевой деятельности – а это и есть те самые «три силы», которые совместно составляют сущность языка: реальность его системы – действительность стиля – реальную действительность нормы. Преобразуя структурные основания не организованного еще в норму языка и тонко используя глубинные речемыслительные (ментальные) его особенности, нескольким поколениям Пушкин дал прекрасный инструмент, способствовавший расцвету художественной и интеллектуальной деятельности.
Ментальность
Русский ментализм скажет новое слово Европе.
Николай Бердяев
Тезисы о русской ментальности
Определение ментальности затруднительно по причине слабой разработанности самой проблемы. Как обычно бывает, новый термин вызывает смутные представления и субъективно осознаваемые образы, которые сразу же становятся символом для определенной точки зрения или известной научной школы. И только со временем они могут получить характер понятия, которое требует логического определения. Понятое определение становится заключительным моментом развития научного представления, которое адекватно сущности вполне осязаемого явления.
В настоящее время до такого состояния еще очень далеко.
Ученые, изучающие ментальность, обычно сторонятся уже наработанных предшественниками объемов понятия и особенностей его содержания. Они представляют дело так, словно именно они впервые ставят проблему и решают ее – в угодном для них направлении. Забывают, например, и о В. фон Гумбольдте, и о А. А. Потебне, и забывают главным образом потому, что полностью исключают из рассмотрения ментальности проблему языка.
Так, М. Барг (1987, с. 4, 15 и сл.) толкует ментальность как совокупность символов, являющих ключевые представления, которые образуют ядро «господствующей идеологии» и порождают повседневные представления, «мыслительные стереотипы». По мнению А. Гуревича (1989, с. 454), «ментальность – уровень индивидуального и общественного сознания…, магма жизненных установок и моделей поведения, эмоций и настроений, которая опирается на глубинные зоны…, на какие-то вполне осознанные и более или менее четко сформулированные идеи и принципы». «Mentalite означает нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, – развивает эти мысли М. Рожанский (1989, с. 459), – логического и эмоционального, т. е. глубинный и поэтому трудно фиксируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и эмоций. Mentalite связано с самыми основаниями социальной жизни и в то же время своеобразно исторически и социально, имеет свою историю».
Такие авторы понимают ментальность как психофизическую силу, почти брутально сосредоточенную в социальном организме народа; русскую ментальность они обычно и описывают фактически только отрицательными характеристиками как «человеческую стихию» или «переживание стихии как сущности русской души» в «архетипе произвола» (Кантор 1995, с. 31). Такова вообще обычная для научной публицистики «актуальность» положений, доказывающая, что и продуктивное понятие «ментальности» стремятся приспособить к сиюминутным потребностям политической борьбы с «Памятью» (Гуревич), со «сталинизмом» (Рожанский), с мессианизмом «русской идеи» и т. д. Биологическая сфера коллективного подсознания с выходом в социальное пространство действующей идеологии – причем определенно классового характера (Барг) – вот что такое ментальность с точки зрения данных исследователей «загадочной русской души». В подобных определениях ментальность полностью сливается с феноменологическим утверждением ее как «функционально порождающими (прегнантными) структурами и допредикатным, предпонятийным мышлением» (Акчурин 1994, с. 143) на уровне инстинкта – чистый образ в строгих покоях желтого дома.
Понятно, что трудно судить о чужой ментальности, не укореняясь в духовном пространстве выражающего ее языка. Складывается впечатление, что громче всех о ментальности говорят люди, утратившие – при незнании родного своего языка – национальную идентичность. Между тем вот и определение ментальности:
Ментальность есть миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть представлены в традиционных символах данной культуры.
Однако ошибочным было бы сводить ментальность только к совокупности устойчивых символов данной культуры. Словесный знак скрывает в себе самые различные оттенки выражения мысли (в значении mens, mentis), и не только символы, но также образы, понятия, мифы и пр.
Таким образом определяется основная единица ментальности – концепт данной культуры, который в границах словесного знака и языка в целом предстает (является) в своих содержательных формах как образ, как понятие и как символ (Колесов 1992). В этом случае под концептом следует понимать не conceptus (условно передается термином «понятие»), а conceptum – «зародыш, зернышко» первосмысла (сперма у Аристотеля), из которого и произрастают в процессе коммуникации все содержательные формы его воплощения в действительности.
Практические и политические деятели также используют термин менталитет. Например, московский мэр Лужков (1998) говорит о «российской национальной идее», что сразу же свидетельствует об эклектизме всех его суждений, связанных с темой. Идеи могут быть «русскими» (о «русской идее» говорил уже Достоевский), но не существует «российской идеи», как нет и «российской нации» или «российского языка», поскольку понятие «нации» и «языка» включает этнический признак также.
В числе признаков «российского менталитета» упоминается клич «стать богатым!» – но «русская ментальность» исходит не из богатства или роскоши, а из достатка и обеспеченности семьи (быть достаточным, обеспеченным – и довольно). Лужков утверждает, что «собственник» – соль земли, а наша страна почти тысячу лет была собственностью фактически одного человека. Это также сомнительное утверждение. Само понятие собственности в русской ментальности выражает «совместность владения многих» (тут корень свой, свои, свое), и в русской истории всегда соблюдается иерархия форм собственности, но так, что самый верховный «собственник», который чаще всего был как раз не «свой», владея всем, не обладал ничем. И действительным русским идеалом является убеждение, что средства производства принадлежат производителю, что земля есть всеобщее достояние, хотя и пользуются ею по доверенности только те, кто ее обрабатывает, что не должно быть никаких посредников в сложной иерархии собственных собственников и что личная безопасность возможна только как свобода (тот же корень свой) в кругу «своих», а личная воля непременно должна быть направлена на дело, вовне.
Уже на одном этом концепте *svoj-/*svob- и на цепочке словесных образов, из него извлеченных, мы видим настойчивое желание навязать реальной ментальности несвойственные ей черты. А уж об утверждениях типа «русский народ – нация обломовых, нация рабов, с рабским прошлым, народ-растяпа с присущей ему азиатской ленью» и говорить не приходится. Все это пропагандистский штамп, основанный на мифах враждебной стороны.
С описанием ментальности происходит то же самое, что и с самой ментальностью. Нам трудно выйти из круга, в который вовлекает естественное желание понять… Мы осуждены чувствовать, не больше того. Идеально мыслимые черты русской ментальности, духовности, характера – мысли, чувства и воли – в их обобщенной сущности предстают совершенно иными, чем их проявления в реальной жизни отдельного человека, временами оборачивающиеся противоположной своей стороной. Гордость оборачивается гордыней, правда – ложью, а любовь – ненавистью. И так всегда, и не только у нас. Амбивалентность каждой черты определяет возможность выбора и оценки – и в этом, видимо, состоит основная добродетель свободного человека: выбрать правильный путь и судить по справедливости. Преступающий эту заповедь – не свободен. Требовать того же от социально, духовно или физически несвободного – несправедливо, в том числе и с нашей стороны. Такой представитель народа поставлен в условия, когда выбора нет, и остается одна задача: выжить в одном случае, или максимально навредить недругу – в другом.
Не рассчитывая затронуть все вопросы, связанные с речемыслительной деятельностью современного человека, рассмотрим несколько аспектов важной для современной филологии проблемы.
Богословие – философия – наука
Поставленные в таком порядке слова эти как будто выносят теологию и философию за пределы научного знания, однако, если вдуматься, одновременно они и возвышают их. Богословие – слово о Боге, но одновременно и о благе, потому что исконным смыслом корня Бог является именно указание на Благо. Бог, Благий, Всеблагий – существенный признак в составе других, но для людей оказавшийся самым важным. София же – мудрость, и тоже Премудрость Божия, и нам известно, что именно София стала символом Древней Руси. Но Древняя Русь пала в осколках под пяту кочевников, потому что одной лишь мудрости мало в делах людских. «Внешняя мудрость», как называли тогда философию, не может обеспечить полноту жизни – она довольствуется существованием. Живот природный и соборное житие всего лишь подступы к жизни: вечная жизнь – таково и было самое первое сочетание слов, в котором славяне получили в священных текстах само это слово: жизнь. И Русь изменила символ, Русь Святая восстала под символом Троицы – и, как полагают ее подвижники и герои, пока что жива – под Духом Святым.
Богословие и философия одинаково изучают форму как программу (алгоритм) и модель мира, заданную Богом в момент творения, но изучают с различных точек зрения небесное и земное, благодать и закон, отношение к Богу и к его твари, к миру в его постоянных ценностях, как духовных (Благо), так и витальных (Добро), символ и образ, по форме как будто равные, но различные по содержанию, поскольку образ входит в понятие, а символ – в концепт; понятие мгновенно, а символ вечен. Между богословием и философией в сущности нет различия, это разные ипостаси одного и того же: философию дал людям Бог, а человек ответил созданием теологии, чтобы по воле Божьей познать все сущности в вере.
А сущности недоступны, поскольку в миру многолики. Всмотримся только в попарные эти сочленения, столь характерные для древней мысли (одно поясняется через другое) и живые до наших пор:
Перемещением корней созидаются новые «системы», но в исходе всегда остаются две верхние, первые, друг на друга взаимно обращенные тем, что словесные корни в их обозначении не повторяются. Мудрость любят, лишь приникая к благости Божьей.
Объекты изучения у обеих наук сходятся в коренных чертах, но человеческий разум не в силах определить эту близость. Мы можем только, подбирая слова, приблизиться к пониманию этого, но значит ли это, что мы уже поняли?
Поставим простой вопрос: говоря о Боге, представляем мы образ или понятие, понимаем в понятии или чувствуем в образе?
В 1293 году Анри из Гента тоже задал вопрос своим коллегам, средневековым схоластам (а средневековый схоласт – это богослов и философ сразу): «Может ли сам Бог действительно понимать больше, чем он обозначил или поименовал?» То есть, все ли он нам открыл? Вопрос философский, поскольку в вере ясно, что такое невозможно. В частности, говоря о концепте, мы понимаем точно, что его-то нам не постичь никогда, поскольку, в отличие от образа, понятия или символа, источающий их концепт обретает свою энергию где-то в четвертом, нам недоступном измерении бытия.
Знаменитые средневековые философы и богословы – Дунс Скотт (1265–1308) и Уильям Оккам (1280–1349) тот же вопрос формулировали иначе. «До какой степени доказательно может пребывающий в мире человек полагать имя для обозначения божественной сущности?» – вопрошал Оккам; «Соответствует ли Бог тому имени, которым мы означаем Его сущность?» – уточнял Скотт. Даже в отношении к Богу истолкование имени зависит от того, как мы поставим вопрос, ведь только поставив вопрос, мы можем ожидать ответа. Только правильно поставив вопрос, мы получим верный ответ.
Итак, всякое рассуждение на эту тему – богословие в символе, искусство в образе или же наука – философия – в понятии.
Сами вопросы средневековых схоластов возникли из их веры в то, что произнесенное слово может обозначать что-то лишь в случае, если оно соответствует определенному концепту в мысли говорящего – и что наш концепт Бога совершенен. Так возникла эта старинная проблема: противоречие между нашим совершенным представлением (пониманием) Бога и несовершенством речи, неопределенностью слов, с помощью которых, которыми мы о Нем говорим.
Фома Аквинский (1225–1274) – тончайший из схоластов, внес в рассуждение один оттенок: «Произносимые нами слова первично, в происхождении своем, обозначали концепты, и потому ни одно из слов не может быть исконным для обозначения Бога более определенно, чем это допускают наши концепты». Если для Оккама и Скотта слова обозначают первично вещи (и потому непосредственно не связаны с проблемой истины и лжи – с идеей-концептом), Фома Аквинат более категоричен: слова выражают первично идеи. И то, и другое – проявление средневекового номинализма, но в разной степени сложности. Англичане Оккам и Скотт скорее философы (близкие к Аристотелю), итальянец Фома – богослов. Мы можем использовать наши слова для обозначения Бога и сущности, даже не понимая такой сущности – это путь философии: мы стремимся к познанию. Можем ли мы говорить яснее, чем понимаем, чувствуем, верим? – это путь богословия: мы уже знаем, и нам остается только высказать это.
Современный последователь Фомы Аквината, католический философ Жак Маритен сказал: «Философ – человек, ищущий мудрости», и это верно. В достижении мудрости философ стремится познать самые общие связи и отношения в цельности мира, проникая в сущее. Сущее философ понимает как сущность существования, т. е. как суть жизни. В зависимости от того, на что обратим мы внимание в этой цепочке причастных к мудрости слов, мы и предстанем либо материалистами, либо идеалистами (потому что при этом интересуемся или познанием мира [гносеология], или познанием мира [онтология]), будем либо позитивистами (важна суть), либо экзистенциалистами (важно существование), либо реалистами (важна сущность), либо номиналистами (существо), и т. д. Человеческий взгляд устремлен на точку, каждый раз видит одну лишь грань бытия, а сущее поворачивается перед нами множеством граней, и человек, пытаясь ухватить все целое, судит о целом по его частям, так что и мышление – метонимично, наша мысль в поисках истины цепляется за соседнее, рядом стоящее, уже известное и понятное (понятое) и через него пытается постичь сразу все. И совершает ошибки, даже логические. Вот пример современного философствования: «И если наука не собирается покинуть сферу разумного вообще и превратиться в чисто механистическую деятельность, она окажется вынужденной именно философски, то есть [внимание!] в соответствии с природой мысли, сделать шаг навстречу Вере и, стало быть [внимание!], церковной, соборной догматике, другими словами [внимание!] православию». Перед нами последовательность метонимических упрощений (редукций), ведущих к важному выводу. То есть – стало быть – другими словами выстраивают суждение с постоянной подменой понятий. «Философски» – это часть познания в мысли (есть еще и положительная наука), Вера – тоже только часть доступного человеку познания (есть еще и философия, да и в науке многое принимается на веру), «церковь» – это только часть соборности (есть еще и другие формы социальной и духовной жизни), «православие» – тоже всего лишь часть Церкви Христовой, т. е. одна из конфессий в современном мире. Само понятие о философии постоянно изменяется – в отличие от понятия о богословии. Предмет богословия вечен, предстает как сущность инварианта (ценностного варианта культуры), тогда как предмет философии текуч и изменчив. Русский философ Н. А. Бердяев заметил, что «философия есть борьба», а «философ всегда в буквальном смысле слова еретик, т. е. свободно избирающий»; «философы верят в науку больше, чем в философию, сомневаются в себе и в своем деле и сомнения эти возводят в принцип», поскольку и в нашей истории «философия – самостоятельная область культуры, а не самостоятельная область науки». Уже христианская философия отличается от такого рода философий: «Христианская философия есть философия субъекта, а не объекта [что существенно для научного знания – В.К.]; «я», а не мира; философия, выражающая в познании искупленность субъекта-человека из-под власти объекта-необходимости».
Философия нуждается в науке, поддерживается ею как формой мирского знания. Философия многомерна, и один философ скажет, что философия – это жажда знания, искание истины (С. Л. Франк), другой ответит: «Философия есть наука о мире как целом» (Н. О. Лосский). Третий не согласится с ними: философия есть «стремление к духовной целости человеческого существа» (В. С. Соловьев), – и все будут правы! Правы потому, что в познании истина, в знании гармония космоса как благо, а в сознании этика как любовь, – все это вместе уже существует в том, что известно: «Я есмь путь и истина и жизнь», «Бог есть любовь» и Бог пребывает как благо. Так что для богословия это все – не предмет.
В отличие от философии, богословие знает сущее, но в той лишь мере, в какой это сущее есть Сущий. Интересная особенность языка. Он не покушается на форму мужского рода: сущий един. Может быть сущее наказание или сущая ерунда, но сущий един. И пусть не обманывает нас фразеология быта, вроде формулы «сущий младенец», это упрощенное произношение старинного выражения съсущий младеньць, которое изменилось после утраты «полугласных» звуков, на письме обозначенных буквами ъ, ь: как в слове въздохъ получили вздох, так и в форме съсущий получили ссущий и сущий.
Философ ищет абсолютную истину, богослову истина известна, и он озабочен правдой. Философия ближе к науке, которая ей служит, и обе они пытаются определить законы мира; но еще в I веке Климент Александрийский сказал, что христианство и есть философия истинная, к чему тогда же Филон Александрийский добавил, что философия – всего лишь служанка Софии-мудрости (позже стали говорить, что философия – служанка богословия). Богословие всегда идеология, поскольку связано с идеей и идеалом, т. е. живет под знаком благодати и ей служит. Мудрость можно любить, но славят – Бога. Ибо и мудрость всего лишь житейская мысль, тогда как слово – Логос – творение Божие.
Отсюда известное нам сопряжение вещи, мысли и слова в так называемом «семантическом треугольнике» – те самые «три сосны», в которых постоянно мечется человек. Это одно из подобий Троицы и ее софийное воплощение, данное нашему сознанию в цельности и нерушимой своей ценности – Логос. В зависимости от точки зрения, от какой мы исходим, оценивая значимость каждого из элементов этого воплощения Троицы, мы и становимся на позицию либо науки, либо философии, либо богословия.






























