Текст книги "«Жизнь происходит от слова…»"
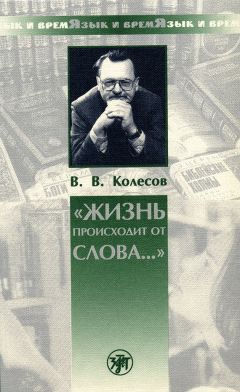
Автор книги: Владимир Колесов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Университетская филология и проблемы христианской культуры на Руси
Неисчерпаемость темы ведет к необходимости очертить основные особенности в ее изучении, ограничившись на первый случай только рассмотрением связанных с нею предмета описания, объекта изучения и метода исследования в определенной культурной среде. Основная цель заметок – заострить внимание на нескольких, хорошо известных положениях, по возможности собрав их в новую логическую последовательность.
С конца XVIII века Университет и Духовная академия распределили между собой аспекты изучения предмета и объекта, а возникшая вскоре научная соревновательность между Московским и Петербургским университетами привела к разграничению по объекту и методу. Оставляя в стороне собственно богословские вопросы темы, рассмотрим некоторые расхождения в подходах к проблеме, традиционно присутствующие между двумя университетами. Это поможет осознать глубину самой проблемы, только в совокупности исследовательских подходов предстающей в целостном виде.
С самого начала научного изучения предметом описания стали тексты, сохранившиеся во времени, но оцениваемые с точки зрения общеконфессиональных предпочтений. Именно здесь обнаруживается первое расхождение между представителями двух научных школ – совсем не случайное расхождение.
Философской основой гуманитарного знания в Петербурге долгое время оставались лейбницианско-кантовские подходы к научному исследованию, в Москве же господствовала шеллингианско-гегельянская методология. Одновременно в Москве обозначилось расхождение между славянофилами и западниками; в столице эти расхождения отчасти нейтрализовались, лишенные методологических основ «диалектики общего».
Юрий Самарин в магистерской диссертации 1843 г. определил, что «система Феофана Прокоповича относится к системе Стефана Яворского как система протестантизма к системе католической». В этой верной формуле утверждалось постоянно свойственное московским церковным иерархам расхождение по «духовным полюсам» – начиная с расхождений между «нестяжателями» Нила Сорского и Иосифом Волоцким в XV веке и вплоть до XX века. Западники с ориентацией на католичество – от Чаадаева до Соловьева и далее (Г. Иванов и др.) и славянофилы с ориентацией на протестантизм – от Хомякова до Сергия Булгакова и далее. Диалектическое двоение московских любомудров – доминантная черта московского философского быта, и это необходимо учитывать при изучении вопроса; например, оценивая тягу молодых москвичей к неокантианству именно Марбургской школы в начале XX века.
Петербургская гуманитарная наука, и прежде всего историко-филологического цикла, даже самим составом исполнителей показывает полное отсутствие подобных расхождений. В нашем университете сошлись и прибалтийский немец А. Х. Востоков, и чех П. И. Прейс, и хорват И. В. Ягич, и поляк И. А. Бодуэн де Куртене, и харьковчанин И. И. Срезневский, и многие другие. Здесь отмечалась не тяга к конфессиональному разрыву по крайностям: в университете были представлены разные конфессии, но это не мешало дружной работе их представителей. Между прочим, также многовековая традиция, восходящая, быть может, к новгородским «ересям» с конца XIV века, говоря старинным слогом – к прелестному блядству. Результатом стало то, что, в отличие от московских «ревнителей веры», в Петербурге основное внимание уделялось изучению не соборности и всеединству в церковной ограде, а проблеме человека в Церкви – личная вера, а не религиозность. Не культ сам по себе, а культура.
Как известно, формула министра народного просвещения «православие – самодержавие – народность» (1834), восходящая к символике средневековой Руси, стала идеологемой русского общества XIX века (и сохраняется до сих пор, меняя обличия); она же привела к образованию в университетах славянских кафедр (1835). Направление научного познания от идеологически ориентированного сознания отличалось тем, что символико-градуальную (тернарную) оппозицию оно разбивает на две понятийно-привативные, более удобные для научного анализа. Понятно, почему это происходит. Символ толкуется исходя из традиции и всегда известен; здесь возможно различное понимание. Понятие же требует строгого определения. Так сложилось, что тернарная формула графа Уварова, по общему принципу православного толкования данная как

разделилась на две параллельные линии, подлежащие обстоятельному анализу:
православие – самодержавие – «московская» проблема Церковь – Государство;
самодержавие – народность – «петербургская» проблема Государство – Общество.
Тем самым обозначилось, и еще более увеличилось, на уровне объекта изучения, расхождение в изучении русской христианской культуры. Богословская составляющая проблемы находилась в центре внимания московских филологов, даже на анализе языка, слова и текста московские гуманитарии ставили и решали вопросы, обращенные к вероисповедным мотивам. Достаточно вспомнить, что защиту Имяславия взяли на себя П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и А. Ф. Лосев, тогда как петербургские их коллеги предпочитали говорить не о «божественных именах» в суждении-предложении, а о конкретных словах родного языка, согласованных с событиями личного мышления. Философы изучали проблемы сознания (идеал-реализм), филологи – разговорную речь реального человека в действительном обществе.
Московская линия исследования поначалу была плодотворной. Появились филологические труды славянофилов («Русская грамматика» К. С. Аксакова и смежные с нею работы), но они так и остались «неисполненным проектом» изучения категорий русского языка с точки зрения русской ментальности (духовности), а не по рецептам «рациональных» или античных грамматик, под которые подгонялись факты русского языка (в том же Петербурге). Свое значение имели в те же годы защищенные магистерские диссертации Ф. И. Буслаева и М. Н. Каткова. Впоследствии «русское направление» в освоении категорий и форм родного языка как бы изнутри, из склада органически русской речемысли, было вообще подавлено «общечеловеческими ценностями», и до сих пор московские академические грамматики кроятся по «европейским» стандартам.
Петербургские филологи перенесли внимание с идеально-богословской на конкретно-культурологическую проблематику. Именно этим определилось их расхождение с московскими коллегами в объекте изучения: культура, возникающая и развивающаяся на основе христианского культа.
В частности, изучается происхождение и история славянской письменности: глаголица или кириллица древнее – но не в связи с богословскими проблемами православно-католической конфронтации.
Изучается очень важная текстологическая проблема: служебные или канонические тексты переводились раньше, и какие именно канонические переводы связаны не с «солунским» периодом деятельности первоучителей славянских. В связи с этим: какие именно славянские племена и народы оказали преимущественное влияние на формирование «православного христианства», в частности, какие из них влияли на формирование восточнославянской версии.
Все это – проблемы историко-культурологические, связанные с образованием восточнославянской христианской культуры в ее развитии.
Вклад петербургских филологов в разработку этого ряда научных проблем известен.
М. В. Ломоносов показал, что «славянская стихия» русской речи оказала большое стабилизирующее влияние на создание национально характерных стиля и нормы литературного русского языка.
А. Х. Востоков разграничил системы и тексты старославянского и церковнославянского языков и говорил о культурной роли старославянского языка в стабилизации русской ментальности.
А. С. Шишков в «Программе» Словаря 1847 года аккуратно расслоил явления церковнославянского языка и внешне сходного с ним высокого стиля русского языка, т. е. рассматривал их не как языки, а как субстрат культуры. Одновременно с тем москвич К. Аксаков упорно утверждал полное различие между русским и церковнославянским, и эта формальная точка зрения осталась постоянной составляющей московской версии (см. работы Бориса Успенского).
И. И. Срезневский показал глубокое своеобразие рукописных списков, бытовавших в различных регионах Древней Руси; например, текстов, характерных для Новгородской земли – заметна их связь с западнославянскими, а не с восточноболгарскими (как в Киеве).
А. А. Шахматов не ограничился указаниями на то, что Владимир принял христианство, а в глубоких исследованиях показал, что по крайней мере четыре последовательности в принятии на Руси христианства можно реконструировать даже на основе сохранившихся незначительных текстов – это этапы разной мотивации и различных культурных движений своего времени.
Равным образом и другие петербургские академики решали вопросы, связанные с нашей темой. Не было ни одного оттенка в изучении «славянских древностей», которые не осмыслялись бы в аспекте культурных ценностей как жизненно важных элементов становления восточнославянской цивилизации в ее специфике и органическом единстве. Даже историки здесь отличались от московских своих коллег, преимущественное внимание уделяя проблемам права (соотношение «общество – государство») и постоянно конфликтуя с московскими исследователями (например, с Чичериным), которых в основном интересовала здесь проблема «государство – церковь».
Соответственно отличия наблюдаются и в методе исследования. Петербургские гуманитарии взяли на вооружение сравнительно-исторический, открытый и обоснованный А. Х. Востоковым; в Москве этот метод долго не признавался, там предпочитали сравнительный метод изучения предмета.
Из основных расхождений в методе, наметившихся еще в то время, следует указать на главные, так или иначе связанные с нашей темой и проявившие себя прежде всего в филологических исследованиях.
Петербургские ученые в своих исследованиях идут от семантики к форме, московские предпочитают обратный путь; даже влиятельное в первой половине нашего века учение «формалистов» неоднородно в этом смысле: московские формалисты «феноменологичны», ленинградские – «семиотичны».
Петербургские филологи полагают, что культурные ценности функционально оправданны (стиль есть функция), тогда как для московских коллег именно формально стилистический уровень определяет меру ценности того или иного явления.
Петербургские исследователи предпочитают исследование развивающихся систем («история есть теория»), тогда как московские говорят о необходимости изучать замкнутые структуры путем их сравнения («теория есть норма»).
Петербургские ученые считают, что всякий заимствуемый элемент культуры органически восполняет собственную культурную парадигму до цельности, тогда как московские их коллеги полагают, что всякое заимствование носит внешний характер и в принципе может быть принято как необходимая в данный момент (в данной структуре) замена собственной ценности. В первом случае ценным признается только заимствование, ставшее элементом собственной культуры, во втором – всякое заимствование, даже враждебное системе, пусть оно имеет хотя бы стилистический окрас.
Это не все различия, существующие между двумя исследовательскими традициями, но они определяют все остальные (см. ниже). Важно, что в нынешних условиях соотношение «школ» и идентифицирующих себя с ними конкретных исполнителей уже не определяется географически; здесь действуют скорее принципы ведомственные («академики» – «универсанты») или даже национальные предпочтения. Даже именование дисциплин, которые включены в изучение этих проблем сегодня, определенно различаются: с одной стороны, это «герменевтика» (в том числе и лингвистическая герменевтика), а с другой – непонятная наука «культурология».
Сказанным определяются два вывода.
Первый – общего характера: расхождение между двумя точками зрения есть проявление типично «русского реализма» – обращенность от «слова»-Логоса к «вещи» или устремленность от него же к «идее». Относительная ценность той или другой определяется только точкой зрения и не является абсолютной, в том числе и в оценке самих точек зрения. Они взаимодополнительны и только совместно способны представлять то, что можно назвать русской филологией.
Второй – частный: ключевые слова текста (например, данного текста) способны показать, к какой точке зрения относит себя сам автор. Например, одновременное употребление слов типа «культурологический» и «исторический» – свидетельство эклектизма, поскольку они относятся к различным позициям общего движения от слова и к Логосу.
Тем самым цель настоящих заметок исполнена: автор пытался показать, что в некоторых отношениях на всякую исторически возникающую и требующую адекватного решения проблему необходимо взглянуть объективно, объемно и всесторонне.
Традиционная терминология только мешает этому.
Отражение русской ментальности в слове
Каждый раз, когда раскрываешь утреннюю газету, страшишься еще одной встречи с вольным истолкованием коренного русского слова, сохраняющего в своем значении опыт русского народа, его нравственную позицию, его – как принято говорить – менталитет. Попытки извратить смысл Слова, исказить внутренние связи его с народным самосознанием и тем самым уничтожить самую мысль о своеобразии русского сознания достигли ныне предельных границ, за которыми открывается море субъективных толкований, «переименований» и попросту фальсификации в течение веков сложившегося национального способа мышления. (Возможность последнего также отрицается, поскольку наметилась тенденция все современное мышление сводить к определенно избранной ментальности как идеальной норме.)
Представим, неизбежно конспективно, опорные точки («концепты») русского менталитета в том виде, как он рисуется в перспективе изменяющегося русского слова и (отчасти) как он эксплицирован в русском сознании (в тексте).
В задачу автора не входит оценка сказанного; это всего лишь констатация фактов, направляющих нашу мысль на углубленное изучение важного вопроса. Мы не оговариваем философские границы фиксируемых положений: идеализм – материализм и т. п. Достаточно заметить, что средневековая и основанная на ней народная культура мышления вообще идеалистична в той мере, в какой и вся русская философия, для которой за словом «идеализм» скрывается не только понятие об идее, но и представление об идеале: русская философия этична. Наконец, не станем развивать каждое из предложенных положений ни философски, ни лингвистически, поскольку наложенные на общий фон современного философствования описанные концепты вполне понятны. В противопоставлениях, с помощью которых будут представлены эти концепты, эксплицируются одновременно и познавательные, и оценочные характеристики.
Если путь развития русского самосознания (менталитета) проследить на достаточно большом отрезке исторического движения, легко обнаружить самую общую закономерность: русское самосознание, как, очевидно, и самосознание любого народа, отражало реальные отношения человека к человеку, к миру (за этим скрывается отношение к другому человеку и к Богу как обобщенному понятию о Мире[5]5
См. известные классификационные таблицы Вл. Соловья и комментарии к ним, например исходные этические понятия «стыд» (отношение к себе), «жалость» (к другому), «благоговение» (к Богу), и прочее (Соловьев, 1988. Т. 1. С. 123 и сл.).
[Закрыть]). Личное самосознание никогда не выходит за пределы коллективного, сначала откладываясь в терминах языка и затем постепенно семантически сгущаясь в научной рефлексии и в народной речемысли. Классическая русская философия Серебряного века, о которой теперь так много говорят, всего лишь отражает, более или менее верно, народное представление во всех его особенностях, подытоживая путь развития русского самосознания. Это было ясно уже славянофилам, воспринимавшим слово как источник для своих – пока еще чисто поэтических – философских штудий. «Язык наш, м. г., в его вещественной наружности и звуках есть покров такой прозрачный, что сквозь него просвечивается постоянно умственное движение, созидающее его. Несмотря на те долгие века, которые он уже прожил, и на те исторические случайности, которые его отчасти исказили или обеднили, он и теперь еще для мысли – тело органическое, вполне покорное духу, а не искусственная чешуя, в которой мысль еле может двигаться, чтобы какими-то условными знаками пробудить мысль чужую…» (Хомяков, 1988, с. 339–340). Такова исходная точка русского философствования, которая, отталкиваясь от слова, пройдя сначала через поэзию и беллетристику, затем – публицистику, к концу прошлого века оформилась в первые философские системы. (Понятие «система» следует понимать в смысле, характерном как раз для этой философии: система взглядов, мнений, т. е. концепций, а не объективно существующая связь явлений.)
Читая русских философов, русский человек ловит себя на мысли: все это я уже знаю, а потому и безусловно согласен с большинством излагаемых здесь идей. «Если нужно что-то доказывать, доказывать ничего не надо», – это мысль Д. Мережковского; «своим ничего не нужно доказывать», – уточнял Н. Бердяев, потому что, добавлял В. Розанов, «нельзя ничего понять не “мое”». Эту мысль русские философы постоянно варьируют, тем самым оправдывая и свою манеру изложения: афористически сжатую и поэтически емкую. Они как бы намекают на хорошо известную истину, скрытую в этимоне русского слова. Все они избегают длинных рассудочно-педантичных доказательств, поскольку в полном соответствии с народными представлениями «ничего не нужно доказывать логически». Они поднимают пласты народного сознания, эксплицируя хранящиеся в языке идеи. Они как бы «вчувствуются» в традицию, оформляя ее в высшую форму познания – философию. Философию, которой так долго мы были лишены.
Развитие русской ментальности исторически строится таким образом, что она постоянно находится в конфронтации с инородными по происхождению и функции системами, тем самым восполняя себя до объективной цельности. Именно в этой особенности национального сознания и следует видеть объяснение его силы, динамизма, открытости и толерантности.
Русское самосознание выявлялось и формулировалось последовательно, всегда на чужеродном фоне, отталкиваясь от него. Сначала это было столкновение языческого (мифологического) сознания с византийским христианством. Своеобразие соединения язычества и христианства, отраженное в слове, вообще обусловило многие особенности русского менталитета: даже понятие о Боге в нем присутствует в двух ипостасях – это и Творец, и Создатель. Различие между ними в том, что творец сам присутствует в каждой своей твари (чем эта тварь и ценна: остатки языческого поклонения «твари», осуждаемые церковью); более того, он присутствует и в человеке (последнее важно для понимания современных проблем экологии). Поучительна история всех ключевых терминов культуры, в том числе и термина «вещь». Языческое поклонение творению божьему долго спасало это творение от самовлюбленного и высокомерного христоподобия человека, претендующего на исключительное место в мире живого.
Вторым столкновением стала конфронтация с западноевропейским католичеством. Многие культурные термины несут в себе эффект наложения смысла этой культуры. Скажем, термины «совесть» и «сознание» одинаково восходят к греческому слову συνειδος, но совесть — это калька с греческого слова, а сознание — калька с восходящего к греческому же латинского conscientia. Этот пример показывает многовековое соревнование латинской и греческой идеи, в конечном счете воплощавшей определенную ментальность. Русским близка окончательно сформулированная к XVII веку идея «совести», попытки заменить ее «сознательностью» кончаются весьма печально, поскольку в народном сознании лежит представление о душевном (логосе), а не о рассудочном (рацио). Важна и амбивалентность логоса, который обращен и к Богу, и к человеку одновременно – отличие от однонаправленного и одностороннего рацио.
Таким образом, на любом этапе развития столкновение с другими точками зрения положительно сказывалось на развитии русской ментальности. Ведь потенции собственного развития наиболее ярко проявляются на фоне внешних влияний и даже заимствований (условных, конечно: русское понятие о «совести» отличается от греческого и латинского).
Источники древнерусской и более поздней философии вплоть до современности, равно как и народного самосознания, отраженного в слове, – общие. Это христианская, в основном переводная, литература (начиная с «Лествицы» Иоанна Синайского), а также оригинальные переработки этих текстов, типа сочинений Нила Сорского, значение которого в формулировании нравственной философии мало отмечается. Это и терминология, которая в общих своих чертах создана и на основе калькирования греческих терминов представлена уже в переводных славянских текстах Х – XI вв. (сущее, существо, естество, качество, количество и проч.) Этнолингвистические штудии русских философов имеют в качестве базовых именно такие термины. «Мысль направлена словом», – говорил А.А. Потебня. «Только в силу того, что содержание слова способно расти, слово может быть средством понимать другого» (Потебня, 1976, с. 189 и 180). Народное самосознание как субстрат авторского философствования также было общим для философов любого времени: совпадала общая религиозно-нравственная основа философствования («начала сходятся в концах»). Наконец, этому способствует и сам русский язык, который своими символическими формами постоянно воссоздает представления о, казалось бы, полностью выкорчеванном народном самосознании.
С точки зрения развития русской научной рефлексии, нет столь уж значительной разницы, к примеру, между славянофилами и западниками: их теоретические положения – всего лишь экспликация внутренних противоречий собственной русской философской мысли, но под стимулирующим напором чужеродных идей и методов (Шеллинг или Гегель, католицизм или православие, слово или дело и пр.), результат развития предшествующих этапов мышления (традиция или новаторство, реализм или номинализм, рационализм или духовность и пр.). По существу, их идеи всегда находятся во взаимном дополнении, никогда не вступая в конфликт; например, точки зрения А. Герцена и К. Аксакова на одни и те же вопросы. Только совместность полярных идей составляет цельность русской философской мысли. Исторический момент каждого нового столкновения с инородным представляет в аналитическом виде такую цельность. Ничего странного в этом нет. В развитии сознания неизбежно и диалектически оправданно наступает момент поляризации противоположностей. Так было всегда: в XI веке, в конце XIV, в начале XVI, в XVII, в конце XIX-го. Между прочим, толерантность русского характера связана с этим же. Природное уважение русского человека к иноземцу определяется его вниманием к сущности, к характеру, к поведению чужеземца, хотя, конечно, он может высмеять его костюм или носовой платок. Принципиально многонациональная государственность выработала в русском человеке терпимость к другим обычаям и нравам, русский человек – не националист и не расист.
На основе подобных столкновении с «внешним миром» происходит специализация самых общих установок философствования. Например, исходный синкретизм Логоса постепенно аналитически раскладывается на составляющие его компоненты: мысль – слово – дело (а как результат этого движения – «вещь»), т. е. мысль —> слово —> дело. Если не пугаться мистического подтекста этой чисто аналитической процедуры (читая Н. Федорова или Вл. Соловьева – чего уж бояться!), можно понять, в чем заключается трагедия русского менталитета: происходит последовательное отчуждение первоначально ясных соответствий, поскольку в качестве существующей самостоятельно «мысль» не всегда соотносится с эквивалентным «словом» и часто не соответствует «делу». Каждый волен выбрать для себя то, что он считает главным олицетворением (ипостасью) Логоса – мысль, слово или дело.
Тем не менее столкновения с инородным позволяли обогащать содержание философской мысли через обновление ее форм. Теперь понятна известная продуктивность тех ученых-гуманитариев, которые понимали необходимость и неизбежность нового синтеза славянской и западноевропейской (или восточной) научной мысли. Чистые западники и чистые славянофилы оказались бесплодными, оставшись на уровне умозрительной критики или публицистики: либо позитивизм, либо феноменологизм – третьего не дано.
Несколько слов необходимо сказать о са́мом фундаментальном синтезе в нашей истории – синтезе славянского язычества и христианской этики. Таков был первоначальный толчок развитию национального самосознания. Столкновение языческого и христианского создает «диалектику человека» и ту двойственность национального характера, которая уже никогда не исчезала. Это касается и самого значительного: идеалом является даже не Бог, а святой («святой», а не «гений», по определению Н. Бердяева).
Различие между языческими и христианскими компонентами культуры в самом общем виде заключалось в том, что для язычника важно было установить государственно (общественно) значимые поступки – преступления и подвиги, тогда как для христианина важны индивидуальные пороки и добродетели. У язычника последние подразумеваются сами собою, как функционально производные от соборных добродетелей. Таким образом, христианство привносит ориентацию на личную добродетель и выдает ее за общечеловеческую; представление о групповой (классовой) добродетели является остатком язычества. Такое же противопоставление отмечается и для других категорий бытия. Для язычника путь к свободе лежит через осознание справедливости общественного интереса (личное подчинено общественному, «миру»), для христианина – через личную свободу от всякого угнетения. Христианин интерес личный ставит выше государственного, а язычник такое понимание «свободы» именовал «волей», это – самоволие. Другими словами, личное через общественное – идеал язычника (личные добродетели в его сознании не маркированы), тогда как идеал христианского сознания – общественное через личное (для него не маркировано общественное). Так организуется (в сознании) цельность человека в первом случае и ее рефлектирующее подобие в личности – во втором. Так, для христианина Н. Бердяева цельность человека создается «духовностью» («синтезирующий творческий акт»), которая противоположна органической (языческой?) «душевности»: «Внутренний человек – духовен, а не душевен» (Бердяев, 1985, с. 332).
Немаркированные оппозиты в противопоставлении к добродетелям способны к некоторому разложению и мыслимому умножению, поскольку они представляются несущественными, в сознании не удерживаются как опорные. Скажем, пьянство и блуд осуждаются христианством, но не кажутся столь уж большими пороками язычнику. Для последнего самыми большими пороками являются леность, строптивость и зависть, поскольку они социально вредны. Толерантность к общественным интересам представлена в христианстве, но язычником, для которого важны различные формы патриотизма, она осуждается. Так возникает конфликт внутри самого сознания, который долго кажется непреодолимым, глубоко и последовательно отражается в изменении языка. Вот почему основную информацию о понимании тех же добродетелей и пороков у восточных славян мы скорее извлечем из фактов языка, чем из особых сочинений по этике, тексты которых могли быть переведенными (как случилось это с максимами «Домостроя», столь дружно осуждаемыми в качестве русской мудрости).
В языке можно обнаружить и систему отношений, и признаки различения, и отношение к чуждому. В христианской литературе находим множество определений одних и тех же добродетелей и пороков, у язычника (как это сохраняется в народной речи) этого нет. Язычник достаточно определенен в оценке и квалификации этических понятий и не терпит колебаний, выражаемых путем усложнения терминологии и увеличения синонимов. Он предельно этичен, что и вызывает некоторую ригористичность его отношения к поведению человека. Там, где у язычника мы находим цельность оценок, у христианина возможна вариантность, хотя в других оценках между ними возможно и обратное соотношение. Это также способствует постепенному наложению коренных этических категорий. Однако двойственность постулатов, полученных из разных источников, сказывается на результатах, она и создает свойственные русскому характеру противоречивость и внутреннюю несводимость категорий и оценок. Отсюда же возникает неоднократно отмеченная историками устремленность русского характера к «среднему» образцу («средний человек как представитель типа», без крайностей и уклонений от нормы). Об этом много говорит В. О. Ключевский в своих лекциях по русской истории. Н. Бердяев, напротив, отрицает за русским характером направленность «относительно среднего»: русскому человеку свойственны крайности (Бердяев, 1918, с. 25). Полярности оценок «среднего типа» понятны: это идеал гармонии («мера») или, наоборот, крестьянская осторожность («не лезь!»). Но это отдельная тема. Мы же будем говорить не о преломлении этических категорий в границах отдельной личности, а об общей сумме русского менталитета.
Толчком развития при наложении культур становится возникновение вариантности, ограниченной пределами иной «веры». Да, ко всему чужому и чуждому русский человек относится терпимо и даже способствует развитию этого чужого, но до известных границ: если она не есть чуждая вера. На Руси никогда не преследовали ни еврея, ни татарина, но при условии, если они становились православными. С XVI века сотрудничали с протестантами, но не принимали католиков и т. д. Вероучение не может измениться, это мыслимый идеал. Но именно в подобном отношении к вере и коренится догматизм, отчасти присущий русскому сознанию. Догматизм вовсе не связан с коренными свойствами русского характера – на это впервые обратил внимание историков академик Н. Никольский (1913, с. 5). Тем же объясняется и «религиозный пессимизм», и некоторая склонность к восточным религиям, не столько из-за мистических интересов последних, сколько в противоположность к иудейству и магометанству с их идеями национальной исключительности. Подобная идея не свойственна русским, поскольку христианство как типологически наднациональная культура и язычество как интернационально надчеловеческая – одинаково чужды столь узко понимаемым мессианистическим идеям. Вл. Соловьев очень точно сформулировал эту мысль, показав, что как отдельный человек, так и народ в целом может спастись, только помогая другому (человеку или народу). Вообще русские философы хорошо показали, что все категории христианской и языческой ментальности развивались параллельно, взаимно влияя друг на друга. Тут разночтений нет. А для Н. Бердяева, как известно, цельность русского сознания вообще заключалась в единстве семейном: язычество – религия «женская», христианство – «мужская».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































