Текст книги "Прозрение Аполлона"
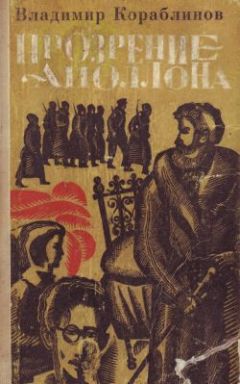
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Выхожу один я на дорогу,
Предо мной кремнистый путь блестит…
– Не предо мной, а сквозь туман, – мрачно поправлял Ляндрес.
– Ну, это неважно, главное – просто и хорошо. А ты все про трубы, про пожары какие-то…
…Ляндрес смотрел, как уходила Рита.
Напрягая зрение до боли, видел: тает, тает в тумане. Уже и не Рита как бы, а смутное пятнышко без очертаний. И вот наконец вовсе растаяла, исчезла.
Он тяжело, двойным, тройным трудным вздохом вздохнул и, поворотясь, медленно побрел назад, в город.
Ах, зачем сказал!
Изнемогая от груза потаенных, невыговоренных чувств, шел в тумане, плохо разбирая дорогу, не ощущая ни пространства, ни времени. Бессвязные обрывки слов, образов, жестов, как в сонном видении, сменялись, перемещались, раскиданные прихотливо, не подчиненные какой-либо мысли. Пустая телесная оболочка шлепала по гнилой дороге, и не было в ней ни Ляндреса-поэта, ни Ляндреса-партийца, а лишь только подобие человека. Человек этот был потерян и несчастен. В смутном потоке сознания угадывалось одно: вчера еще такое яркое, отчетливое, а сейчас расплывчатое от слез и туманное – Рита.
Рита. Рита… Рита!
Это произошло возле голубых елей. Рита оступилась, попала ногой в промоину, зачерпнула в сапог воды. Опершись на плечо Ляндреса, прыгала на одной ноге, вытряхивала из сапога мокрое ледяное крошево. Хохотала, чертыхалась – ей все было нипочем.
– Ну, вот и все, кажется, – сказала, притопывая, согревая ногу в мокром сапоге.
Ах, как он любил ее в эти минуты! Как сладко было чувствовать на слабом своем плече дивную тяжесть крепкого жаркого девичьего тела… И он прошептал:
– Я люблю тебя, Рита…
И сразу же понял, что все кончено, что пропал: Ритина рука соскользнула с его плеча, он перестал ощущать ее пленительную тяжесть. И тогда она сказала:
– Черт знает, что выдумываешь! Какие пошлости.
Боже мой, каким ровным, каким будничным голосом это было сказано! Если б хоть чуточку гнева, чуточку насмешки… Нет! Так говорят: «Послушай, закрой форточку» или: «Перестань свистеть, надоело…»
И дальше, пока не кончился сад, пока среди деревьев не завиднелось поле, шли молча. И растерявшийся Ляндрес действительно засвистел что-то, и Рита действительно сказала:
– Перестань свистеть.
…Шел несчастный Ляндрес в печальном сумраке и плакал, ничего не видя и не слыша. И так дошел до железной дороги, до переезда, за которым начинался город. И только тут вспомнил об утренней ссоре с домашними и твердо решил, что домой идти невозможно, что придется ночевать на редакционных столах. «Ну, на столах, так на столах», – пробормотал он. И, сообразив, что партийному человеку не годится этак, у всех на виду, распускать сопли, вытер кепкой мокрое от слез лицо и твердо, решительно стуча каблуками, зашагал в редакцию.
5
А у Коринских был гость.
За столом сидел грязный, заросший бурой щетиной незнакомый и, как с первого взгляда показалось Рите, неприятный, жестокий человек и, двигая ушами, жадно пожирал вареную картошку. Когда вошла Рита, он перестал есть, но его крупные скулы продолжали шевелиться.
– Ну, вот и Ритуся, – сладко сказала Агния Николаевна. – Ты видел ее еще девочкой… Дядя Ипполит, – махнула она ручкой, обратясь к дочери.
Дядя Ипполит довольно ловко выскочил из-за стола, по-военному прищелкнул каблуками, наклонился и, уколов щетиной, чмокнул Ритину щечку. От него противно пахло заношенным бельем, табачищем и еще чем-то кисловатым, похожим на то, как пахнут днища давно не проветриваемых сундуков.
Из домашних разговоров Рита знала, что где-то в Петербурге существует какой-то дядя Ипполит, гвардейский офицер и щеголь, покоритель дамских сердец. С его именем в Ритином воображении всегда возникал образ довольно опереточный: гусарский ментик, лакированные сапоги, белые лосины и масса золота на мундире – нашивки, ордена, аксельбанты. И, разумеется, этакий гвардейский говорок: э-э… ска-и-те… га-уб-чик…
Ничего этого не было. Перед нею стоял грязный, завшивевший потаскун, проходимец. Впрочем, его движения, жесты были ловки, уверенны и по-офицерски грациозны. Однако в несоответствии с теперешней одеждой делали его смешным и каким-то ненастоящим.
Прерванная беседа продолжалась. Агния Николаевна расспрашивала о старых петербургских знакомых, о неизвестных Рите Алексисе, Жозефе, княжне Полине. Мелькнуло знакомое имя – Игорь Северянин. «Король поэтов», оказывается, нынче жил в Эстляндии, вблизи Ревеля. Хозяйка мызы, вдова, кормила его, выдавала на табак, но была страшно ревнива и, ни на шаг не отпуская от себя, держала в «черном теле», как говорится.
Агния ахала, взвизгивала. Вспоминала, как они вдвоем с приятельницей Зизи Малютиной однажды устроили паломничество к другому кумиру – Мережковскому, принесли ему цветы, но в гостиную тотчас вышла злющая рыжая Гиппиус и так откровенно презрительно разглядывала барышень-поклонниц в черепаховый лорнет, что им стало не по себе и они откланялись.
– А что Зизи? – спросил дядя Ипполит. – Она, помнится, была препикантна…
– Ах, Зизи! – простонала Агния. – Мы ведь переписываемся с ней. Совершенно опростилась. Живет в своем Баскакове, ей уделили комнатку в собственном доме…
– Ка-ак?! Совдепчики не выгнали ее из усадьбы?
– Да она там у них на службе… что-то секретаршей или я уж не знаю кем. Что-то в Совете, одним словом.
– Молодец баба! – сказал Аполлон Алексеич, до этих пор не принимавший никакого участия в болтовне жены и Ипполита. Он сидел в сторонке, нелепо громоздясь на хрупкой козетке, ^просматривал Денисову тетрадь. – – Всяческого уважения достойна, – пробубнил, не обращаясь ни к кому. – Не имею чести быть лично знакомым с Зинаидой Платоновной, но судя по ее письмам…
Профессорша метнула в мужа молнию.
– Да, да… что же, конечно, – светски заегозил дядя Ипполит, догадываясь о возможном взрыве и норовя предупредить семейную перепалку. – Что делать, что делать, мы нынче все приспосабливаемся… По теории Дарвина – не так ли! – пытаемся врасти в среду…
Аполлон поглядел на него изучающим взглядом, без ненависти, без любви, как бы единственно лишь интересуясь с точки зрения научной: что за экземпляр и к какому подвиду принадлежит? Он пытался понять истинную причину неожиданного появления Ипполита в Крутогорске. Какая нужда заставила Агнешкиного кузена предпринять столь неудобный и трудный вояж именно в ту область обширного отечества, где так очевидно закипает котел грядущих военных событий? Пал как снег на голову, в сумерках явился на пороге во всей своей неприглядности, завшивевший потаскун. Его даже Агния не сразу узнала. С какими-то воровскими ужимочками, шаркая, хихикая, бегая глазами встревоженно, но и не без нахальства, сказал, что «мимоездом, почел за долг заглянуть, проведать милую кузину»… и что-то про Тамбов, куда якобы пробирался.
– Что ж делать? В Питере – кошмар, голод, людоедство… два случая… об этом, конечно, не писали, но… Следовательно, разумней всего пока отсидеться, переждать…
То, что в квартире профессора расположились солдаты, дядю Ипполита не удивило ничуть.
– Бегут, драпают товарищи! – весело хихикнул, игриво подмигнув профессору. – Ничего, дорогой, мужайтесь… Я понимаю, конечно, эти мужицкие амбрэ… Но еще каких-нибудь два-три месяца и…
Широко разевая волосатый рот, профессор ни с того ни с сего захохотал хриплым басом. Ипполит удивленно взглянул, но как-то сразу съежился, словно погас.
И тут пришла Рита.
Смирнехонько прихлебывая чай, искоса наблюдала за дядюшкой, и первое впечатление не только не покинуло, а, наоборот, еще более укрепилось (неприятный, фальшивый, жестокий), еще более усилилось, определилось темным словечком: потайной. Перекинулась взглядом с отцом и в глазах профессора прочла плохо скрытое недовольство гостем, даже враждебность по отношению к нему. «Значит, я права, – подумала Рита. – Фатер не ошибется… А впрочем, черт с ним, с этим дядюшкой, приехал и уедет, забудется. Будем жить, как жили, жизнь – это увлекательное и веселое занятие. Живопись, театр… Еще предстоит разобраться, кто же она – актриса или художница? И это чертовски интересно, тем более что, кажется, она и то, и другое. Вот только с Фимушкой как-то ужасно глупо нынче получилось… Ужасно глупо! Это идиотское объяснение в любви… Оно, конечно, не было неожиданным, как ни скрывал под шуточками, под скоморошеством. Ах, Фимушка, глупенький! Ну, да все пройдет, конечно, «оклемается» (фатерово словцо!), только вот засмеялась напрасно, дурища. Надо было бы как-то сказать, объяснить… А что сказать? Как объяснить? Полно, мол, Фимушка, не будем портить нашу хорошую дружбу? Но ведь и это глупо, как в пошлейшем романе…»
– …милая барышня? – откуда-то издалека донесся голос дяди Ипполита.
– Ты что – оглохла? – раздраженно спросила Агния Константиновна.
– О чем это мечтает милая барышня? – подбоченясь, этаким фертом, пощипывая бурую щетину на верхней губе, спрашивал Ипполит.
– Просто спать хочу, – резковато ответила Рита. – Извините. «А ведь он усы носил, – мелькнула мысль, – и сбрил для чего-то… Ох, и темный же дядюшка! Потайной…»
Ей нравилось это определение. В нем было что-то настораживающее и жутковатое: потайная дверь, потайной подкоп…
– Мечты, мечты! Когда же, ма шер, юность не мечтала! – егозил Ипполит, теперь уже нагло, с мужским любопытством разглядывая племянницу. – Да еще и художница… Художники, Агнесса, известные мечтатели…
«И нужно же было маме выкладывать! – с досадой подумала Рита. – Сейчас начнет приставать – покажи ему рисунки… И почему это он называет мать Агнессой, когда она – Агния?»
Он и в самом деле попросил показать.
С каким-то злорадством Рита развязывала папку.
«Небось думаешь – цветочки, котятки, грезовские головки… На ж тебе! На!» Лист за листом выхватывала: Деникин на красных штыках, пузатый капиталист погоняет тройку – кулак, поп, белогвардейский генерал… Скелетно-тощий, с огромным горбатым носом адмирал Колчак, примеривающий перед зеркалом царскую корону… Рисунки были грубы, вызывающе ярки, горласты; за ними слышался гогот солдатни, мастеровщины. Профессор и Агния знали, что Ритуся что-то там такое рисует в студии или еще где-то – декорации или какие-нибудь эмблемы, революционные аллегории, но это…
– Ничего себе! – Аполлон сопел, наваливаясь на стол, разглядывая. – Да ты, дщерь, оказывается, карикатуристка заправская! Живо, очень живо… Откуда это в тебе?
Его все смешило: и колчаковский кадык, и зад-купол жирного фабриканта, и генерал, повисший на красном штыке. Он старался сдерживаться и не хохотал, а только похохатывал, чтобы не расстроить Агнию Константиновну. Но с нее и этого было довольно.
– Боже, какая мерзость! Какая грязь! – убитая, шептала она. – Мне больно… мне стыдно за тебя, Маргарита!
– Ха! Ха! Ха! Ха! – раздалось вдруг резко, ненатурально, как на граммофонной пластинке. – Ха! Ха! Ха!
Это Ипполит смеялся. Рухнув на стул, запрокинул голову, как петушиными крыльями, хлопал по бедрам руками. Нечеловеческий, жестяной голос четко выговаривал «Ха! Ха! Ха!», и слезы текли по судорожно дергавшейся щеке. Профессор глядел на него с удивлением, профессорша – с испугом. Рита сказала:
– Ну и так далее…
И собрала рисунки в папку.
А дядя Ипполит все смеялся, повизгивал, охал, как бы обессилев. Наконец умолк, затем, подавляя рыдания, пробормотал:
– Талант!.. Клянусь… бородой… Карла Маркса! Талант! – и стал расспрашивать, куда и для чего предназначаются такие забавные картинки.
Казалось, он успокоился, но впечатление было произведено: Агния Константиновна, несмотря на свой восторг и преклонение перед кузеном, по-своему расценила его истерику. Она кинула на мужа короткий, как вспышка пустой зажигалки, взгляд. Профессор безошибочно прочел его: «Он сумасшедший! – безмолвно сказала Агния. – Неужели ты не видишь?»
Ипполит попытался было восстановить изящную светскую беседу, но ничего не получилось: профессор и прежде не очень-то стремился поддерживать пустопорожнюю болтовню завшивевшего петербургского льва, Рита, свернувшись на своей козетке, дремала, а перепуганная профессорша отвечала рассеянно и невпопад.
Все кончилось тем, что она спросила мужа – можно ли устроить гостя в кабинете. Аполлон разрешил: в конце концов не он же сам будет пользоваться кабинетом, а какой-то совершенно ему чужой, посторонний человек.
Когда, проводив Ипполита, профессор вернулся, Агния, тревожно озираясь, сказала:
– Слушай, Поль… Сию же минуту надо спрятать все ножи. Он безумен, это у них в роду.
Ляндрес раздумал ночевать в редакции: там в этот час было пусто, одни крысы, огромные, тяжелые, прыгали по комнатам, носились, топоча, как собаки. Ефиму же нужен был сейчас собеседник, живой человек, а не нахальные крысы, которых он, кстати сказать, боялся до обморока
И он пошел к Степанычу.
Этот Степаныч был в редакции фигурой примечательной. Щуплый старичок с клинышком клочковатой седенькой бородки, до смешного похожий на Николая-чудотворца, каким того испокон века изображали на иконах, он считался живой историей газетного дела в Крутогорске. Без малого пятьдесят лет простоял он за наборной кассой, начав мальчишкой еще с «Губернских ведомостей» и после пережив четыре газеты: «Дон», «Крутогорский листок», «Курьер» и дотянувший до самой революции «Телеграф». Он жил бобылем: жена давно померла, дети разлетелись, и было в его одиночестве три пристрастия: голуби, поэзия и кудлатая, уродливая собачка Троля. Про голубей и поэзию он говорил, что это «для души занятие или, лучше сказать, баня душевная, всю житейскую грязь смывает».
– Ты, – любил он говаривать под хмельком, – ты, яска, только вникни в ихнюю голубиную жизнь, есть, есть что перенять… Эх, люди б этак жили! И никаких тебе безобразий, никаких войн или еще там чего такого…
К стихам пристрастился давно, смолоду. Крупным глазастым почерком записывал в тетрадь полюбившиеся чужие (особенно Кольцова почитал и Пушкина), перемешивая их со своими, которые подписывал вымышленным именем Макар Бесприютный. Он даже году в десятом на собственный счет издал тоненькую книжечку под названием «Песни одинокого странника», но ни славы, ни капитала от нее не приобрел, а лишь одни неприятности: по настоянию архиерея книжка была конфискована, потому что в одной из песен преосвященный усмотрел кощунство; призвав автора, сурово с ним обошелся и пригрозил отлучением от церкви, анафемой. Степаныч очень тяжело пережил это, – он не то что особенно верующим был человеком, но все-таки «придерживался обычая»: и говел, и лампадки под праздники затепливал в доме и, гоняя голубей, любил распевать что-нибудь из божественного.
Но если голуби и поэзия служили ему для души, то собачка Троля выполняла назначение чисто житейское: в числа получек Степаныч обязательно брал ее с собой в типографию, потому что после получки напивался до помрачения, забывал, в какую сторону идти домой, и тогда покорно тащился за Тролей, которая терпеливо дожидалась его у дверей трактира.
Ляндреса старик уважал, почитал за «настоящего» стихотворца. Ефим довольно часто печатался в «Крутогорской коммуне», а Степаныч так понимал, что в газете муру не поместят, значит, Ляндресовы стихи имеют какие-то достоинства. Ему, поклоннику Кольцова и Пушкина, правда, не совсем ясны были грубоватые, с рваным каким-то размером Ефимовы баллады о черных топорах, но ведь печатали же! Он как-то сказал:
– Чудной у тебя размер, товарищ Ляндрес… Словно телега по кочкам скачет.
– Скажите пожалуйста! – засмеялся Ефим. – Телега… Сейчас, папаша, не то время, чтоб гладко писать. Революция создает новые формы жизни, значит, и в стихе должны быть новые формы, чуешь? Жизнь сейчас мчится толчками, взрывами, катастрофами, – так как же может быть, чтобы в поэзии оставалась прежняя дореволюционная гладь типа «Я помню чудное мгновенье»?
Он именно так и сказал: типа.
– Да, видно, отстаем мы, старики, – огорчился Степаныч. – Ну, вам, молодым, конечно, виднее… Заходи, товарищ Ляндрес, в мою палаццу, чайку попьем, почитаем…
Ефиму нравился этот чистенький, вечно задумчивый старичок, и он стал частым гостем в Степанычевой «палацце».
Дом стоял на страшной круче, как костылями подпертый с обрыва дубовыми стояками, и даже заметно похилившись в сторону пропасти. «Эх, да и загремим же когда-нибудь! – с каким-то даже восхищением, словно хвастаясь, говаривал Степаныч. – До самого дна, брат, загремим!» Ему предложили перейти в хорошую городскую квартиру, в бывший особняк какого-то купчика, но он отказался наотрез: «Тут родился, тут, видно, и помру… Тут у меня кажная мышка, кажный таракан под своим имячком, а там что? Одна буржуазная пустота…»
Сидел Степаныч на деревянном диванчике, под лампадкой, и сочинял стихи. Нет, то, что он писал в последнее время, уже было далеко от благообразных, восхваляющих тишину элегий, из которых составились в свое время «Песни одинокого»; нынче в Степанычевых стихах сатира бушевала. И хотя формально, внешне он придерживался все тех же классических образцов (типа «Я помню чудное мгновенье») и старался не выскакивать из хорея и ямба, но муза гнева и печали преобладала нынче в его стихах. И уже не найти было в них ни «закатов позлащенных», ни «ангелочков легкокрылых», – один лишь только горький смех звучал, бичующий текущие неполадки: то отсутствие горячей и холодной воды в бане № 3, то нахальные торжища городских спекулянтов-сахаринщиков, свивших свое змеиное гнездо на вокзальной площади, то еще что из житейских дрязг, мешающих строительству новой жизни.
Ляндрес прямо с порога сказал:
– Я, знаешь, Степаныч, с отцом поссорился. Можно мне у тебя пожить?
– Почему не так? Живи, пожалуйста, – ответил Степаныч, – места много, на всех хватит.
Пошел на кухню, загремел самоварной трубой. Старческим ничтожным тенорком напевал: «Помилуй мя, господи, по велицей милости твоей…» С собачкой Тролей поговорил: «Эка, барыня, разлеглась тут…» Затем, перепачканный углем, с горящей лучиной в руке, выглянул из кухни, спросил:
– Из чего ж, яска, повздорил-то?
Ефим рассказал.
– Родителя-то, как сказать… вроде и не следовало бы обижать, – поучительно-строго изрек Степаныч. – Да ведь и с нашим братом, – засмеялся, махнул рукой, – со стариками то есть, беда: стоим подобно пенькам трухлявым, место занимаем, проехать не даем! Голодный небось? Ну, давай, протестант, иди чисть картошку…
В уютной тишине, со сверчком, и прошел вечер. Пили чай, ели рассыпчатую, обжигающую рот картошку. Троля подбегала то к одному, то к другому, «служила», умильно поглядывая, облизываясь. Тепло Степанычева дома согрело душу Ляндреса, смягчило кровоточащую внутри боль. В темноте недавнего отчаяния мелькнул огонек надежды. «Весна, Революция, Рита…» – пропела сине-голубая птица. Ах, юность, юность! Финист – птица волшебная!
Степаныч убрал со стола, сказал:
– Ну, давай ночь делить…
Улегся на диванчик и захрапел тотчас же.
А Ляндрес, чтобы не докучать спящему светом, надел на тусклую лампочку газетный колпачок и принялся писать похожую на поэму статью о Рембрандте и научном сотруднике музея товарище Легене.
И уж никак не подозревал, что герой его (то есть Легеня, конечно, а не Рембрандт) в это самое время, в каком-нибудь квартале от него, шел по темной, грязной улице, сопровождаемый двумя военными. И один из них за всю дорогу не проронил ни слова, а другой лишь в самом начале пути сказал равнодушно:
– Запомни, папаша: шаг влево, шаг вправо – стрелять будем.
И, как и первый, замолчал враждебно и глухо.
Они часу в десятом постучались к Легене. Старушка нянечка спала в своей комнатушке, не слышала. Увлеченный писанием, Денис Денисыч первый их стук тоже пропустил мимо внимания. Ему показалось, что где-то очень далеко стучат, не к ним. Пришедших, верно, раздражила эта немота в доме, и они забарабанили так, что дверь затрещала. Денис Денисыч с коптилкой в руке (в этом районе города почему-то не горело электричество) вышел в сени и спросил:
– Кто?
– Кто-кто! – сердито, звонко отозвались из-за двери. – Открывай, увидишь кто!
– Но позвольте … – возмутился Денис Деиисыч. – Если вы не скажете, кто вы…
– Скажем, скажем, – перебил его спокойный басок другого человека. – Из Чека… Откройте, гражданин.
– Денис Денисыч! – послышался занудливый знакомый голос домохозяина. – Это я, Пыжов… Они действительно из Чеки…
«Странно», – подумал Денис Денисыч. И, отодвигая засов, сказал
– Странно…
– Ну, странно не странно, – усмехнулся, входя, тот, что был постарше, грузный, с висячими запорожскими усами, – а факт налицо. Вы гражданин Легеня?
– Да, я… – Денис Денисыч поверх очков ошеломленно глядел на вошедших.
– Показывайте, где живете.
И пошло-поехало…
Выдвигались ящики, листались бумаги, переворачивались матрасы, вытаскивалось тряпье из сундуков, книги из шкафов. Заглядывали в печные отдушники, за рамы картин и фотографий. Насмерть перепуганная нянечка сидела на своем распотрошенном сундучке; по ее узорно-морщинистому личику текли слезы, и она все приговаривала:
– Свят-свят-свят… Да что же это, Денечка?..
Наконец, после того, как старший, усатый, в сопровождении домохозяина слазил с фонарем на чердак (младший в это время сидел с револьвером в руке на стуле посреди комнаты, карауля Дениса Денисыча и старуху), осмотрел подвал и сарай, Легене было сказано:
– Собирайтесь, гражданин, пойдете с нами.
И в половине одиннадцатого его повели по темным улицам города, предварительно предупредив насчет шага вправо или влево.
Мартовская ночь шуршала под ногами ледяным крошевом, из скучной бездны серого безлунного неба сыпалась мокрая колючая крупка. Редкие огоньки пасмурно мерцали в окнах домов.
Собираясь, Денис Денисыч впопыхах забыл надеть калоши и шел, скользя, разъезжаясь ногами, чуть не падая. В эти мгновения его услужливо поддерживали под локотки то один, то другой из его молчаливых провожатых. Ноги застыли враз, и влажный холод от промокших башмаков и страха оскорбительно скользил по спине, и мысли толклись как попало, враздробь о том, что тут недоразумение какое-то вышло, что его, никогда не сказавшего худого слова о новой власти, тащат в Чека зачем-то и зачем-то перевернули в квартире все вверх дном, непонятно чего ища. И что все, все непонятно, а всего непонятней то, что забрали-то сущие пустяки – всего-навсего пачку старых, никому не нужных и не интересных писем и совершенно уж никому не нужную черную клеенчатую тетрадь, в которую было переписано набело продолжение той повести о крещении Руси, начало которой находилось сейчас у профессора Коринского.
Его водворили в длинную, узкую камеру, похожую на вагон. И, как час был поздний, то все обитатели этого странного и мрачного помещения спали Но свойство тюремного сна таково, что, как бы он ни был крепок, хоть из пушки пали, стоит ключу тюремщика легонько заскрежетать в дверном замке – и все просыпаются, как по команде.
Когда Денис Денисыч переступил порог камеры, он увидел четырех человек, сидевших на железных, лазаретного вида кроватях. Вытянув шеи, они напряженно всматривались в вошедшего, стараясь угадать, кто этот новенький: не знакомый ли? Не родственник ли, избави господи?! Минута молчания тянулась томительно.
Двое длиннобородых, с печальными узкими лицами библейских пророков, сидели неподвижно, как неживые, не выказывая желания вступить в разговор. Третий, не когда, в лучшие времена, видимо, не носивший ни усов, ни бороды, а сейчас густо, бурьянно заросший рыжей тюремной щетиной, пробормотал. «Пополнение, господа, пополнение!» – и нелепо, некстати, потирая ладонь о ладонь, тоненько захихикал. Четвертый же, красивый, упитанный, выхоленный и довольно чисто выбритый, со стандартной внешностью провинциального конферансье, взятый, надо полагать, совсем недавно, сразу же огорошил Легеню.
– Ай! – сказал он, с комическим поклоном обращаясь к нему. – Если вы думаете, что Каменецкий в данный момент что-нибудь понимает, так будьте уверены: он таки ничего не понимает… Вы скажете: Каменецкий, – он ткнул себе пальцем в грудь, – Каменецкий – валюта, и я не стану с вами спорить. Да, я, Каменецкий, – валюта! Вы даже, может быть, назовете Эпштейна и Соловейчика (он указал на пророков) и скажете, что они – тоже валюта? И тут вы не ошибетесь, чтоб я так жил: они – тоже валюта!
Пророки задвигались, глухо, невнятно забормотали, очевидно выражая недовольство шутовской выходкой их товарища.
– Слушайте, Каменецкий, – строго сказал один из них, – не будьте шутом на ярмарке.
– Вы что-нибудь хотели сказать, мосье Соловейчик? – обратился Каменецкий к пророку. – Может быть, вы хотели добавить, что и мосье Дидяев – это тоже валюта? Хотя он упорно выдает себя за мелкого сахаринщика?..
Мохнатый мосье Дидяев потер руки и хихикнул. Ему, кажется, нравилась эта ночная клоунада как некое разнообразие тюремной скуки.
– Все это действительно так, – продолжал Каменецкий, – и вы попадете в самую точку, если к упомянутым валюте и сахарину прибавите еще соль, кокаин и политуру… Мы коммерсанты, обломки проклятого капиталистического прошлого, и с нас вы таки себе можете спрашивать, что вам угодно… хотя бы это было палисандровое дерево, драгоценная амбра или жемчужные раковины с тихоокеанских островов… Но что может Чека спросить с научного работника? С человека, который сам, если ему понадобится сахарин, бежит к мосье Дидяеву, а если золото для коронки – так ко мне или к тому же мосье Соловейчику?
Он развел руками, а затем сделал в сторону Дениса Денисыча какой-то странный жест, что-то вроде полупоклона или полуприседания, жест, каким конферансье приглашают выступить очередного артиста. И как ни был Денис Денисыч ошеломлен и озадачен нелепым своим арестом, как ни сумрачно было у него на душе, когда захлопнулась за ним тяжелая тюремная дверь, он не мог удержаться от улыбки, глядя на шутовские ужимки мосье Каменецкого.
– Веселый, однако, вы человек, – сказал Денис Денисыч, – не дадите впасть в меланхолию… Но откуда вы знаете, что я научный работник?
Выяснилось, что Каменецкий бывал в музее и не раз слушал лекции Легени. Он вообще оказался довольно занятным человеком. Его склонность к шутовству была у него, как он сам признался, качеством природным.
– Я с детства, так сказать, с пеленок, был ужасный смешняк, вот они знают (он опять указал на пророков), сколько забот и огорчений доставил я своему папеньке… Солидное ювелирное дело, единственный наследник – и такой, представьте себе, балбес! Я с цирком даже собирался убежать, очень хотел сделаться куплетистом, чтоб я так жил, да полиция поймала, вернули домой… Что было! Папенька плакал, маменька плакала, кошмарный ужас! А потом, представьте себе, женился – и никаких цирков, никаких куплетов, правая рука у папеньки в деле, чтоб я так жил! Но вот – революция, папенька скоропостижно умирает. Он хотя еще при Временном скончался, но уже, знаете ли… назревало. Он сказал: «Ой, Боря, закрывай дело, дадут уже вам ума эти большевики…» И что вы себе думаете? Ведь дали! Третий раз сижу в Чека, и все из-за этого проклятого золота, холера ему в живот! Придут, знаете ли, поищут – и ведь находят, представьте себе! Бог мой, и откуда оно только берется?
Спали пророки, спал заросший Дидяев. В стекла зарешеченного окна сухо постреливала мартовская крупка. Уже и у Дениса Денисыча глаза стали слипаться, а мосье Каменецкий все журчал и журчал, и кто бы мог в его откровенности отделить правду от выдумки?
Денис Денисыч сперва внимательно слушал, сочувствуя даже, но вскоре понял, что фальшь сплошная это веселое краснобайство Каменецкого, что все это – петли, петли и петли; что даже здесь, в камере, среди своих же товарищей по несчастью, петляет человек, разыгрывает какую-то, ему одному известную роль. И внимательное сочувствие улетучилось враз, и спать захотелось прямо-таки невыносимо, и чуть-чуть не заснул Денис Денисыч, как вдруг – до полусонного – дошло до него:
– Да ведь и вас, мейн либер, конечно, не за что-нибудь – за золотишко притянули…
– Что? Что?! – очнулся Легеня. – Меня?! За золотишко?!
– Ай! – насмешливо пожал плечами смешняк Каменецкий. – Ну чего вы встрепенулись? Вы что – Карл Маркс или Роза Люксембург, чтобы вас не трогать? Вы – живой человек, научный работник музея, куда разные конфискованные ценные вещички собираются… А если принять во внимание, что эпоха наша бурная и, я бы сказал, бестолковая, то… при известном умении, конечно, кое-какие безделушки можно совершенно изящно и не туда заактировать…
– Послушайте, – стараясь произносить слова как можно спокойнее и мягче, сказал Денис Денисыч, – послушайте, мосье Каменецкий… идите к черту!
– Фуй, как грубо! – состроил тот гримасу. – Вы же, мейн либер, интеллигентный человек… Ну, спокойненькой ночи, в таком случае. Но вот увидите, чтоб я так жил!
И началась тюремная жизнь.
Денис Денисычевы ощущения в этой жизни определялись двумя словами: томление и скука. Сперва занимала новизна обстановки – хитрая болтовня Каменецкого, пророки, сахаринщик. Но прошел день, серый, сумрачный, и все примелькалось, навалилась, задавила скука. Время от времени гремел замок, вызывали на допросы. Возвращаясь с допросов, шептались, вздыхали. Каменецкий балаганил, пророки подолгу расчесывали роскошные библейские бороды.
И заскучал, заскучал Денис Денисыч. Оторванный от музейных дел, от рукописи, четвертые сутки торчал в обществе сомнительных темных дельцов, по горло насытясь ими в первый же день, томясь от неведения, сколько же еще, таким образом, будет вычеркнуто времени из его жизни, в которой каждый день на счету: эпопея «Тороповы» укладывалась, самое малое, в шестнадцать книг. Пользуясь арестантским бездельем, он прикинул это почти точно. «Какая нелепость, – думал Денис Денисыч, с тоской глядя в высокое зарешеченное окно, где синели клочки неба, где воробьи иной раз подымали такой развеселый весенний базар, что в пору хоть бы и самому обернуться воробьем, только б на волю. – Какая нелепость – сидеть в этой банке с пауками, когда там, наружи, огромная шумная жизнь, которой я нужен и которой вовсе никакой не враг… Черт знает что!»
Его вызвали только на шестой день.
Аполлону Алексеичу, привыкшему к жизни среди людей, к веселому шуму студенческих ватаг, трудно было привыкнуть к той мертвой, кладбищенской тишине, какая с января девятнадцатого года прочно обосновалась в промерзших стенах учебных корпусов. Хотя уже в начале семестра аудитории института опустели наполовину, в них все-таки еще теплилась жизнь: гулкие отзвуки лекторских голосов еще отдавались в молчаливых глубинах длинных темноватых коридоров, в перерывах между лекциями слышалось шарканье ног, звонкий хохот, шумная возня дружеской потасовки, задиристые голоса спорщиков. Но с января все замерло, мобилизация опустошила институт, на дверях лабораторий повисли замки. И таким образом мир Аполлона стал ограничен лишь стенами квартиры и оказался смехотворно узок и ничтожен: Агния, Рита, мелкие домашние дела (прислуга-то разбежалась). Впервые в жизни очутился профессор в состоянии праздности абсолютной, терпеть которую ему, почитавшему за подлинную жизнь именно труд, ежедневный, ежечасный, сделалось невероятно тяжело. Он не знал, куда себя деть, к чему приложить свои богатырские силы. Если б не вынужденное бездействие, он едва ли стал бы вникать в театральные дела Риты, едва ли нашел бы время тащиться к Денису Денисычу, слушать и читать его записки о русских древностях. Наконец, это дурацкое посещение товарища Абрамова, нелепый взрыв в ванной, разбитая «Психея», – не явилось ли все это просто разрядкой накопившейся энергии? Да, наверно, так оно и было, потому что он как-то вдруг успокоился и продолжал жить, занимаясь не делами, а лишь видимостью дел: каждый день шел в учебный корпус, выговаривал завхозу за пыль и паутину на окнах, твердил: чтоб пуще глаза берег особенно дорогое уникальное оборудование химических учебных лабораторий.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































