Текст книги "С двух сторон"
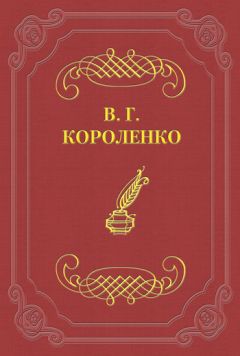
Автор книги: Владимир Короленко
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
XIII
На следующее утро меня разбудил стук запираемой двери.
В комнате было темно, в окна глядела серая зимняя заря, а сквозь матовое стекло нашей двери просвечивал огонек свечки. Мне теперь кажется, что свечка заглядывала в комнату как-то значительно и осмысленно.
Огонек исчез. В коридоре послышались знакомые шаги коридорного Маркелыча. Из угла, где стояла кровать Тита, слышалась возня и вздохи. Тит одевался.
Я понял, что Маркелыч сообщил Титу какую-то новость. Все новости, случавшиеся вечером или за ночь, Тит всегда узнавал ранее всех, благодаря особому расположению Маркелыча, который уважал моего друга за его «простоту» и аккуратность. Я очень любил, проснувшись рано утром, слушать их простодушные беседы, в которых Тит с милой наивностью становился на уровень Маркелыча, выслушивая его новости и суждения и делясь с ним, в свою очередь, собственными соображениями, пускаясь порой и в научные толкования. Иной раз я не выдерживал и, «по младости», как говорил Маркелыч, начинал хохотать. К моему смеху добродушно присоединялся Тит, а Маркелыч сердито ворчал.
– Спроси, чему смеется… Сам не знает…
На этот раз, по вздохам и возне Тита, я понял, что он сильно озабочен. Я не видел его лица, и только его тощая, длинная фигура выделялась белесоватым пятном. Натянув сапоги, он вздохнул и с минуту сидел неподвижно. Потом опять вздохнул и закурил папиросу. Казалось, самый огонек, вспыхивавший в темноте, когда Тит затягивался, выражал тревогу и растерянность.
– Сегодня Маркелыч принес Тит Иванычу печальную новость, – сказал я шутливо.
– А? Ты слыхал?
– Нет, не слыхал, но ты вздыхаешь, точно перед экзаменом по геодезии.
Тит затянулся окурком папиросы так, что в мундштуке затрещало, и через минуту сказал:
– Это вчера кто-то бросился под поезд.
Я был настроен шутливо и глупо.
– Голубчик, Тит… Каждый день кто-нибудь умирает тем или другим способом… Закон природы… В сущности, Титушка, что такое смерть?.. Порча очень сложной машины… Просто и не страшно…
– Очень близко… – пояснил Тит уныло.
– Это не меняет дела.
– Сам бросился.
Я тоже закурил папиросу, потянулся и продолжал донимать Тита рационализмом.
– Что ж, значит, это акт добровольный. Знаешь, Тит… Если жизнь человеку стала неприятна, он всегда вправе избавиться от этой неприятности. Кто-то, кажется, Тацит, рассказывает о древних скифах, живших, если не вру, у какого-то гиперборейского моря. Так вот, брат, когда эти гипербореи достигали преклонного возраста и уже не могли быть полезны обществу, – они просто входили в океан и умирали. Попросту сказать, топились. Это рационально… Когда я состарюсь и увижу, что беру у жизни больше, чем даю… то и я…
– Не говори глупостей, – сказал Тит сердито… У него была старуха мать, которую он страстно любил.
Я засмеялся. Тит был мнителен и боялся мертвецов. Я «по младости» не имел еще настоящего понятия о смерти… Я знал, что это закон природы, но внутренно, по чувству считал себя еще бессмертным. Кроме того, мой «трезвый образ мыслей» ставил меня выше суеверного страха. Я быстро бросил окурок папиросы, зажег свечку и стал одеваться.
– Тит, пойдем туда.
– Куда?
– К платформе…
– Какого чорта ты там не видел?..
– Брось свои суеверия… Человек должен закалять свою душу против всяких резких впечатлений…
– Ну, иди, закаляй. А меня оставь в покое.
– Глупо, Титушка. Это не аргумент…
– Ну, я останусь дома без аргументов…
Я оделся и вышел…
На дворе меня охватил сырой холодок. Солнце еще только собиралось подняться где-то за облаками. Был тот неопределенный промежуток между ночью и зарей, когда свет смешан с тьмою и сон с пробуждением… И все кажется иным, необычным и странным.
Небо было сплошь затянуто облаками, но на выпуклых окнах академии играли синеватые отсветы зари. А в подвалах горели огоньки, такие же красные и маслянистые, как огни фонарей, которых еще не потушили. У церкви стоял городовой в тулупе и огромных калошах, зевал и ожидал смены. Сонный извозчик проехал мимо. Он, вероятно, привез загулявших в Москве студентов и теперь крепко спал в пролетке, между тем, как лошадь тихонько бежала по знакомой дороге. Откуда-то выбежала собака, пробежала через площадку, что-то разыскивая деловито и боязливо, и затем побежала к темным аллеям парка… Вид у нее был сосредоточенный и странный, и мне невольно вспомнились деревенские рассказы об оборотнях… «Переживания прошлых веков» – мелькнуло у меня в голове…
Холодноватая сырость проникала под легкое пальто… «Не вернуться ли?..» Но я представил себе насмешливое лицо Тита и углубился в лиственничную аллею.
Утренний ветер шуршал обнаженными и обмерзшими ветвями. Я невольно вспомнил ее такой, какой она была летом, с пятнами света и тени, с фигурами Урманова и «американки» в перспективе… Мне казалось, что это так давно… Надо будет разыскать Урманова… Положительно это его я видел в парке. Неужели он живет все на лесной дачке?.. Мне вспомнилось освещенное окно, свет лампы, склоненная над столом голова Урманова и красивая, буйная прядь черных волос, свесившаяся над его лбом…
На дорожке аллейки я увидел белый квадрат и, наклонившись, поднял оброненное кем-то письмо. Конверт был довольно большой и как будто знакомый. В углу виднелась продолговатая нерусская марка… Он был разорван, и из него выпало письмо. Совершенно безотчетно я наклонился опять и поднял листок… В аллейке, больше для порядка, чем для освещения, стояли три или четыре фонаря, светившие желтым пламенем. Подойдя к одному из них, я бросил взгляд на листок, и сразу меня поразило то обстоятельство, что в первой же строке я встретил свою фамилию:
«…– Потаповым… Это было бы гораздо лучше… Признайтесь: вы не вправе были это делать. Таким образом вы брали себе шанс, которого вам не имели в виду предоставить».
«…Вы пишете, что борьба за любовь есть закон природы, и предлагаете мне своего рода поединок… Вы приедете в Америку и привезете свою бурную страсть против моей прохладной, как вы называете, любви… Думаю, что это лишнее. Борьба за любовь… Да почему вы думаете, что я в свое время не боролся?.. Если же вам представляется, что каждый муж обязан отказываться от своего права, как только он будет вызван на поединок новым претендентом, то это – простите – закон прерии, где пасутся стада буйволов, а не человеческое общежитие. Наконец, высший закон общежития – свобода. И с вашим предложением вы должны были обратиться не ко мне, а к Валентине Григорьевне… Но…».
На этом кончалась страница, и только тут я спохватился, что читаю письмо, адресованное не мне. Поэтому я спрятал его в карман, решив сегодня же разыскать Урманова и передать ему конверт… Интерес к его драме ожил во мне с новой силой… Так вот что он предлагал!.. Имел ли он на это право или нет?.. Мне казалось, что имел… Крупный, отчетливый и прямой почерк его противника мне не нравился.
Охваченный течением этих мыслей, я чуть было не повернул обратно, к академии. Но платформа была близко: последние лиственницы аллейки уже махали по ветру своими ветками, и над обрезом холмика виднелась деревянная крыша беседки. Солнце всходило, но еще не вышло из-за туч, виднелось полотно дороги, на котором черная земля проглядывала сквозь талый снег, и две пары рельсов тянулись вдоль светлыми полосками… В беседке, закрытые от меня стеной, сидели два человека, и один говорил о чем-то негромко, ровно, бесстрастно. Другой слушал, подавал короткие реплики… Мне до сих пор чудится по временам этот бесстрастный голос… Третий мужик шел по рельсам, держа в руке какой-то черепок, и, по временам нагибаясь, подымал что-то, раскиданное по шпалам.
Я обошел беседку и подошел к разговаривавшим.
На полу беседки под навесом лежало что-то прикрытое рогожей. И еще что-то, тоже прикрытое, лежало на листе синей сахарной бумаги, на скамейке, на которой в летние дни садилась публика, ожидавшая поезда. Однажды я видел здесь Урмановых. Они сидели рядом. Оба были веселы и красивы. Он, сняв шляпу, проводил рукой по своим непокорным волосам, она что-то оживленно говорила ему.
Мужик подошел к скамейке и отдернул рогожу. Я не сразу понял, что он делает, и только смотрел, как он ссунул щепкой из черепка, который нес в руках, что-то сероватое, с красными прожилками… Оно шлепнулось как будто в чашку… Потом также тщательно и равнодушно он сдвинул той же щепкой осколки костей и потом… еще кусок чего-то с прядью черных волос…
Я внезапно вздрогнул и, – не помню, как это случилось, – быстро подошел к другой рогоже, лежавшей на полу, и сдернул ее.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Следующих за этим секунд я совсем не помню. Были ли это секунды, или минуты, или часы, я не мог бы дать в этом отчета. Знаю только, что в это время что-то быстро повернулось во мне… Я вдруг вспомнил скрежет железа и чудовищные, как выстрелы, вздохи локомотива… Мне показалось, что я их слышу в эту минуту, и я невольно, предостерегающе громко крикнул:
– Урманов, Урманов!
Кто-то грубо схватил меня за плечо и оттолкнул назад.
– Не балуй, барчук, – гневно сказал мужик и опять покрыл «это» рогожей. Другой, с знакомым лицом дорожного сторожа, повернул меня и вывел из беседки… Я очнулся на платформе, посмотрел кругом и… засмеялся… Мне казалось, будто все, что я только что видел, было глупым и «стыдным» сном, будто я только что рассказал этот сон мужикам, и от этого мне было очень совестно…
– Смеется, – сказал один из мужиков, заглядывая мне прямо в глаза…
– Ну… видишь, повело его как… товарищ, видно, – сказал другой. – Ступай, барин, отседа… Делать тебе тут нечего. Иван, ты бы проводил, мне, вишь, некогда. Сейчас пройдет четвертый номер.
– Проводить, что ли?.. – сказал рыжий в раздумье.
Но я отмахнулся и пошел по платформе. Из мглы выступали очертания поезда, и в рельсах начинало переливаться что-то тоненьким металлическим клокотанием… Я почти выбежал на холмик и вошел в аллею. Поезд прошумел и затих… Вскоре послышался его свисток с ближайшего полустанка. В это время я сидел на мокром откосе придорожной канавы и не помнил, как я сел, и сколько времени сидел, и как поднялся. Зубы мои стучали. Мне показалось, что внутри у меня холодно от вчерашнего железного скрежета.
– Что это с тобой, Потапыч? – спросил с беспокойством Тит, когда я вошел в номер. – На тебе нет лица… И ты весь дрожишь… Ах, Потапыч, Потапыч, напрасно, видно, храбрился… На, вот, выпей чаю… Или, постой, я заварю лучше липового цвету… Вот, пей… Теперь раздевайся, сними сапоги, ляг в постель… Да что это тебя так расстроило?
Я сжал зубы и ответил одним словом:
– Урманов…
По лицу Тита пробежала судорога… Черты его странно передернулись, но дальше я ничего не видел и не слышал. Я повалился на кровать и тотчас заснул странным, тяжелым, глубоким сном…
Впрочем, в моей памяти осталась, точно донесшаяся откуда-то издалека, фраза Тита:
– Ах, Гаврик, Гаврик. Вот до чего доводят все эти фиктивные браки, Америки и вообще философия.
Часть вторая
I
Помню один день из моей детской жизни. Я был очень огорчен чем-то и лег днем на свою постель. Было около полудня, на дворе светило солнце и надвигалась туча. Я как-то незаметно в огорчении заснул, сквозь сон слышал раскаты грома и проснулся, когда гроза и ливень прошли. Все было опять так же, как за полчаса перед тем, но я не узнавал того же самого дня. Мне казалось, что в моем времени произошел какой-то перерыв или, наоборот, оно прокатилось слишком быстро, как развернувшаяся пружина. Тот ли это день, та ли комната? Где я и кто я? Неужели я спал только полчаса?.. Или прошла ночь, настало утро, и оно застает меня в каком-то новом месте? Петух кричит на дворе, и голос у него басистый и мокрый. Лает собака, и лай напоминает что-то знакомое, бывшее давно… И детские голоса несутся откуда-то издалека, точно воспоминание о голосах, звучавших когда-то… И тот маленький человечек, который еще недавно ложился в мою постель, – я ли это, или кто-то другой, о котором я только помню?..
С таким же ощущением я проснулся теперь, через несколько часов, и, должно быть, в моем взгляде было что-то необычное, потому что Тит, сидевший с записками за столом, встал и наклонился ко мне с беспокойством:
– Что с тобой?
– Решительно ничего, – ответил я, – но… мне не хочется говорить.
– Поспишь, еще?
– Да.
Тит опять, погрузился в записки и по своей еще школьной привычке закрыл уши. Его профиль рисовался на светлом фоне окна, а я смотрел на него и с удивлением спрашивал: кто это?
Я знал, что это Тит, знал внешнюю историю его жизни, знал, что он мой товарищ и друг, но все это мне известное все-таки не отвечало на вопрос. Я смотрел на него во все глаза и будто видел его впервые…
Профиль, резко выступавший в квадрате окна, стал расплываться. Что-то сделалось с моими глазами, и Тит вдруг стал близким и огромным. Потом явилось два Тита и два профиля в окне. Голова у меня кружилась… Я сделал усилие, и обычная фигура Тита оказалась одна и на месте. Но это меня не успокоило. Мгновение, и начались опять те же превращения…
«Что же правда? – думал я. – Может, это мне только кажется, что этот вот один Тит есть правда… Может, их всегда два, и только в обычное время я этого не замечаю… Потому что мне удобнее, чтобы Тит был один. При двух Титах неприятно кружится голова…»
«Галлюцинация», – подумал я вдруг, и это слово меня успокоило. Я сделал усилие, водворил образ Тита на место и закрыл глаза… Раскрыл… Тит был один, голова кружилась меньше… Хорошо? Нет, я все-таки не знаю, кто это.
Я очень любил Тита, и еще недавно он казался мне понятным. В начале гимназического курса я привык смотреть на Тита с почтением: он был много старше меня и шел тремя или четырьмя классами выше. Но бедняга был очень туп, и год за годом я нагнал его в последних классах. Мне было странно, что мы стали равные и подружились. Тита все считали тупицей, но все его уважали. Учился он плохо, но был лучшим репетитором для малышей. Ему приходилось порой бегать к товарищам за разрешением простой задачи, и он с трудом усваивал решение. Но на следующий день его ученики отвечали превосходно. Он умел работать и умел заставить работать других.
Тит одолевал курс с величайшим трудом, и вся гимназия следила за этой драмой. Когда кончался какой-нибудь экзамен, все спрашивали: «А как Тит?» – и радовались, если дело шло благополучно. Все знали, что Тит «не способен к наукам», но когда нужно было «поправить отметки» отстающего малыша, то директор советовал родителям отдать его Титу. Иногда он затруднялся вопросами мальчишек по тому или другому предмету, но родители очень часто прибегали к его советам в важных житейских делах. И он разрешал самые запутанные случаи просто и очень умно. Однажды, на уроке геометрии, сбитый с толку тем, что учитель повернул на чертеже треугольник острым углом книзу, тогда как в учебнике острый угол был кверху, Тит поднялся на носки и, вывернув голову, стал смотреть сверху вниз. Его долговязая фигура и странная попытка были так комичны, что все хохотали: ученики, учитель и сам Тит… Он был весел по природе, и сам умно и искренно смеялся над своей тупостью… И в то же время все чувствовали, что Тит один среди нас – серьезный человек. И это потому, что у него была задача в жизни. У него была мать, которую он страстно любил, и сестра, которую надо было вывести в люди. И он с ранних лет делал это дело с великими усилиями. Это было драматично. И это все уважали.
Я тоже уважал Тита и нежно любил его. Я часто помогал ему в «сочинениях», и его «зубрежка» подавала повод к моим шуткам. Но я ничего не скрывал от Тита и слушал его советы в житейских делах. Я уже говорил о том, как я собирался облагодетельствовать семью дорожного сторожа в будущем… Меня глубоко трогало то, что Тит, не вдаваясь «в философию», часто носил им сахар и булки, о чем я как-то забывал…
Поэтому всегда с личностью Тита у меня связывалось особенное чувство: в нем было и представление о его смешной тупости, и преклонение перед его практическим умом и узкой, но деятельной добротой. Тут была улыбка и нежность, юмор и уважение…
Теперь я смотрел на Тита и испытывал только сухой остов этих ощущений. Он сидел, наклонясь, и, закрыв уши, тихо зубрил про себя. Шея у него была длинная и сухая. По мере того, как он зубрил, тихонько произнося слова, одно из сухожилий двигалось, как будто принимало участие в учении… И ничего больше не было. Я не «ощущал» Тита, того Тита, каким он был для меня вчера…
Вот он сидит и работает… Запечатлевает в своем мозгу черточки и знаки… И мне невольно вспомнилось, что я так же над столом видел Урманова… Он был, наоборот, очень способен… О его работе, если она осталась, будут говорить… Тит зубрит. Урманов творил… И это оттого, что у Тита в мозгу недостает чего-то… Чего-то, что вчера лежало, разбрызганное на рельсах, и что мужик собирал мокрой щепочкой в грязный черепок… Каково оно, то, что создает мысли: белое или красноватое?.. Склизкое… Там было разбрызгано все… И восторженность, и экспансивность, и «идеи», которые воспевал наивный поэт, и любовь, которой я так любовался… Все, все… «Мысль – выделение мозга»… Я посмотрел на эти слова под портретом Фохта, и вместо восторга, от них по мне прошла дрожь… Бедный Тит… Его мозг «выделяет плохо». Я представил себе, как вяло перебегают мысли Тита в том беловатом студенистом веществе, которое находится под его узким черепом. И вздрогнул от отвращения… Потом представил себе, как быстро и отчетливо перебегали они под черепом Урманова, и опять вздрогнул… Черная прядь волос, освещенная светом лампы… Это красота… Та же прядь, там на рельсах… Да, там лежало все это: и любовь, и ревность, и восторг, и отчаяние… Котел разбит, содержимое перемешано в некотором беспорядке, рычаги и шестерни раскиданы врознь… Это и значит, что Урманов умер… И вот смерть… И вот жизнь… Что-то движется, ползает, просачивается по физическим законам. Это жизнь… Навешивайте на нее какие угодно украшения… Остановите движение – смерть! Одевайте ее красивым трауром, мистическими и грандиозными вымыслами… Что касается меня, то для меня не было теперь ни красоты, ни траура… Я вижу обе стороны медали, сведенными в одно… Просто, ясно и отвратительно…
II
Тит перестал писать, взглянул на часы и принялся укладывать тетради.
– Который час? – спросил я.
Тит вздрогнул от неожиданности и обернулся.
– А! Ты не спишь? Два часа, сейчас пятая лекция. Пойдешь?
– Пожалуй.
Я поднялся вяло: не хотелось идти и не хотелось оставаться.
– Что там такое сегодня? – спросил я.
– Лекция братушки.
– А!
– Как ты думаешь: будут ему свистать или нет?
Я посмотрел на Тита с удивлением. Его вопрос напомнил мне о чем-то, происходившем тоже будто давно, перед грозой или во сне. Действительно, кто-то рассказывал о профессоре Бел_и_чке предосудительные вещи, и вчера еще я сам горячился по этому поводу. Но теперь я равнодушно зевнул.
– А чорт его знает…
Тит удивился и пытливо посмотрел на меня.
– Ты здоров?
– Что мне делается?..
– А ты бы посмотрел на себя утром… Желтый, глаза, как у сумасшедшего… Да и сейчас еще смотришь нехорошо. Останься дома…
– Пойду…
Я действительно чувствовал себя нехорошо. На душе было тошно, хотелось что-то выкинуть, от чего-то избавиться… Что это? – задал я себе вопрос, остановившись посередине комнаты под беспокойным взглядом Тита… Да я знаю: это скрежет железа и то, что было там, на платформе. Но мне уже от этого не освободиться. Этот знобящий скрежет проник мне глубоко в душу и раздавил в ней что-то.
Мне рассказывали незадолго перед тем, что горничная у моих знакомых, обтирая окна снаружи, упала с третьего этажа. По странной случайности, она стала прямо на ноги и даже пошла сама в дом, На вопрос, что с ней, она спокойно отвечала: «ничего решительно». Но к вечеру она умерла: оказалось, что-то оборвалось у нее внутри.
Мне вспомнился этот случай. Со мной тоже «ничего», и тоже оборвалось что-то важное, без чего как будто нельзя жить…
Тит по-своему объяснил мою внезапную задумчивость и сказал:
– Да, брат… Бедный Урманов… Вот чем кончилось!..
Я удивился. «Бедный»? Почему?
Тит удивился в свою очередь:
– Да ведь это же Урманов… там… Уже все знают.
– Ну, так что же? Кто ж теперь бедный? Ведь Урманова нет… Ты, значит, жалеешь то, чего нет.
– Но еще вчера был… живой.
– Кто был?..
– Урманов…
– Ах да… Ты вот о чем… Ну да, конечно, был живой.
Я все-таки не чувствовал жалости. Когда я старался представить себе живого Урманова, то восстановлял его образ из того, что видел у рельсов. Живое оно теперь было для меня так же противно… Ну да… Допустим, что кто-то опять починил машину, шестерни ходят в порядке. Что из этого?
– Знаешь, Тит, – сказал я серьезно. – Это я выдумал Урманова. Урманова не было… Понимаешь: не было вовсе…
– Ну да, брат, – ответил Тит так же серьезно, – я всегда говорил тебе: ты идеализируешь людей…
Я пожал плечами. Ах, это все не то. Тит хочет сказать, что я приписал Урманову свойства, которых у него лично не было, но которые могли быть у других. А я чувствовал, что их вообще нет. Нет чувства, нет красоты, нет любви, нет самоотвержения… все это выдумки. Что же есть?.. Есть железный скрежет мертвой природы, наполняющий вселенную, от которого идет этот мертвящий душевный холод. А под ним – это… До сих пор я спал и видел во сне свой выдуманный мир. Так иногда мы слушаем во сне чудные стихи, от которых душа пламенеет восторгом, но стоит проснуться, и в памяти остаются только обрывки, без склада и смысла… Вот и я теперь проснулся и вижу, что сочиненная мною поэма была глупее Урманиады наивного поэтика…
– Ну, пойдем на лекцию!









































