Текст книги "Неостающееся время. Совлечение бытия"
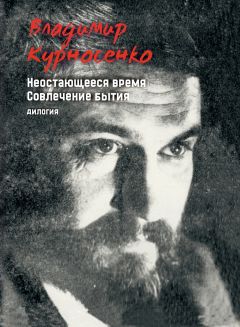
Автор книги: Владимир Курносенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Высота экзистенции
Блюдите, како опасно ходите…
Еф. 5,15

И хотя никто не читал, не слыхивал инно, про пресловутого Огюста Конта, низведшего «экзистенцию» с религиозно-метафизических высот к будничной якобы реальности, в ту пору не было поблизости человека, кто хоть заподозрил, кто намеком на страх и риск свой обмолвился бы об иной, не изведанной, а значит, не такой безысходно-ужасающей сути дела…
Потрудись, паренек, залучи дающее кусок хлеба образование, воеже после-то, залучась, завести намест родите левой собственную семью… даб вырастить опять же детей, которые после, потом, после своего после, заведут, сообразуясь с новым куском, новых и т. д. и т. д.
Как часть, как своеобычные животно-биологические перила, что ли, витавшая эта округ да около идея была, впрочем, не так плоха и отчасти, для женщин, по крайней мере, наверняка справедлива; однако взятая как цель и исчерпывающий смысл существования и безнадежно абсурдна, и иного не находящего ответа индивида могла привести в отчаянье, в ситуацию экзистенциального тупика.
Но и отчаянье, и состояние экзистенциального тупика, если ими дело не кончалось, шли на пользу, ежели индивид не завязал в какой-нито распространенной прелести, а воивпрямь поелику возможно искал, толчился в направлении истины.
«Всякий бо просяй приемлет, и нищай обретает, и толщущему отверзется»[21]21
Мф. 7, 7–8.
[Закрыть].
«Бойся, девушка! – словно прозревая и нынешние интернетские нуждицы, предупреждала благородно-нетерпеливая Марина Цветаева, – родишь читателя газет!»
Но и про нее, порывистую и устремлявшуюся за пределы, в краях наших знали-ведали немногим более чем про безымянно осуществлявшиеся низведения прагматического Огюста.
Геня Дамкин, один из опорных курсовых, не имеющих нужды в покаянии праведников, не был – по Марине-то – «глотателем пустот, читателем газет», он вообще не был ничего читателем, если не считать писанных старательным девичьим почерком шпор на экзаменах, однако призабытый со времен Вавилона сорт «эротической дружбы», певцом которой выступит в восьмидесятые соцрепатриант Милан Кундера, необразованный Геня широко применял в общежитской своей жизни реально и чисто профилактически.
Был он, Геня, из себя тонкокостный, с подбритыми мушкетерскими усиками, был на свой манер даже изящен, не брезглив, не агрессивен, никаким чудесам никогда ни разу не удивился, а физически был не силач, но и не из слабеньких…
Знаменит же был несомненным, щедро отваленным природою дарованием. Под известные всем аккорды дешевенькой семиструнки он негромким тускленьким тенорочком пел бог весть откуда навыявившуюся приказчицкую сентименталь, а ты сидел, слушал и, будучи не в силах избыть закравшееся подозренье, все-таки не уходил, не мог, пока не кончилось, заставить себя. Так-то, вишь, без маломалейшей промашки-фальши, идеально, попадал Геня в ноты, такой уродился музыкальный…
На той же всё картошке он и еще один такой же, постарше и хуже певший, исполнили на концерте худсамодеятельности штуку, сделавшуюся курсовым хитом.
Я был уверен,
Что в это лето
Любовь и счастье
Подсте-ре-гу…
И вот явился
Залитый светом
Чудесный город
На Южном берегу-у-у…
Ялта-а-а…
Где цветет золотой виноград…
Речь, одним словом, о Ялте…
В припеве, что оказался медлительнее и как-то пожиже, горело все-таки солнце, гремели цикады и, целуя гранит, пел прибой.
Счастливую же пару по крутым виражам вниз «провез» невесть откуда взявшийся «комфортабельный ЗИС».
Думаю, вынужденно подъехал, для рифмы.
Но и мелодия – не в вяловатом припеве, а в деловито-энергичном «куплете» больше – была не простая, а с паузами, с подкрутами и прибамбасами и отчего-то моментом, с первого же разу, запомнилась, не отвязывалась.
Однако еще более действовали чары в комнате, в общежитии, когда на дворе хмарь либо настывающий на окошке морозище, под грубоватый портвейн, под сурдинку-то, и не петь, не подпевать даже, а именно слушать, внимать, точно нюхать гриб, не исключено, ядовитый, либо рискованно подплесневелый сыр рокфор, либо бензин, газы из выхлопной трубы, керосин…
Не под силу было определиться с причиной «очарованья», почему, с какой целью это нравилось-то?
Искры камина сверкают рубинами
И улетают с дымком голубым-м-м,
Из мо-ло-до-го, цветущего, ю-ного
Стал я угрюмым, седым и больным-м…
Сам Дамка, исполняя, ни капельки не волновался, в усатенькой полумушкетерской его физиономии, как у ушлого анекдотчика, не шевелилось ни одной лицевой мышцы, а волновался ты, слушатель, волновался каким-то путающим дело макаром, как случается, когда прелесть женщины и твоя тяга к ней претыкаются на противовпе-чатленье от человечьей сути.
Как-то раз я не выдержал, не внял гласу ангела-хранителя и пригласил Дамку домой.
Был чей-то, кажется, одной из сестер, день рождения, а я решил сделать имениннице музыкальный сюрприз-подарок.
Дом был панельный, хрущевский и снаружи, как и у многих тогда, выглядел несерьезно, словно понарошку, но внутри, благодаря любви без меры к нам, детям, родителей, благодаря трудам бишь отца и мамы, доверяющему их терпению, дом был гостеприимен в те годы без ограничений…
На сугубую беду и непростую учебу стоял он как раз супротив мединститутского общежития, разделенный с ним когда-то болотом, а после, когда понавезли и разровняли бульдозерами землю, чем-то вроде сквера со всегда сухими круглыми клумбами, сломанными скамьями и рядками унылых каких-то деревец.
Праздник только начался, корабль едва отвалил от пристани, а я уж заметил течь; я раскаялся и пожалел, что снова, в который раз не придержал своеволия и рискнул за чужой счет.
Не упомню, что такое сказал, употребил не к месту невозмутимый общежитский гость мой, скорее, ничего не сказал и не употребил, а сидел себе, ел, пил, поворачивая не вникающее жующее лицо к говорившему, да спел позже одну-другую из фирменных своих чуд по моей просьбе, но только на фоне бесхитростных сестриц и в ауре не аристократических, но отличающих сокола от цапли тетушек он, Геня, как бы изнутри катастрофически оплотнел, стал самоочевидно грубым, холоднокровным…
Он, Дамка, был, почудилось даже мне, будто нерожденный еще, недорожденный…
Вот тогда-то я и сделал робкий шажочек к предосознанию, как всерьез и принципиальнейше различаются по полету живущие «по плоти» и живущие «по духу»; что человек сам избирает себе высоту своей экзистенции, что и дело не в учебах, профессиях иль душевно-умственном твоем развитии, а в выборе, в сокровенном сердечном желании низости либо высоты; что не всегда следует спешить, стало быть, с душевной подмогой и предъявленьем святынь…
Получив врачебный диплом, он, Дамка, не отправился, как большинство, отрабатывать в район три года, а, словно воплощая в жизнь одну из песенных своих коронок, умел устроиться акушером-гинекологом в курортных черноморско-крымских краях и спустя год разъезжал по горным серпантинам у моря на собственном, приобретенном на «заработанные» деньги «москвиче».
В нем-то, в полуновеньком еще этом авто, он, Геня Дамкин, курсовой наш певец, и разбился насмерть, как рассказали мне много позднее, не вписался на спуске в очередной крутой поворот…
Выслушав сообщение, я припомнил сразу кундеров-скую «Невыносимую легкость бытия», поскольку весть совпала с публикацией романа в «Иностранной литературе» до месяца.
Где-то я говорил уже, что в отличие от мужской половины курса, где конкурс неофициально был одна целая и одна десятая человека на место, у девушек он был куда серьезней, более десяти.
Посему у нас, среди которых добрая треть или четверть была из отмотавших срочную в армии, не диво было наткнуться на банального бандита, таскавшего в штанах финак, на знавшего несколько русских слов красавца-грузина, взявшегося теперь вот и за латынь, на проявившегося к диплому скрытого гея или шизофреника…
Среди них же, девушек, на порядок чаще встречались умницы и те, с лица необщим выраженьем личности, кои столь ценимы были поэтами пушкинской эпохи.
Девушка, чье имя, к сожалению, так и осталось тайной для меня, возрастом на годок-два старше нас, послешкольных, была из тех, кто всей душою верует, что в медицине можно действительно помочь человеку, что у нее, самой-то, девушки, призвание, и поступают потом еще и еще, а впустую-вхолостую «пропавшие годы» смиряют себя где-нибудь в санитарках, в мойщицах лаборантских пробирок нехорошо пахнущих бактериологических лабораторий…
Она, впрочем, была миловидна, из «полуневидимок», с ясными и приветливыми косульими глазами, со светлопалевыми, может, и подкрашенными куделечками вокруг овального, чуть не боттичеллиевского личика…
Выраженье же это, необщее, без труда воспроизводимое моей памятью, определилось к четвертому курсу, когда на кафедре факультетской терапии мы, группой, пришли знакомиться с отделением гематологии облбольницы.
Знакомая и сразу узнанная девушка эта, наша сокурсница, нежданно-негаданно обнаружилась по ту сторону разделительной черты – в серохалатных, голоногих пациентках одной из гематологических палат.
Болезнь ее, как ни звучало это неправдоподобно и безобразно, называлась болезнью Ходжкина, злокачественно текущий лимфогранулематоз.
До Чернобыля, до взрыва четвертого реактора в восемьдесят пятом, в пятьдесят шестом был еще один – взрыв радиоактивных отходов в нашей яминской области, беда коего состояла не столь в прямых ущербах и косвенных последствиях в радиусе сотен кэмэ, сколько в туповато-подловатой огюсто-контовской этой манере скрытничать тогдашне-всегдашнего «руководства», в имитации с его стороны некоего тайноведенья, в экзистенциальной низости, как понимаю я теперь…
К дню, о котором речь, от взрыва пятьдесят шестого минуло более дюжины годов, а в гематологию все поступали и поступали больные, про которых невозможно было сказать уверенно – связано это с ним или не связано; или, может быть, это само по себе, от чего-то другого…
Впоследствии, шаг вперед – два назад, постепенно, я догадаюсь, что враг человеку все-таки не плохой начальник, не другой, как с горя уверили себя честные экзистенциалисты, не сам даже человек, а те ядовито-лукавые упрощающие идеи, что, раз пробравшись в ослабевшее сердце, делают его глупым, злым и несчастным.
Что освобождение от эгоизма, декларируемое строем, в эпицентральной яме которого довелось нам родиться с этой девушкой, несет в себе злокачественный смысл, ежели достигается уничтожением личности (Бога).
Немолодая деловито-серьезная женщина, ассистент кафедры факультетской терапии, негромко разъясняла нам, показывая подсобляющие «лечебному процессу» помещенья («А тут у нас…») – шкафы, холодильные камеры для крови и кровозаменителей… заводила в одну, другую палаты, а мы в мятых, не совсем чистых студенческих халатах дисциплинированно кивали в знак усвоения.
И уже оторопев от нежданной встречи, очутившись в ее, этой девушки, палате, мы всё так же продолжали кивать, а она, наша кость от кости сокурсница, в сером суконном и мохнатеньком от частых стирок халате, стояла у спинки кровати и с невиданной мною ни у кого мощью спокойствия, без упрека, зависти и надежды на чью-либо помощь смотрела на нас.
Принимая, а после и провожая ясными, не сморгнувшими глазами до двери…
Никто не подошел, не посмел ни приблизиться, ни выказать знакомства – от смущенья, от чудовищной фантастичности ситуации…
Еще вчера, месяц, ну, может быть, два назад, она была «мы», наша и из нас, заскакивала в библиотеку, за пирожками в буфет, сидела на лекциях и практических, строила планы, предавалась мечтаниям, полагая им в доверчивой простоте безмерные протяжением сроки… И вот она тут, в этой палате, и что-либо «воплощать», печься и озабочиваться нету боле ни желания, ни нужды…
В кровяном ростке, в сокрытых ячеистых и тайных недрах костного ее мозга, сорвавшись с цепи и ритма, нарождались и множились без удержу новые и новые разучившиеся становлению клетки, вытесняя собой те зрелые, без которых нельзя, невозможно жить и дышать.
При одном дозволенном приличьем взгляде на подплывшее, изжелта-бледное одухотворенное лицо, на распрямившиеся потускнелые куделечки делалось ясно, как далеко, как безвозвратно-недосягаемо ушла она по горней тропе.
Сосуд скудельный треснул, предназначился распаду, но содержимое его, душа, лучше-сокровенная суть этой девушки, высвобождаясь, просверкивала в обнаженной нечаянно своей красе.
«Блаженны мертвые, – прочту я, когда придут сроки чтению, – умирающие в Господе…»[22]22
Откр. 14, 13.
[Закрыть].
Но и оставляя страшную палату, тем помраченно-несведущим нутром моим я угадал и учуял, что изможденная девушка с белильными от руки номерами на великоватых ей тапках скоро умрет средь всей этой научно-деловитой прохладности, но что она-то, только она одна и увидела невесть откуда и почему нечто такое, что еще будет или уже не будет известно мне…
Что как бы ни велики, ни ужасны скорбь ее и боль, именно-то за ними, чрез них и сквозь них мерцает сюда освобождающая душу истина, которая высока и прекрасна.
«… и познайте истину, и истина сделает вас свободными…»[23]23
Ин. 8,32.
[Закрыть].
Я пришел отпустить измученных на свободу.
Господи! Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?
В этом прекрасном и яростном мире[24]24
Андрей Платонов.
[Закрыть], как известно, всё похоже на всё.
Эритроциты на людей. Солнце на атомное ядро. Планеты вокруг солнца на электроны, а планетарноэлектронные орбиты на уровни близящей к Духу Божьему экзистенции…
«Потому не могли они веровать, что народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумевают сердцем…»[25]25
Ис. 6, 10.
[Закрыть].
Ибо в перекрестье времени, вертикали его и горизонтали, где в непокое хитрости или отваги и делается выбор из не выжить и не быть, мы выбрали все-таки выжить.
Несбывшийся, несостоявшийся царь наш, наш прекрасный царевич (сакральная заклепа на духовном теле страны), деловито и прагматически расстрелянный в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, носил в нежных мальчуковых жилах своих кровь, лишенную способности свертыванья…
В гордыне неведенья пущенная тогда, в восемнадцатом, она струилась и капала еще годы, десятилетия, поколе не иссякла наконец, истощив до «правовых», огюсто-контовских бишь, сусек всё накопившееся в нашем духе со дней Крещения.
Мы, пришедшие якобы на смену, ничего уже не можем сделать и поменять, поелику утратили сноровку к становлению, к созреванию души в дух.
Мы уже никогда, по-видимому, не сумеем отличать золотое от желтого.
Необходимое торжество справедливости
Раскрытие тайн перестановок и мелких свойств нашей души подобно месиву опилок…
Д. Хармс

Общежитье на Шота Руставели многим известно.
И писали, и подробно рассказывали про него во всякого рода воспоминаньях, в интервью.
Кто – про легендарного поэта-самородка, певшего романс на слова Козлова в комнате на третьем, кто – про подпевавшего ему прославленного ныне выдающегося драматурга…
Из уст в уста передавали случай с другим взалкавшим пиитом, грохнувшимся с шестого этажа в обнимку с водосточной трубой во внутренний общежитский дворик.
Место это, что и говорить, трудное, злачное и непростое в самых разных, вплоть до сакрального, смыслах и значениях…
«…где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил…»[26]26
А.С. Пушкин.
[Закрыть].
Вдобавок у всякого, кто пожил тут хоть одно только абитуриентское лето, оно свое.
Для меня ж навечный знак, эмблема и неразгаданный до конца символ его – две неспешно спускающиеся сверху, с аспирантских этажей фигуры, два зыбящихся в сутемках лестницы фантастических силуэта, которые довелось мне увидеть из просторного, всегда почти людного общежитского вестибюля.
Супружеская либо любовная пара, коричнево-черные кучерявые эфиопы, оба высоко-тоненькие, стройные и безупречно – в терцию – вторящие один другому в гармонически взятом аккорде, напоминающие разом и Пушкина, и каких-то точно залетевших сюда взаправду заморских птиц…
Она, тонколицая глазастая красавица, застенчиво ступала колеблющимся шагом впереди, а он, в длиннополо-светлом, роскошно-дорогом эдаком пальто, расстегнутом «по погоде», все-таки, по-видимому, страхуя и «прикрывая позиции», взлетающей нерусской походкой шел в арьергарде.
Две маслянисто-темные в час прилива волны, два в синхрон изогнутых сосновых деревца с японской гравюры…
И более, «глубже раня», поражала конечно же она, женщина. От легконогой мучительной красоты ее сжималось, замирая, сердце, а охмелевше-дурная думка, думка дурака, летела куда-то к Аиде, что ли, к Радамесу… к непостижимой уму пра-пра-прабабушке главного национального гения, отделившей из хромосомного своего набора русской литературе ее самый пленительный и грациозный ген.
Кесарю кесарево, а общежитию общежитьево, но в те-то наши семидесятые на Руставели легко попадались и не похожие друг на друга чуда…
Там встречал и сапожника ты, и портного, и отдаленно полупобочного какого-то графа Льва Николаевича, поэтессу-ткачиху встречал, скорбящую стихами по причине бездетности, остервенившуюся, да и не одну, бабу-бабариху с сигаретой дымящейся и в джинсах в обтяг, а пригожему парубку из западных темноволосых славян являлся («Ну вот, – говорили наши, – началось…») блистающий ангел, обличьем – один в один копия самого этого… славянина.
С похмелия отвертывал ты в туалете кран над раковиной, ждал по необходимости, чтобы прошла теплая и с хлоркой, а потом, склонившись и перекосив иссохший рот, глотал все равно теплую и безвкусную, а от окна-подоконника по нездоровью незамеченный тобой грузин Голубев говорил чей-то анонимно-назидающий стих:
И это-то – сентенция в ситуации – и было собственно то, из чего могла б завязаться литература, увы, никак не завязывавшаяся и не ходившая косяком по пустоватым руставелиевским коридорам…
Как в любой рабочей альбо студенческой общаге, где никакой воде не утолить жажды всех и каждого, на Руставели, на Шота, случались столкновения, иной раз и драки, хотя преобладающий тон был дружественный, пьяновато-лживый, подлещивающий… в тотальных осенью и спорадических весною внутрикомнатных застольях… со стихами, здравицами («За проникновеннейшего… третьей четверти двадца… лирика… за…»), до дрожи душевной обрыдшим заемом-перезаемом «чириков», с долгосрочным без меры удерживаньем ладони в тепло-влажном рукопожатии, с заменой, наконец, аморфно подталкивающего «Ты меня уважаешь?» на направленное конкретно к цели «А ты меня читал?»…
Случалось, где-нибудь в торце-закутке второго этажа голый по пояс богатур начинал крутить обитые железом нунчаки, точно б понарошку или всерьез напоминая тем, кому следовало, о где-то еще реющих мощнокрылых беркутах, о тимпаническом баритоне Олжаса Сулейменова, о странно прекрасной этой монгольской мудрости: «Счастье мужчины в степи!..»
И, казалось, ветерок, который гнали нунчаки, суховейный и обезбоживающий, струился тогда к лестнице, переползал на третий и выше, где жили очники, и еще выше – аспиранты…
У нас на курсе ближе всех к молодецко-бойцовской стороне этой мужского существования был отмотавший срок по хулиганке Вовка Жохин, полунепутевый отпрыск провинциального начальника, на придачу еще бывший десантник, хоть слева, хоть справа легко ломавший челюсть в зоне ее угла, а теперь скромный студент-заочник и честный работяга-экскаваторщик, пробующий себя в прозе…
Про тюрьму-колонию он проборматывал a propos, что-де «бугром сел, бугром вышел», про характер объяснял дамам, что «работает царем», ну а в прозе у него глаза синеоких и павших ратников прорастали из земли голубыми васильками…
За водкою он не ходил, а посылал, и деньги у него отчего-то всегда были. Водились.
«Проходи, – широко отворял дверь в темноватую свою комнату, аффектируя гостеприимство, – я послал тут… Вот, на пока, выпей, пока то да это…»
И грубоватым, с хрипотцою, но приятным полубасом не без артистизма и даже иронически запевал:
«Я тебя по кабакам искал…»
Героиней была женщина, которую называли в песне «заразой», поскольку удивительной красотой и свободолюбивым поведеньем она причиняла герою-автору страдания.
Как по меньшей мере половина хвативших мурцовки блатарей, в душе Вовка вынашивал мечту о легальной добыче материальных благ, об уважении окружающих, о не-марухе-бабе, о достатке и респектабельности, и когда вскоре после выпуска подоспела меняющая булат на злато «перестройка», а он, Жоха, женился как раз на кандидате экономических наук, ограненный семинарскими обсужденьями и кое-какими знаньицами талант его органически подоспел к ее («перестройки») зовам и потребностям.
Мадам Жохина вылистывала в зарубежных экономических журналах новаторские идеи на английском языке, а Вовка оформлял их в хватавший за душу текст, ажник порой до катарсиса хватавший, до Аристотелева необходимого «снятия».
И как бы ни было, «публицистические статьи» эти с охотой брали возникавшие еженедельники и газеты, и Жохин с женою и народившеюся маленькой дочкой зажили в леготку, без пяти минут воивпрямь респектабельно.
Но все это образовалось и пообделалось позже, потом.
К концу же семидесятых, поосвоившись и смараковав ко второму-третьему курсу, что и как, Володя приотпустил возжу, дал себе послабление.
«Не будите во мне зэковские инстинкты!» – просил уж он кого-то по пьяни, сам зачуяв вонький чад прежнего мрачащего душу амплуа.
Сроки сессий совпадали через курс, первый – третий, второй – четвертый… и он, Жоха, когда были на втором, скорешился с одним таким четверокурсником камэ-эсом, чемпионом не то Чувашии, не то Мордовии по боксу во втором среднем весе.
Что это такое – кандидат в мастера спорта во втором среднем, какой у него удар и что может он сотворить с неоснащенным спецнавыками человеком, ведомо лишь тому, кто сам когда-нибудь выходил на ринг. Даже уркаган наш Жоха, понаставивший бланшей доброй полудюжине живавших на Руставели сокурсников, с его этой шконкой позади, десантничеством и чудовищной от природы мышечной силой, гляделся рядом лопоухим новобранцем…
К тому ж это был не просто камээс, а это был камээс, пораженный недугом гордыни.
Священник Александр Ельчанинов уделяет гордыне как особенному и страшному феномену отдельное размышление.
Пораженный ею, полагает он, пережил, как правило, какое-то горе, чувство болезненной разочарованности или, как сказали бы нынешние психотерапевты, фрустрации…
Он страстно желал, например, стать чемпионом мира или, как минимум, чемпионом Европы, страны… он, не щадя себя, не считаясь с затратами, бежал наслаждений, бегал кроссы, менял тренеров, косил по-черному от армии, а сумел сделаться чемпионом Чувашии лишь.
И ежели сорвалось, ежели в разгорячившемся сердце всполохнулись обида и боль, душе случается воспалиться и помутнеть, в нее легче проникнуть ресентиментным[28]28
Зависть, ревность и злоба у Ницше.
[Закрыть] чувствам, и больная, темная, чувствительная и раздраженная, она полегоньку, как чужой дом наглеющий дальний родственник, переоформляет центр мироздания на себя.
«Состояние души, – пишет о. Александр, – мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувстве полной безопасности, в то время как черные крылья мчат человека к гибели…»
Парадокс же и ирония вещей в том, что при бьющих в глаз белых нитках несоответствий любимейшая игра гордыни – «борьба за справедливость», в озаботу о Родине и благе ближнего, о судьбе человечества, игра в такие озаботу и чувства, что и, как говорит Гоголь, не видано-то было на белом свете таких, что не под силу другим…
……………………………………………………..
Пред началом неназываемой, а всегда точно нечаянной акции в комнате у камээса принимали на грудь водочки, будто б невзначай в неспешной беседе вспоминали по этажам разного оттенка зазнавал в неспешной беседе и, это уж для завода, для адреналина в кровь, поставив локти на столешницу, боролись, выясняли в очередной раз отношения на руках, в армреслинге, и, если побеждал Вовка, он запевал на радостях «Заразу», а из-за стен на голос подходил еще кто-нибудь, чаще всего первокурсник – башкирин, ошивавшийся там у земляков…
Ему, башкирину, учившемуся на дневном, по затянувшемуся его отрочеству, все эти запорожски-мушкетерские «заедания» в степи представлялись удалью и молодечеством.
В просторном холле, где за огородкой по центру восседала фильтрующая своих и чужих старуха-консьержка, кодлочка наша – Жоха, камээс и башкирин – покуривала в уголочке у подоконника и под предлогом двушки, монетки для телефона-автомата, висевшего тут же, на стене, наискивала очередную жертву для выявляющего богатырство конфликта… Зверь, что называется, вышел на тропу.
Отчасти, конечно, беседовали, перебрасывались словцом о незадавшейся который день погоде в Москве, о недоделанной башкирином «контрохе» по языкознанью, о чьей-то излишне нарядной гостье, продефилировавшей мимо «незаметившей» вахтерши, изредка всё же вполушепт матерясь для непотуханья настроя…
И как иной раз должно быть, как порой и случается на самом деле, жертва «выбежала» на своего ловца.
Из лифта вышли – она впереди, а он сзади – вышли и шли, выкатывались с торжественностью темно-блескучих волн черноморского прилива «он» и «она», эфиопские наши литинститутские аспиранты, оба в незастегнутых – у нее снежно-белое, а у него беж – длиннополых, чистенько-новеньких пальто, и, обойдя с тыла трон консьержки, направились к выходу.
– Ух ты-ы-ы! – вырвалось сразу же по открытии лифта у башкирина горловым восхищенным клекотом. – О-е-е-е-е-е-ей! – Он был очарован и сражен заморскою красой темнолицей прекрасной дамы.
– Мечта жизни, – загудел, откашливаясь и сплевывая в ящичек-урну под телефоном, иронически басящим хрипом Жохин, – это переспать с негритянкой, ешкин кот! – В обществе камээса он как-то ощутимо глупел, отчуждаясь от всех уже существовавших заделов личности. – Сукой буду! Западло!
Камээс же оттолкнулся ягодицами от подоконника и без слов, неслышно-кошачей этой походкою двинулся навстречу судьбе.
Мутновато-непереносимыми своими зенками (глаза обмороженного окуня, по народному определенью), не отрываясь и не мигая, чемпион Чувашии шел и смотрел в упор на приближавшуюся несравненную красоту.
Эфиопы остановились. Мужчина следил за надвигающейся угрозой, взгляд косульих глаз женщины обмирающе стекленел…
Нарочито игнорируя кавалера, камээс, якобы с просьбою о монетке, вытягивал ладонью вверх руку, и как только его пальцы перешли барьер «личного пространства» девушки, парень-эфиоп двинул камээсу в челюсть.
Это был правый нижне-боковой джеб – полусогнутой в полузамахе – черный высверк мгновенной молнии! – зигзаг и отблеск которой лучше, чем у прочих, отпечатался в сетчатке первокурсника-башкирина.
В немотствующей сторожкой тишине холла слышно было, как чакнула пораженная камээсова челюсть: удар карающей каменной десницы… Челюсть чакнула, ноги, переступив с разгону шажок-два, макаронно завились одна за другую, и столь только что могуче-страшный, непобедимый на Руставели чемпион блямкнулся на грязноватый пол между конторкой и выходною дверью.
Чистейший вышел нокаут.
Когда в сече ратник получал бывало палицей по шелому, он на какой-то краткий срок делался ошеломлен.
Вот так же ошеломленные, разинувши в восхищении рты, восхищенные впоперек собственных ума и воли, Жохин с башкирином стояли среди прочих свидетелей инцидента, и им было жутко.
Это был еще не персонифицированный, но уже бездонный, бесконечный срам, стыдобища, и, наверное, от сией-то точки во времени и запетляла решительней к «позитиву» линия сложной жохинской судьбы.
Сам же нокаутер, высоконько-тоненький черный эфиоп, взял прекрасную свою даму под локоток и, обведя по дуге распростертое тело, вывел с поля недолгой битвы…
У выхода, у двери, он, пропустив ее по обыкновению, оглянулся: а нет ли-де еще какой нужды в его участии? – и, убедившись, что нет, вышел следом на освеженную недавним дождем улицу Руставели.
На весеннюю и все последующие сессии камээс не приехал.
Скорее всего, его попросту отчислили за академическую неуспеваемость, как когда-то Евг. Евтушенко, ну, а быть может, и сама камээсовская муза покинула его навсегда.
Однако наше групповое общежитское сознание решило, что не приезжал он не поэтому.
Оно порешило, что это в кои-то веки редкий, а еще реже зримый воочию, замеченный «всеми» раз, когда восторжествовала справедливость.
Что это-де заглянуло и недолго, краткую временную долю побывало с нами очевидное и столь всем нам необходимое ее торжество.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































