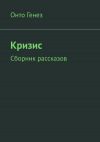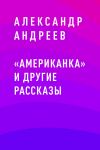Читать книгу "Ассоциация содействия вращению Земли. Сборник рассказов"

Автор книги: Владимир Липилин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ассоциация содействия вращению Земли
Сборник рассказов
Владимир Липилин
© Владимир Липилин, 2017
ISBN 978-5-4474-7511-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Край Земли
Александру Шереметьеву
Той осенью много было тепла в груди. То ли от коньяка, который пили мы в тупике. То ли оттого, что проносились мимо этого тупика поезда, а в них – люди. И так хотелось любить их, думать обо всех нежно. Потому что вот осень такая нарядная, поют в рябинах дрозды, и потому что все мы когда-нибудь умрем.
Той осенью я дурачился. Брал с собою утром будильник, заводил его минут на пятнадцать вперед. Затем входил в трамвай, и присаживался рядом с какой-нибудь девушкой.
Будильник мой был массивный, ещё тот, советский, с колокольчиком наверху. И звонил он – мёртвого можно было поднять. Я вытаскивал его из кармана, хмыкал и спрашивал у девушки:
– Чёрт, а сколько на ваших?
Она отвечала. Я подводил стрелки и говорил:
– Ну и как мне теперь жить без вас!?
Когда я сказал это тебе, ты пожала плечами и ответила:
– Мы можем никогда не расставаться.
Луч солнца, разведённый красками осенней листвы, золотил две озорные твои косы.
И что это был за день! Какое сумасшедше-синее небо висело над городом, и как на фоне этого неба били по глазам костры кленов!
Мы сидели в кафе на набережной, и я все время выспрашивал у тебя что-то. А ты, глядя на Волгу и подставляя лицо ветру, не интересовалась у меня ничем. Казалось, разговор со мной вовсе был не нужен тебе. Но отчего тогда не уходила ты, сославшись на какие-нибудь дела? Отчего беспрерывно пила кофе и, будто на дежурном интервью, отвечала на мои вопросы? Я знал, что у такой, как ты, должно быть много воздыхателей. Денежных, справных, как породистые жеребцы. Этаких хозяев жизни. Но зачем целый день сидела ты со мной? Может, убивала какую-то обиду?
В огромное красное солнце летела чайка. Я думал, что вот вечер, сейчас ты встанешь, скажешь чего-нибудь и уйдешь. Но так хотелось удержать тебя. Какой-нибудь нелепостью, глупостью. И уже злясь, что ничего из этого не выйдет, сказал:
– А поехали в одну деревню. Там есть дом с печкой, а из окна видно, как солнце заходит в поля.
Я знал наверняка, что ты откажешься. Но ты как будто играла в неведомую мне игру и грустно улыбнулась:
– О кей.
Мы заехали ко мне, захватили рюкзак, позакрывали форточки. А потом, купив еды, отправились на вокзал.
Фонари были как будто в дыму. Запах листьев и вокзальных пирожков витал всюду. Мы глядели на уходившие поезда с моста и курили.
– Когда-то я думала, что у каждого человека на этой земле есть его собственная любовь. Которая ищет его с рождения, – сказала ты, разглядывая в полутьме свои красивые ногти. – Но мир все-таки страшно велик, и искать друг друга эти сердца могут всю жизнь. Очень похожа на это и какая-то своя, никому не понятная жизнь поездов. Они часто ходят навстречу друг другу. И кричат, кричат, как журавли. Но как только встречаются, проносятся мимо – тотчас же понимают – не то, опять не то. И снова идут куда-то, ищут чего-то.
Уже и гасли огни в домах, мимо которых мы ехали, и синим светились окна, где смотрели телевизор. А в поезде пахло уютом и жаром несло от чайника, который возле купе проводниц визжал тоненько, как монашенка.
Я сидел на нижней полке и смотрел на тебя. Ты сняла тёмные очки, щелкнула дужками и протерла, как ребенок, кулачками глаза. И так мне захотелось поцеловать их, сгрести тебя в охапку.
– Давай спать, – сказала ты.
Я допил свой чай. Стал разглядывать гравюру города Смоленска на подстаканнике. Внизу мягко погрохатывали колёса.
– Давай спать, – сказала ты, и сняла через голову свитер.
Я обомлел. Под вязаным белым одеянием у тебя ничего не было. И поэтому колыхнулись наполненные, готовые вот-вот расплескаться, груди. Затем ты освободила ноги от джинсов и залезла под одеяло.
Я бродил всю ночь. Выходил за чаем, а потом сидел и смотрел на проносившиеся фонарями и одиноко горевшими окошками деревни. И так хотелось запомнить все это, куда-то записать. И было страшно от мысли, что можешь заснуть, а утром встанешь – и не будет уже тех ощущений, тех нот в груди. Никогда. Не о таком ли состоянии сказал когда-то Пушкин: «Вся жизнь – одна ли, две ли ночи?»
Утром (было ещё запотевшим окно) я тихо разбудил тебя. Ты что-то спросила ленивым, ещё не набравшим холодной отстраненности, голосом. Быстро, как солдат, надела свитер, и пошла умываться.
Затем была станция. Наш поезд толкнулся и застыл у бабулек с яблоками. Мы миновали длинные, точно склады, деревянные ангары, прошли висячим мостом через речку и вышли к осеннему пустому полю. Было ещё темно и гулко. Со станции долго доносился до нас голос женщины, объявляющей поезда.
Ты куталась в воротник своей розовой куртки и прятала руки в рукава. У высветленного стынью горизонта игрались-миловались черные вОроны.
А потом мы порвали в углах паутину, затопили печь, и я принес из колодца воды.
Сколько было счастья в тот день! Шипели дрова в печке, постепенно теплом наполнялась изба и кипела, бурлила за шестком, варившаяся шурпа.
Мы пили чай в облетевшем саду. И казалось: я чувствую, как крутится, летит куда-то Земля. С этой осенью, безлюдной этой деревней и нами, прихлёбывающими из блюдцев с твердым, еще оставшимся от бабки сахаром, чай.
Весь день ты вытаскивала из шифоньера старые вещи. Крутилась возле тронутого трещинами трюмо. Примеряла цветастые девичьи, бог весть как угодившие в тот гардероб, сарафаны, пальто с капюшоном.
Особенно хороша была ты в этом пальто, когда надевала его ночью на голое тело, и выходила на крыльцо покурить. Курить можно было и дома, но ты всё равно выходила. А потом как будто что-то передумав, свалив какой-то неведомый груз с плеч, приносила в дом запах стыни и близкого снега. Скидывала с себя одеяние и жалась ко мне, льнула губами.
Ты почти не говорила со мной, а только кричала, как птица подстреленная, билась в ладонях. Я представлял почему-то сверху наш дом, эти крики, а дальше – тишина на много безмолвных верст.
Мы ставили в патефон пластинки Леонардо Коэна. Я одевался и выходил на воздух. Последние листья осин угрюмо трепетали в саду. И стояли в небе звезды, крупные, увесистые, сырые. И так мне хотелось нарвать их, как яблок, принести за пазухой тебе ещё сонной, сидящей на кровати голышом, и высыпать к теплым коленям.
На другой день запуржило, завьюжило. И вместе с тревожной радостью от первого снега, нанесло в сердце какой-то неизбывной тоски. Откуда она приходит? От чего?
Я отомкнул огромным, как в сказке про Буратино, ключом дверь в амбар.
Нашел там:
– старую керосиновую лампу;
– радиоприёмник «Вега»;
– банку вишнёвого варенья;
– валенки;
– прялку;
– обитые оленьей шкурой охотничьи лыжи;
– самодельные деревянные санки.
Мы могли бы кататься с тобой на этих санках с горы возле леса, ты могла бы смеяться и захлебываться ветром от бешеной скорости. Но ты сидела дома и смотрела в окно.
А вечером, будто вспомнив что-то, вдруг засобиралась. Я уговаривал тебя остаться. Хотя бы до утра. Но ты была упряма. Сказала, что хочешь уехать одна, без меня. Так будет лучше.
– Для кого – лучше?
– Для всех, – сказала ты, надевая откуда-то взявшийся бюстгальтер. Оказывается, он лежал в твоей сумочке.
– А как же это «мы можем никогда не расставаться»?
– Я тебе всё объясню. Но – потом, – сказала ты. – Позвони, – в моём кулаке оказался зажатый листок блокнота.
И снова шли мы заснеженными уже полями, стонал в телеграфных проводах ветер. А в тревожном, с лохмотьями облаков, небе, подхваченные этим ветром, все также игрались-миловались вОроны.
Ты уехала электричкой, вложив в тот последний поцелуй, что-то такое, от чего как от неожиданного левого хука потемнело в глазах. Затем, прислонив ладонь к стеклу, долго глядела на меня и уезжала, уезжала, уезжала.
Домой я попал кромешной ночью. Выпил оставшиеся полбутылки водки. Не раздеваясь, рухнул на кровать и уснул.
Утром, затапливая печь, нащупал в кармане твою бумажку. Развернул её и бросил в огонь. Твоего телефона там не было. Были цифры: 1,2,3,4,5.
– Раз – два – три – четыре– пять, вышел зайчик погулять… – произнёс я вслух.
А потом держал в ладони порвавшуюся твою цепочку с крестиком и плакал. Зачем? Почему?
Что было такого между нами, от чего теперь так скручивало в узел горло?
Что было такого в твоих поцелуях, от которых до сих пор у меня, как от волчьих ягод, кружится голова?
Три дня ещё я был в этой деревне. Валялся в кровати. Топил печь. Как чумной слушал Леонардо Коэна.
Но каждый вечер, когда солнце заходило в снега, я брал лыжи, сработанные каким-то волчатником и ехал. Ехал в этот закат красный, а навстречу – огненными хвостами несло поземь. Казалось, все вокруг дымится уймой вулканов. И что там, куда зашло недавно солнце, а тремя днями раньше исчезла ты – там край Земли. А я туда еду. За каким чертом? Не знаю.
Кит свежий, морской
Деньги ещё какие-то были, но билетов на самолёт не имелось вовсе. Поездом из Анадыря не доедешь, поэтому мы с местным режиссёром массовых действий Славой, как могли, пережидали время. Два раза посещали некие мутные спектакли, ходили в краеведческий музей, а потом принялись за интерактивную игру, придуманную здешними полярниками, надо полагать, тоже не от разухабистого веселья. Называется действо «белый медведь». Штука, в общем, незатейливая. В большую пол-литровую кружку всклень наливается пиво, затем отпивается, а образовавшееся пространство дополняется водкой. И так до тех пор, пока напиток в кружке не станет прозрачным. Это – «белый медведь» приходит. Уходит он, а с ним и все печали, думы окоянные, строго наоборот. На второй день таких испытаний Слава сказал:
– А поехали на Уэлен.
– Для чего?
– Там край земли. – И вообще…
Я оглядел скопление порожней тары на полу, где для прохода оставалась лишь узенькая тропка:
– И так уже, -говорю, – дальше некуда.
Но Слава был настырен:
– Киты там щас, в проливе товарища Беринга, любовь крутят. А чукчи их бьют. Понимаешь? Драма!
Утро на Чукотке пахнет мёрзлым бельём, внесенным в помещение с улицы. Мы – русским духом.
Нам везет. Погода благоволит, полный штиль. И вертолет не надо ждать в левом крыле аэропорта неделями. Летим. Небо, как море и можно долго глядеть, как тень МИ восьмого пересекает балки, лощины. Выбирается в тундру. Внизу – пустота на сотни вёрст, ни зверька, ни человечка, только текут в разных направлениях долгие ручьи неких сиреневых цветов.
Слава спрыгивает с подножки, встаёт на карачки и картинно целует землю. Отплевывает крупинки, хрипло произносит, оглядывая простор:
– Дааа…. Дальше только Америка.
Поселок Уэлен ютится на самом крайнем северо-востоке родины, на мысе Дежнева. Около 12 тысяч километров от Москвы, 86 километров до США. Уэлен – адаптированное русскими с чукотского «Увэлен» – «чёрная земля». Название насёленному пункту чукчи дали за торчащие на ближайшей сопке кромешные бугры, которые видны в любое время года и служили с приснопамятных времен путникам ориентиром.
Указующий перст, галечная коса, шириной в двести метров, как индейская пирога разрезает два океана – Северный Ледовитый и Тихий. Тут особенно очевидна усердная борьба двух стихий: воды и суши. Гигантская земная плита Чукотского полуострова медленно наползает на Аляску, вот-вот нахлобучит. Там, в глубинах постоянно происходят тектонические разломы, которые наглядно иллюстрируют всю хрупкость, неуравновешенность бытия в этой части земного шара. Здесь, скованные морозом в огромные неподвижные поля, льды вдруг начинают наползать друг на друга, крошиться, обнажая трехметровую толщину. То отступают куда-то далеко, оставляя огромные разводья, то опять. Вечное это движение в 80-километровой горловине Берингова пролива делает его чрезвычайно опасным и зимой, и летом. Но и тут люди живут. И давно. Изучая захоронения уэленского могильника, древние стоянки на побережье, учёные определили, что обитаемыми эти места являются около трёх тысяч лет.
…Отчётливо теплый июнь. Бродят айсберги. Когда они наползают друг на дружку, получается жалобный скрежет, как если бы железнодорожный состав на медленной скорости преодолевал крутой поворот.
Мы идём разыскивать славиного знакомого старика Элле. Во дворе двухэтажного барака изборожденный канавками морщин эскимос чинит сеть. Развесив её между качелями и детской горкой, сработанной на манер ракеты «Союз». В нехитрых огородах вросшие в землю железнодорожные контейнеры – подарок Абрамовича жителям Чукотки. Контейнеры выдали людям давно. А вместе с ними и надежду плюнуть на всё и уехать когда-нибудь на материк, на Большую Землю. Но проходит год, другой, третий, никто чего-то не едет. Дотащить его до железных дорог – стоит немеряных денег и нечеловеческих усилий. Да и как сорваться, где и кто кого ждёт? Ещё одним памятником экс-губернатору служат здесь нарядные канадские коттеджи. У Акима Элле такой вот коттедж, но он в нём не живет. Там обитают ездовые собаки. Сам Аким ютится в обустроенном строительном вагончике.
Когда мы являемся, старик в падающем из крохотного оконца свете мастерит из моржовой кости какого-то бога. Маленьким перочинным ножом он придаёт ему человеческие черты.
– Угадай, кто к тебе? – лыбится Слава, распахнув дверь.
– Со скольки раз? – лукаво щурится от обилия света старик.
И тут же, узнав Славу, колготится, ставит на буржуйку сплющенное туловище чайника.
– Чай– чай, выручай, – говорит Слава.
Подвинув бога на край стола, в шеренгу таких же уже готовых фигурок, мы выкладываем на стол из рюкзаков гостинцы: макароны, спички, водку.
Гоняем чаи, режиссер интересуется:
– Куда ты этих богов-то строгаешь?
– Так это… в Штаты, – говорит дед. – Тут одна художница из Анкориджа приезжала, всех до одного забрала, слышь. Кучу долларов заплатила. Вот столько, – старик сделал небольшой зазор между пальцами. – Закопал в банке.
Некогда изделия уэленских гравёров и косторезов гремели по всему миру. До недавнего времени была целая мастерская именитых художников. Косторезы Вуквол, Хухутан, Тукукай, граверы Елена Янка, Мая. Теперь всё больше работают на дому. Но изделия сбываются плохо.
Старик же Элле ни дня не работал по трудовой книжке. Сначала пас оленей, добывал нерпу. Затем съездил к шаману, и тот благословил его на то, чтоб богов вырезать. Творения Элле из кости с криками «браво» и даже «ура» приобретались музеями Москвы, Петербурга, Таллина, Дрездена и Рима. Хотя ни в одном из этих городов Аким не был. Его боги были, говорят, в коллекции Брежнева, Ельцина, Ростроповича. Впрочем, и этих людей он никогда в глаза не видел. Когда-то на Уэлен приезжали целые делегации туристов, учёных, музейщиков. Они приобретали продукцию туземцев, какой не было нигде в мире. Аким вырезал животных, сценки охоты, а главное, богов – из клыков, черепа и детородного органа моржа.
Затем туристы и ученые с Запада ездить перестали. Боги любви, достатка, семейного благополучия стали кочевать через пролив на Аляску и дальше в Америку. Говорят, американцы выручают за эти резные кости целые состояния. Но Акиму это до лампочки. Ему-то всего и нужно денег – на покупку новых собак.
Боги Элле иногда охотятся, иногда хулиганят, иногда просто сидят задумчиво.
– Откуда сюжеты? – спрашиваю.
– Так это, слышь. Хожу с ружьецом на птичьи базары, в океан хожу на нерпу, а потом вот еще, – он шарит в углу под прелыми сетями и выуживает оттуда бутыль.
– Кыхтым, – гладит ей бок.
– Кыхтым – это..?
– Настойка из трав и сухих мухоморов. Её больше глотка нельзя. Умрешь, может.
– Вштыривает? – хохочет Слава.
– Боги приходят, – коротко отвечает Аким. – Налить?
– Не, – машу руками.
– Тогда уж и я не буду, – вздыхает Слава.
Вечером идем к участковому отмечаться. Рядом граница, до Аляски восемьдесят шесть километров. По дороге встречаем мужиков с ружьями наперевес.
– Куда это они, на ночь глядя? – интересуюсь у Акима
– Зарплата, однако, – буднично отвечает старик.
– А ружья зачем?
– Без ружья не дадут.
– ?
– Карабин сдать надо. Тогда деньги тебе, – говорит абориген.
Столь экзотический ритуал ввел несколько лет назад местный участковый. Зовут его Арон Аветисян.
– Устал я, – говорит он, заперев в подвале сельской администрации двустволки.
Арон так всегда говорит – в день зарплаты зверобойной артели, которая добывает моржей, нерпу. Когда-то здесь таких артелей было около десяти, сейчас одна, и та на ладан дышит. Кроме этого имелся крупнейший оленеводческий совхоз «Герой труда». Сегодня его пытаются раскрутить снова, но оленей осталось мало, а еще меньше тех, кто хотел бы их пасти.
Арон заводит вездеход, принадлежащий некогда полярникам, и мы мчимся к его вагончику на броне. Водительские права в этом посёлке есть только у него, хотя различного рода сельхозтехника: тракторы, грузовики или мотоциклы имеются у многих
– Для чего ружья отнимаете? – интервьюирую его я в люк.
– Завтра отдам, отвечает Арон. – Если придут.
По мнению участкового, эскимосам и чукчам деньги вредны. Получив зарплату, они покупают самогон и съезжают с катушек.
– Дурные становятся, прямо в голову себе стреляют, понимаешь? Суицид называется. На Чукотке ба-альшой суицид. Поэтому я у них карабин забираю. Утром придёшь – получи, дарагой.
– И что, кто-то не приходит?
– Много, брат… Сам их ищу: на свой карабин, распишись! А он третий день лык не вяжет… Улыбается сам себе, бормочет под нос, не разберёшь. Устал я как мама быть. В магазине запретил им водку торговать. Так они самогон покупают. Тут королей самогонных, знаешь, сколько? Вай! Семь, наверно.
– Чукчи и эскимосы стали самогон варить?
– Нет, русские. Полярник, артельщик. Когда станции закрылись, он стал самогон варить. А что делать, брат? На Большую землю? Кто его ждет? А тут семья, гарнитур, шифоньер. Только работа нет. Поэтому самогон гнать. И продавать. Понимаешь?
Арон тормозит у своего вагончика – точно такого же, как у Акима.
– А почему люди в канадских коттеджах упорно жить не хотят? – пытаю участкового.
– Когда шторм, даже маленький, он так дребезжит, что жизнь, вай, медным укрылась как будто! Стра-ашно, как в гробе. Собрали не так, знаешь. Половину деталей украли, брат.
Всю утварь в вагончике Арон Аветисян обклеил маленькими бумажками. На бумажках чужеземные, выведенные ручкой, слова. Так он учит английский.
– Контракт заканчивается, – поясняет он. – Уеду, надо чужой язык знать.
– Далеко?
– В Югославия поеду, дарагой. Миротворцем.
Слава объясняет участковому, что страны Югославии давно нет и миротворцев в ней, в общем-то, тоже.
– Тогда Африка, – ничуть не смутившись, говорит Арон Аветисян. – Армения не могу, брат, я этот, как его, отщепенец.
Один участковый на три поселка – Уэлен, Инчоун, Энурим – Арон Аветисян родом из добропорядочной армянской семьи. Отец – начальник большого ереванского гастронома, мать – заведующая стратегическим холодильником для нужд государства. Три брата занимают ведущие посты на железной дороге. Арон с детства любил читать, «отравился», говорит, «проклятым романтиком». Окончил техникум и махнул связистом на полярную станцию. Отец крепко осерчал. Слал сыну письма, которые начинались так: «Арон, дарагой, рад видеть тебя». Оканчивались письма тоже всегда одинаково: «Ты уехал, и мы плачем по тебе. Мама– три раза в день. Я – четыре. Братья – не переставая. Приезжай, дурная башка». Потом письма приходить перестали.
Когда закрылась полярная станция, он подался в участковые.
– Уеду, – повторяет Арон. Холодно тут. Ученые говорят: глобальное потепление. Пусть сюда едет, на Чукотка. А я – в Африка.
Полярный день никак не заканчивался, айсберги ушли куда-то всей большой стаей. Размытое двумя океанами солнце прокладывает тусклую дорожку по воде в Америку. Кажется, иди по ней и допехаешь до благополучной стороны планеты…
Следующим днем на косе, уходящей в пролив, почти цыганский переполох. Женщины, дети, старики, собаки и бакланы провожают артель из семи вельботов на китовую охоту. Мы тоже стоим поодаль. Лодки хоть и с мощными японскими моторами, но долго не исчезают из виду. Они качаются над нашими головами черными точками. Океан как будто касается неба. Но почему-то не проливается. Люди постепенно расходятся. На берегу остается лишь эскимос Витя Хагдаев. Он дежурный по трактору. Если охота будет удачной, Витя подцепит кита за хвост и вытащит своим «Кировцем» на берег.
Часы тянутся в ожидании, и мы уговариваем Витю, пока не вернулись охотники, прокатить нас по студеному морю. Вельбот взбирается на бугры волн, цвета фашистской шинели, натужно, с рёвом, потом падаем вниз, обмирая. У недействующего маяка-памятника на мысе Дежнева Витя делает разворот. Мы сидим плечом к плечу с биологом Олей. Она из Анадыря, изучает жизнь тутошних насекомых.
– Дежнёв почти на сто лет раньше Беринга открыл этот пролив, – преодолевая шум винта, говорит мне в ухо Оля.
– Чего же он именем Беринга тогда называется? – наклоняюсь я к ней.
– Ну, Дежнёв открыл себе и открыл, думал, про это весь мир узнает. А Беринг, что называется, подсуетился, сам лично доклад в географическое общество отнёс.
Ее висок пахнет сенокосами. Брызги застилают глаза. Губы соленые.
На обратном пути Витя завозит нас «во вчера». Машет руками, показывает на часы, мол, здесь другое совсем число. И мы глазами, полными глазами воды, словно обезумевшие от счастья, киваем, дураки дураками.
– Киты! – глушит мотор Витя.
И точно! На фоне ледяных, синих, ужасающих волн далеко-далеко две блестки. Вверх-вниз. И вдруг совсем рядом выныривают, запускают в небо фонтаны, танцуют, что ли?
– Ё —мае, – ликует Слава, пытается фотографировать, но болтанка такая, что он едва не сваливается за борт.
Огромные млекопитающие трутся друг об дружку, как вчерашние айсберги, как лошади в гон, хороводят.
Нас относит, Витя запускает мотор с пятой попытки. Очумевшие, все молчат. Медленно причаливаем. По полосе отлива бежит на встречу большой лохматый пёс. Приседает, крутится юлой, радуется.
– Иногда кит уносит лодку охотника далеко, – почему-то говорит Витя. – Или под воду.
– То есть, ты хочешь сказать, что это честная дуэль? – соображает Слава.
– Да, – машет тот свалявшейся шевелюрой. – Очень не просто. Если далеко, людей о скалы бьет, там берег крутой.
– Часто?
– Да. Некоторые выживают, идут, идут, приходят, а их гонят… Раньше убивали.
– Отчего же? Люди ведь спаслись, домой вернулись, здравствуй, родная– раскручивает его Слава.
– Не-е, – закуривает Витя. – Их кит забрал, они становятся тереками, отверженными. Настоящий охотник погиб, а это дух, злой дух ходит. Он за людьми охотится и может унести в злой мир.
– Дикий вы все-таки народ…
– Да, да, – машет опять головой Витя и улыбается, рассказывает нам случай, который приключился с одним из здешних зверобоев. В 30-е годы на льдине унесло охотника Ульгуна. Люди похоронили его в своих мыслях. Двое малолетних детей остались сиротами, жена вдовой. В 1992 году, когда была открыта граница между Россией и США, прилетела в Уэлен пожилая женщина из Канады. Сносно говорила по-чукотски, расспрашивала об охотнике Ульгуне. Нашли старейшину. Он вспомнил, что охотника унесло на льдине и он погиб, а дети его рано поумирали – жилось им бедно, трудно. Тут-то и выяснилось, что женщина из Канады – дочь погибшего охотника. Оказывается, тогда, в 30-е, льдину с охотником прибило к берегам Канады. Его подобрали местные инуиты (эскимосы), выходили. Поскольку возвращаться на родину зверобой не мог, женился и жил себе, охотился. Только в сторону другого берега глядел часто, задумчиво и носом шмыгал.
Слава шастает по горловине косы, потом становится, раздвинув ноги циркулем, протягивает мыльницу.
– Щёлкни меня вот оттуда. Одна нога в Ледовитом океане, другая– в Тихом. Чума. Все рядом. В башке моей каша.
В этот день кита не добыли. Охотники приехали уставшие, с чёрными лицами, погрузили в трактор снасти и поехали спать. Утром при том же скоплении публики, отбыли по синим пригоркам волн снова.
Вечером опять весь поселок в сборе. Добыча серого млекопитающего здесь не какая-нибудь мажористая прихоть. Три тысячи лет для аборигенов этих широт, кит– первое большое парное мясо после долгой, шизофренической зимы. Иное мясо им не по желудку, да и не по карману. Во времена развитого социализма в магазин завозили продукты среднерусской необходимости. А также мыло. От мыла тело жителей покрывалось язвами, от мороженых кур, их мутило, и они по нескольку дней проводили, кто успевал в нужниках. Поэтому ежегодно для эскимосов чукотского полуострова и таких же аборигенов Аляски выделяется квота на добычу 15 серых китов.
Кит опутан веревками с оранжевыми буями, из боков торчат три старинных, с отполированными ручками, гарпуна. На голове зеленоватые проплешины. Хвост напоминает корму подводной лодки. Тракторист Витя цепляет его тросом, вытаскивает кита на берег, и тот становится виден весь, огромный, побеждённый.
Взрослые подсаживают детей на его горб. Они сперва таращат испуганно глаза, потом катаются, точно с ледяной горки, хохочут.
Далее за дело берутся мужики. Взгромождаются на него и большими, точно секиры на длинных пиках, ножами, разделывают. Самые смачные куски достаются старикам, женщинам без мужей, в сельпо с маркировкой «кит свежий, морской».
Мы стоим со Славой в сторонке, наблюдаем. Охотники улыбаются, трындят простодушно что-то по-своему, жуют мантак с солью – порезанную на мелкие кусочки кожу кита. Потом все отправляются по домам, радостные и торжественные – вот и пришла весна. На распотрошённую спину зарятся какие-то громадные птицы, пикируют. Оставленный сторож шугает их длинной палкой, но как-то вяло, всем хватит.
Завтра кита разберут до конца. Мясо пойдет на засолку, усушку, маринад. Жир на хозяйственные нужды и то же мыло. Из усов сделают исцеляющие душу и тело настойки, кости пойдут на утварь – из позвонков выходят шикарные кресла и. т. д. Останется только череп. Витя зацепит его тросом к своему «Кировцу» и отволочет за поселок, где из таких громадных черепов уже целое километровое кладбище. Будто динозавры жили тут и упокоились с миром.
– А че —о же они, дурные, в этот пролив каждый год приходят. Ведь каждый же год получают гарпун в бок? – Слава роется в рюкзаке, выуживая бутылку, которую старик вернул ему обратно.
– Так родина тут, блин, – говорит Аким, прорезая пузатому божку глаза. – Они в наших водах любятся, рожают. Потом возвращаются.
– Хорошенькая родина.
– Какая есть, слышь, – улыбается Аким, не отвлекаясь.
Вечернее небо с узорами перистых облаков как будто на выставку из Гжели привезли. Сумерки опускались на поселок, как будто зверь укладывался в спячку, ворочаясь, угнездиваясь, думая о чём-то своем. Откуда-то из-за горизонта последние лучи подсвечивали торшерным светом только те самые черные сопки, по которым держали ориентир когда-то путники. Мы садимся на пригорке поближе, раскладываем на куртке консервы, складной нож, купленные в сельмаге маслины, довершаем натюрморт водкой с жень-шенем. На этикетке выведено: «Разбуди свою страсть».
Посёлок распахнут перед нами окном. Зажёгся фонарь у деревянной аптеки, заплакал ребенок, промчал на гусеничном вездеходе куда-то Арон. В узеньком проливе встретились два успокоившихся под ночь океана, и равнодушно глядели на нас.
– Не спи, писака, – толкнул в бок Слава. —Разливай давай. Помянем… Китов. Ну, и людей.