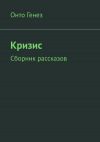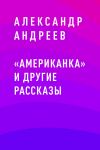Текст книги "Ассоциация содействия вращению Земли. Сборник рассказов"

Автор книги: Владимир Липилин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Гномы деда Михайло
Я пришел к нему по глубокому рыхлому снегу. Правда, сначала в уме держал, точнее, в блокноте, собирался, и думал: не помер бы. А в эту осень как-то сложилось все, и вдруг удалось. Самолёт до Иркутска, китайский микроавтобус. Дед Михайло, как он себя называет, а в миру– Виктор Алексеевич Михайлов проживает с собакой Динго, портретом Маяковского, сотнями книг и стареньким компьютером у самого Байкала. Там, где берёт начало река Ангара. Деревня так и называется – Большая Речка.
Он суетится у бурлящего чайника, его внезапно кидает, как юнгу по рубке от накатившей волны, и, снося стулья, громоздкие недоделанные фигуры из дерева, валенки с обогревателя, он буквально летает по избе.
– И так всю жизнь, – говорит после, расставляя стулья на место. – Ладно, я тебе сейчас свою лебединую песню спою.
– Простите?
В окошко его стучат.
– Ой, ребятки пришли.
Он идёт в сени и уже там, в проём, произносит:
– Толик, Валя, давайте вечером.
Возвращается, объясняет.
– Школьники это. Ага, приходят, поиграть, почитать. Я им сказку написал. «Яйка-зазнайка» называется. Вот теперь с учительницей, чудесной девушкой Ниной, ставят. Этот, как его… Мюзикл. У меня там много персонажей разных. Зайцы, собаки, кошки всякие. Корова.
– Говорящая?
– Корова-то? Поющая, – хитро улыбается он. И без перехода начинает:
– Так всегда же: «аз» да «буки», деды, бабушки и внуки начинали с букваря. Вот однажды тетя Аня, букваря раскрыла ставни. Как из книги в тот же миг, буква «Я» на стол к ней – пры. Ножку в сторону взметнула, рот капризный изогнула, руки в боки подперла, да как крикнет со стола. «Хватит мне стоять в конце, русской азбуки в торце. Я одна всей роты стою. Кто из вас сравним со мною? – начала она спесиво. – Али я ли некрасива? Я стройна, умна, важна, вы – холопы, я – княжна. Вся Россия меня знает, потому что величает каждый, сам себя любя, лишь одною буквой «Я». Ну, и так далее. В том же духе.
Я много бумаги мараю. Сказы разные пишу, стишки, шутки, прибаутки.
Он опять встаёт и опять рушит стулья, я машинально через стол пытаюсь его подхватить.
– Как дам больно, – говорит он, уцепившись за шкаф. – Придуривается дед, куролесит. Я к этому с 41 го года привычный. Почему я на людях пытаюсь не появляться? Потому что кидает меня. А они жалеют. Ладно. Щас тебе покажу кой-че.
С этого же самого шифоньера, книжных полок, разных углов, он начинает извлекать пухлые бумажные папки. Складывает их на стол, и становится почти невидим. Только голова торчит с бородкой.
– Российская земля – не только у Кремля, – шпарит он, не давая мне опомниться.– По одной уродине – не суди о Родине. По чужому огороду – слюнки текут, по своему – пот, – сечет он будто пулемётной очередью. – Когда ничего не стало, то и редька с хреном – сало. Ну, как? Годится? – тянет он шею из-за папок и убивает меня контрольным. – Более ста тысяч пословиц и поговорок написал. Не хухры-мухры?
– Как это – написал? Даль вон сколько лет собирал…
– Мне же, знаешь, когда-то так повезло. Шарахнуло по башке. Я маленький был в войну и уже был нехороший, контуженный. Долго не знал, где родился даже. Только спустя годы инспектор приюта рассказала, что нашли меня, брошенным в парке Сокольники. Было это перед войной. Случайные прохожие ночью услышали крик грудного ребенка. Пошли на голос и увидели младенца на муравьиной куче. Так что, выходит, я москвич по рождению. Потом отправили в детдом станции Удельная, Раменского района. Там меня усыновили Дедовы, потеряли, опять нашли. Война. Повезли домой.
Помню строгую и добрую бабушку, которая однажды сказала непонятное: «Супостат совсем близко. Надо уходить». Уходить я не хотел, и меня начали уговаривать, что поведут показывать кошку, умеющую рассказывать сказки. Ну, тут уж я согласился. Шли лесом по дороге. Меня нес какой-то солдат. Я его сразу невзлюбил. У него винтовка висела на плече, я от нее все время получал по затылку. Еще у него были очень большие усы. Я его Бармалеем окрестил. Вдруг налетели самолеты, кто-то крикнул «Жабы, жабы», так их звали из-за крестов. И этот дядька-солдат бросился со мной на землю. Знаешь, навалился всей своей тяжестью. Я подумал, что он меня хочет задушить. Стал его бить, кричать. А вокруг стали вырастать какие-то жуткие «цветы». Почему-то они мне запомнились красными. Так я впервые увидел, как взрываются авиабомбы. А в следующее мгновенье осколок ему срезал голову, я видел, как она покатилась. Дальше – сплошная чернота. Немцы. Бабушка вцепилась в меня и не хотела отпускать. Немец оттолкнул ее. Она упала, схватила камень и швырнула его в конвоиров. Ответили ей автоматной очередью. Я помню, как немец давал мне конфету за конфетой и смеялся. Я тоже смеялся, с полным ртом конфет, и, довольный, тормошил бабушку, думал, что она притворяется.
И вот после той контузии не говорил совсем. Опять попал в детдом, нас повезли на Урал. Вышел из поезда под Свердловском и потерялся. Там дед меня подобрал. Анисием звали. Он был совсем слепой. Калика перехожий. Могутный такой мужик, огромный, с бородищей, былины пел, сказы сказывал. И вот он странствовал, меня всюду за собой на плечах таскал. Якобы побирался. Нихрена он не побирался. За ним приезжали на телегах, чтоб только привезти. И деревни между собой оспаривали его почти как святого. В деревнях тогда остались одни бабоньки, выжатые горем. Они сами в плуг впрягались… Скотину жалели больше людей. Дед Анисий заходил в избу и начинал петь (Виктор Алексеевич, кашлянув, начинает тоже): «Что ж ты, Пелагеюш¬ка, разводишь горькую слезу… Глянь, тучи темные… Гляди-кась, Пелагеюшка, сокол твой ясный поднялся… Ой да защитил он твоих детушек, галчат махоньких…»
И вот она, скрюченная, убогонькая, рассапливленная, будто распрямлялась. Свет в глазах появлялся. Плечи, как крылья, разворачивались. А дед все пел и пел. Мне он сказал однажды: «Когда сердце ревет, кричит, нельзя с людьми обычным языком разговаривать». У Анисия в роду все мальчики рождались слепыми, и все потом становились каликами перехожими. Он говорил так: «Мы що самому Ивану (Грозному) показывали. За що он нас медведем жаловал». То есть, на предков его вроде за попрошайничество Иван Грозный медведя натравливал. А они ходили. Анисий никогда готовые былины не певал, сам по ходу все придумывал. Творил. Я хоть и не говорил, но воспринимал, запоминал все. А он, как знал, что ко мне разум вернётся. Не со мной, а с моим будущим разговаривал.
– И что же дальше?
– Однажды подошли к речке. Дед Анисий присел и говорит: «Воробышка, вернись к тётке Матрене, попроси чистое белое полотенце. Я побежал в деревню, а там сразу всполошились. Да ведь к смерти это. На берег пришли, а дед Анисий уже неживой. Так и умер, прислонившись к березе. Ледоход как раз на реке начался. Но ты про это не пиши. Кому интересна эта моя биография? Чай вон лучше пей. Чё ты, как красная девка. Побольше меду-то подцепляй.
Мы молчим. Слышно как хрустят по мерзлой улице чьи-то шаги.
– В общем, потом опять детдом, скитания. Мало-помалу речь ко мне стала возвращаться. Правда, говорил я нараспев, будто былины исполнял. Всё это в меня вошло до такой степени.
Школу Виктор Алексеевич окончил в 30 лет. Потому что, говорит, в одном классе сидел года по два, три. Учился в одном месте, в другом. Частенько отправляли в психушку. Контузия его на время утихала, потом опять шибала. Но при этом он умудрился отучится в иркутском университете. Филологический факультет. Преподавал в различных школах губернии русский и литературу, работал в малотиражках.
– Однажды девочки из класса, который я вёл, попросили написать на выпускной стих. Я уже тогда вовсю баловался. Настрочил ночью. Они говорят, Виктор Алексеевич, это же песня. Напишите музыку. А откуда я ноты знаю? Ладно. Иду вдоль речки, под мышкой глобус, папка. Вдруг слышу – широко так песня звучит, будто по реке стелется. Исполняет моя любимая певица Зара Дулумханова. Про-о-ощай моя школа (голос у Михайлова тенорный, так сказать, с песочком). И так она её пропела, что аж мурашки у меня. Я думаю: как это? Ведь я же сегодня только стихи эти написал. Как Зара могла в Москве это спеть? Прибежал домой, наиграл на балалайке – песня готова. И начались казусы. Читаю, допустим, Алексея Толстого, тут же мелодия выходит. Думаю, вот опять глюки начались. Дальше – больше. Уже, в общем-то, дед был. Зашел как-то в книжный магазин, муторно на душе. Взял с полки первую попавшуюся книжку, оказались пословицы. И так что-то меня переклинило, что вслух стал произносить свои. Им прикрыть бы срамоту не ту, носить бы им трусы во рту, потому что срамота у них исходит изо рта. Шпарю, шпарю. И тут один мужик говорит: «Дедуля, ты записывай. Прям в копеечку.» Только он это сказал – всё, капец. Меня отключили. С этого и пошло, вон уже сколько наштрябал, – стучит он ладонью по толстым папкам. Ворсинки пыли подчеркивают каждый луч солнца.
– Выходит, вы прям кладезь какой-то.
– Какой кладезь, елки-моталки. От болюшки все.
– То есть поэзия, как формулировал Довлатов, это форма человеческого страдания? Не будет лыжой по морде – не будет и поэзии?
– Я не знаю. Ощущение жизни у людей пропадает куда-то. Никто не делает ничего своими руками. Не страдает, если не получилось. Не мучается. Не любит ничего и никого по-настоящему. Чтоб, если не выйдет – пулю себе в лоб пустить. Хотя бы теоретически. Я тоже тут не безгрешен. Вот женился на Сашке. Она – чудеснейший человек. Так? Мягкая, добрая, ласковая. Аринушка Родионовна – вот кто она. А потом пошли мы как-то в баню, она маленькая, полубурятка такая. Смотрю – ноги у нее гнутенькие, будто с лошади только слезла. Думаю, щас выйду из бани и тебя брошу. Увидел – и всё, нет жалости, нет любви. Когда со мной эти приступы вот опять начались, я тогда на Алтае работал. Она в Иркутске была. И подумал, вот буду так летать, а ей куда деваться. Станет возиться со мной, жалеть. Я буду маяться. А ведь нет несчастнее несчастья, чем считать себя несчастным, – цитирует он опять себя. – Взял и подал заявление на развод. Дурак, конечно, но мне простительно, – только в уголки губ, пустив на время сожаленье, улыбается он, и тут же спохватывается.
– Ладно. Щас я те книжку подпишу.
Он опять улетает – сшибая дядьку Черномора, деревянного всадника на лошади, на этот раз его задерживает печь.
– Вот-от, – хорохорится дед. – От неё и потанцуем.
Затем выискивает на полке нужную книгу.
– В прошлом году крупица из моих строчечек вышла в местном издательстве, – говорит. – И несколько сказов. «Сказ о Байкале», например.
– И как отреагировала общественность?
– Молча. Поэты местные меня не любят. Считают выскочкой. Где ж моя ручка? Володька приходит, ручка пропадает, – улыбается он одними глазами, не глядя на меня совсем. – А, вот.
Подписывает долго, старательно.
– Но что мне до тех писателей. В себе бы разобраться. Иногда с самим собою, знаешь, как трудно жить, никак не получается. Преодолеешь вроде что-то, а дерьмо все равно вот сюда, к глотке лезет, я его туда, оно обратно.
– Как же быть?
– Как, как. Пою. В былинном стиле.
Он запевает сперва потихоньку, затем, крепче, разгораясь. Словно нитки, жилы из себя вытягивает.
– Что ж ты, старый дурень, здесь развесился, глянь-ка в зеркало, ай да посмотри. Да нешто ты во слезах-то будешь свою бороду мо-очить? Ну, и так далее. Легче малость становится. Чего я дожил до 80 лет? Потому что стараюсь зла никому не желать. Я много видел, много обошел. Били меня страшным боем. И когда кого-то ударят по лицу хоть в кино, я прямо знаю это ощущение, крови, соплей.
– Ну, так еще Даль говорил, что сытые и богатые пословиц не пишут.
– Ну. Причем, все спонтанно рождается. От снега за окошком, от фразы чьей-то обронённой по телевизору. Все, что вышло у меня хорошо, вышло случайно. Нет здесь моей большой заслуги. Я только взял, не поленился, записал. Как получилось не мне судить. Главное, чтобы что-то хорошее осталось, порыв душевный, мысль добрая.
Кукушка в часах, пружинно оповестила о времени. Пузатый щенок выкатился из-за печки и стал играть с собственным хвостом, намереваясь ухватить его, поймать. Хвост оказывался гораздо шустрее.
– Ого, всполошился дед. – У меня процедуры.
– В каком смысле?
– Я, старый пень, три раза в день на снег босиком выхожу, в огород, и там обтираюсь.
Тень от дома занимала половину сада. Сосны у Ангары стояли все в снегу, будто паруса фрегатов, ожидающих ветер. Виктор Алексеевич выскочил в одних трусах. Так, вероятно, должен был выглядеть Иван-Царевич из сказки, если б состарился, но не растерял свой пыл. Он что-то мурлыкал себе под нос. Потом оттянул резинку, шлепнул себя выстрелом в живот, и принялся обтираться снегом. Я поёжился. А он пел, и снег опускался по его плечам, иссякал, путался в бороде.
– Хорош, – скомандовал дед сам себе и сиганул к дому, сверкая по пути пятками. Я покурил. Когда зашел, он уже пялился в компьютер.
– Ёлки-палки, я ж не знал, что ты приедешь. Хоть бы позвонил. Сидишь теперь на чаю, кишки моешь. Хлеба хочешь?
Я не хотел.
– Тогда я сейчас тебе из свеженьких прочту. Ах, ты. Где? Куда убежала, – говорит он строчке, будто она чудесным образом ожила.
– Амуром аукнется, дитем откликнется. Пойдёт? – глянул он поверх очков. – В любви и ворона журавль. Или вот. Кто в Иркутске – свинья, тот и в Париже – не голубь. Аршинами нас не измерить, мы – в тоннах дураки. Язык всегда беднее мысли, но всяко богаче глупости.
Солнце перевалило сопку, и щенок обогретый печкой и лучами уходящего дня, сидел в рыжем пятне, осоловелый, глядел в одну точку, подремывал.
– Больше всего, конечно, у меня о любви, о нас в этом мире, и о матери. Ты говоришь, откуда. Знаешь, какое у меня было однажды потрясение. После я надолго в комнату с белым потолком загремел. Мать я свою нашёл, – снимает он очки и щурится от мандаринового света из окна. – И лучше бы и не находил. Всё во мне перевернулось. Оказалось, что она только на двадцать пять лет меня старше Пила страшно. Видишь, как получается.
Он потер глаз.
– Любить трудно. Самое сложное, взять да и простить. За всё. Нет предела высоты мудрости, но куда беспредельней бездна глупости. Короче, много у меня этих пословиц-гномов. Сам видишь. Вот такой перед тобой поэтик. Не стану кокетничать, мне немного осталось. Врачи говорят: у вас Виктор Алексеевич, такая ситуация, что должны радоваться каждому прожитому дню. Я и радуюсь. Но только не хотелось бы, чтобы более 100 тысяч афоризмов, пословиц, гномов моих оказались на помойке. Хочется моих ребятушек (пословицы) в народ вывесть. Может, они и не нужны никому. Может, из них костер хороший получится. Ну что ж, мы старались, – улыбается он.
Я засобирался. Вечером у меня поезд дальше, по Транссибу, на восток.
Виктор Алексеевич поднялся, оперевшись на увесистые свои папки.
– Приезжай, – сказал он, малость даже опечаленно. – Только уговор – в следующий раз дня на три. На Ангару сходим, омуля половим. Закоптим. Во дело будет.
Мы долго прощались у калитки. Мама щенка овчарка Динго терлась о колени, падала на живот и от радости скулила. Я уж поднялся на пригорок. А он всё махал и махал. Потом крикнул:
– Я там банку таежного мёда в твой рюкзак сунул. Выкинешь – отлуплю.
Большое сердце вечной мерзлоты
Аэропорт в Норильске называется Алыкель. В переводе с языка эвенков топоним звучит не иначе как «счастье». Мы летели к этому счастью три с лишним часа.
Егор Петрович – водитель огромного экскаватора в шахте «Комсомольская», не найдя поблизости земляков, чинно употреблял из горла коньяк и доставал всех ликбезом о тамошних широтах.
– Зона была. Тюрьма. А потом красивый город стал. Весна у нас, знаешь, как приходит? – объяснял он соседу немцу Генриху. – Что ты. Фильм «Любовь и голуби» видел?
Сотрудник кафедры зоологии одного из университетов Австрии, вероятно, с фильмом этим не сталкивался, но на всякий случай кивал. Он в России впервые, да и кино вроде жалует, а сейчас летит к местному биологу, изучающему жизнь волка за полярным кругом.
– Ничё ты не видел, куртуазный бюргер, – сокрушался Егор Петрович, свой тулуп он не снимал до конца полета. – Короче, там, в кино, помнишь, как на деревьях – раз и цветы выстрелили? Вот и у нас так. Чуть оттаяло, и бац, прямо минуя почки и завязь. Волшебство. Не до романтических соплей. Зима – тоже. На работу пошел в рубахе с коротким рукавом, оттарабанил смену, переоделся, глядь в окно, ё-мое, там снега по колено. Поэтому мы зимнюю одежу летом не в шифоньере храним, а в раздевалке.
ТУ-134 заходил на посадку три раза, двигатели ревели. Внизу мело.
– Сядет, – точно прокурор вынес решение Егор Петрович. – Или в Хатангу загремим.
Когда самолет приземлился, бледный Генрих захлопал. Звучало это пощёчиной по мужественному сердцу аборигена.
– Ты чё, немедленно прекрати, – сурово и театрально морщился Егор Петрович. – У нас сюда самолеты, как электрички ходят. Больше ни на чём не доедешь. А ты в электричке же у себя там не хлопаешь?
– Фантастика, – зачем-то сказал австриец.
– Оно, конечно, – недовольно пробубнил Егор Петрович. Но было видно, что он рад, что наконец-то долетел из этой кишащей Москвы, что дома ждут, что завтра на работу, а сегодня еще есть повод посидеть с друзьями, ведь он же вернулся.
Мы вышли на крыльцо. В метели можно было захлебнуться, утонуть. Женский голос сообщил в громкоговоритель, что в скором времени подойдут тягачи и, стало быть, прочистят до аэропорта дорогу.
– В Норильск? – проявился из метели вдруг человек в ушанке.
– Ему – да, – сказал Егор Петрович. – Я до Кайеркана.
– Поехали, – махнула в сторону сугроба голова.
– На оленях, что ли? – пытался шутить я.
– На оленях, на оленях.
За сугробом стояла 24-я «Волга». Она тарахтела и распространяла пар. Боковые стекла машины были занавешены мерзлыми узорами.
– Как же вы сюда добрались? – спросил я, упав на заднее сиденье вместе с рюкзаком. – Люди вон каких-то тягачей ждут.
– А я ушлый, – сознался мужик. – Вдоль Карского моря на вездеходе, знаешь, по каким сугробам летал.
Мне почему-то не хотелось уточнять, по каким. Мне и этих хватало. Он весело продолжил.
– Да и разве ж это метель?! К вечеру, гляди, чёрная пурга завернет, вот где песня будет. Руки своей не увидишь, если вытянешь, конечно.
Я подышал на узор, растопив дырочку. Дорога в некоторых местах была переметена высокими снеговыми «барханами». На подъезде к ним водитель Виктор поддавал газу и начинал быстро-быстро крутить рулем. Сначала в одну, затем в другую сторону. Сугробы бухали о лобовое стекло и сухо ссыпались, а Витя ликовал, как пацан.
– А я на своём гусеничном экскаваторе вальс танцевал, – тоже почему-то радостно вещал Егор Петрович. – Ну Чебоксарский тракторный завод такие выпускал, что у них гусеницы независимо друг от друга работали. Водила наш уважительно качнул головой, мол, знаю, че ты…
У треугольного знака с изображением паровоза он чинно притормозил, будто пропуская железнодорожную единицу. Поезда не было. Верхушки айсбергов дымились, будто вулканы. Да и откуда ему взяться, если на путях снег высотой с хрущёвский дом.
– У вас тут, наверное, и машины не угоняют? – спросил я его совсем не в тему, чтоб хоть как-то отвлечь от идиотского лихачества.
Тут он и вовсе бросил руль. Повернулся вполоборота, озарив червонным золотом зубов.
– Ну ты чипс! А куда гнать-то? Здесь и колючек по этой причине вдоль тюрем не строили. Тундра, однако. Беги волкам на потеху.
Мы вошли в «бархан» бампером, Витя вяло обернулся, словно хотел разглядеть, что там за недоразумение.
Минут через сорок, высадив Егора Петровича, оставили позади Талнах и въехали в город. Всюду трубы, трубы. Девятиэтажные дома во всех этих населённых пунктах стояли, словно на курьих ножках. Сваями они держались за мерзлую вечность. Фасады высоток были разукрашены неуклюжими детскими рисунками. На сером бетоне то и дело зацветали сады, изламывалась радуга над рекой.
Таким способом Норильск компенсирует нехватку атмосферного тепла. А еще переулками, сооруженными в стиле южного классицизма, тропическим декором в точках общепита и бесчисленными объявлениями о том, где можно сделать африканские дреды.
О чем бы ни заходили разговоры в этих краях, они обязательно сводятся к шахтам, к медеплавильным цехам, мульдам, конвертерам, шуровкам. Я, собственно, тоже приехал провести один день в шахте под названием «Надежда». Экипировавшись в портянки, в резиновые сапоги, штаны, куртку, противогаз, каску и расписавшись за налобный фонарь, мы с мастером бригады бульдозеристов Сергеем Будановым минут пятнадцать спускались в лифте.
– Сколько еще? – спрашивал я.
– Скоро, – подбадривал мастер. – А что ты хочешь, как-никак самая глубокая могила.
– Что?
– Да эт я так.
Внизу стоял на рельсах подземный почти игрушечный поезд. Маленький остроносый машинист восседал в своем кресле, словно король троллей. На расстоянии его вытянутой руки тускло блестели электрические провода и уходили в сторону преисподней. В электровозе, как в тракторах 30-х годов, отсутствовала кабина.
– А что же у вас и локомотивное депо есть? – попытался завязать я с ним узкопрофессиональный разговор.
– Имеется, – важно сказал король троллей.
– И составители поездов?
– Конечно, – глянул он на меня юркими глазками.
– Какова же протяженность этих железных дорог?
– Пять тысяч километров, – невозмутимо ответил король.
– Вероятно, вы хотели сказать, пять сотен километров? – настаивал на точности я.
Король троллей в кривой ухмылке дернул щекой и погудел.
Он был исполнен величия настоящего космонавта.
Согнувшись в три погибели, я протиснулся в вагон. Мастер Буданов берег мне место. Двери в вагон были похожи на ставни на деревенских домах, их следует закрывать вручную, на щеколду. Вагон тут же погружался во тьму. И только в узкую щель видны были тени от зеленого фонаря, чьи-то притопывающие пыльные сапоги. И пошёл поезд, пошёл.
Так в темноте мы проехали восемь станций. На некоторых входили люди, на некоторых выходили. Совсем как в настоящих поездах.
Мастер дернул меня за рукав: – Наша.
Мы вышли и помедлили, дожидаясь кого-то с долотом.
– Долото-то взял? – спросил мастер этого кого-то.
– Взял, – басовито ответили ему.
– Это хорошо, что ты долото взял.
«Наверное, воздуха мало,» – подумал я об этих сомнамбулических диалогах
Мы двинулись гуськом. Пересекли ручей и долго углублялись в неосвещенную пещеру, выбирая себе путь тугими лучами налобных фонариков.
– Сергей, – поинтересовался я, – правда, что ли, мы на глубине восемьсот метров?
– Если быть точным, восемьсот семьдесят.
Я замолчал, шёл в спину ему. Пытался представить весь этот слой, состоящий на четверть из вечной мерзлоты. Людей, которые ходят там, наверху, греются чаем в кафе, ведут разговоры, а в Москве вообще тепло и снега нет. Я пытался представить это, и за спину меня щипали. В лицо дул мертвый, отдающий пылью после дождя, ветер.
– Не дай Бог, конечно, – осторожно сказал я. – А вот если где-то ход обрушится, сколько здесь можно куковать?
– Вечность, – сказал Сергей и выдержал паузу. – Да не ссы ты, с безопасностью все в норме. Как-никак самая ударная комсомольская шахта была. Умы тут работали – будь здоров. Советский премьер Алексей Косыгин мечтал создать здесь, как в инкубаторе, особую породу людей. А потом надоело, Норильск ведь хотели даже оставить, бросить весь построенный город. Обнаруженные ископаемые быстро закончились. Правда, тут как раз геологи и нашли такие залежи золота и никеля, что лет еще на пятьдесят хватит.
– А что потом?
– Чё ты пристал. Потом ещё найдем.
Мы наконец вышли на освещенное просторное место. Там стояло несколько тягачей, похожих на какие-то инопланетные машины, и штук пять таких же бульдозеров. В одном из экскаваторов с зажжёнными фонарями на касках копошились мужики.
Со всеми мы поздоровались за руку. Даже с теми, которые были в обложенных кафельной плиткой ремонтных ямах. Потом заглянули в мастерскую, где токарные станки, фреза и с щербинкой старый-старый чайник. Мужики добавляли в алюминиевые кружки с заваркой тягучее сгущённое молоко прямо из проткнутой отверткой банки.
– Вова, – крикнул мастер одному из них, – ну чё, рванули?
– Ага, – хлебнув на ходу из кружки кипяток, напялил каску тот.
Ещё одной пещерой мы прошли к тягачу с тележкой. Над тележкой имелась крыша, а внутри – череда скамеек поперек. И тронулись, ехали, то спускаясь, то поднимаясь. Это было самое настоящее подземное государство. С указателями, с ответвлениями, перекрестками и знаками, помечающими главную и второстепенные дороги.
Мы доставили в бригаду взрывателей кабель и отъехали в укрытия.
Текла вода, работал трансформатор. Минут через десять далеко и гулко грянул взрыв. Потом до нас поверху дошло облако пыли, и мы пережидали его в противогазах. Говорить было бесполезно. Когда все улетучилось, осело где-то, Сергей дал указание своим бульдозеристам. Они подъехали к обрушенной руде и стали толкать, ссыпать исполинские глыбы в огромные черные дыры.
– А там что?
– Ад, – коротко ответил Сергей и улыбнулся.
Вытянув шею, я заглянул в нутро. Транспортеры тащили наверх ссыпаемую в эти дыры руду, переваливали затем на другой транспортер, тот ещё выше, и так далее до медеплавильных цехов, где эту руду «варят», отделяя от нее собственно медь, никель, кобальт, золото и платину.
Часа четыре ещё мы колесили по царству подземных дорог, фары тягача выхватывали различные надписи на стенах, ориентиры.
На одной из остановок, где меняли водяной компрессор, шофер Вова закурил и сказал:
– А Серегу на прошлой неделе такой рудой завалило. Только взорвали, вроде проверили всё, нависаний нет. Он стал работать, а одна глыба не шла в дыру. Он прыг в гредер, жахнул по ней, а со стены камнепад.
– И что?
– А чего, ничего. Серега еще грейдером умудрился мужиков заслонить. А сам нырнул щучкой в пространство между кабиной и педалями. Кабина, само собой, всмятку. Мы думали, его и живого-то нет. Пока резак нашли, пока то-се. И вдруг он оттуда, из-под камней, запел. Ага, там прям лежит и басит.
– Хорош трепаться, – сказал Сергей. – Поехали.
И опять мотались по «улицам» подземелья, кому-то поменяли муфту, кому-то подвезли горючего.
Потом, когда сдали всё и вышли из душа, Сергей сказал:
– У нас-то тут еще ничего.
А вот в медеплавильных цехах, там ад настоящий. Жара, пекло, огромные ковши с расплавленной медью над башкой вечно летают. Пары свинца, ртути. Там мужики, как гуманоиды ходят. Изо рта шланг торчит, иначе надышишься, коньки отбросишь, а в другом уголке рта частенько – сигарета.
– Во как раз щас выброс оттуда, – сказал Сергей, когда мы шли от проходной к автобусу. – Чуешь?
Я чуял, потому что слезы текли по щекам, сердце стучало прямо в горле.
– Это нормально, – констатировал бригадир. – Месяца через два привыкнешь. Сернистый газ. Поражает легкие, печень. Убивает активные клетки крови. Я вот думал, три года отработаю здесь и домой махну, в Сочи. Думал, я круче всех. Здесь ведь все так думали. Меня-то это не затянет. А потом женился, дети. Квартиру дали. И понеслось. Зима, короткое лето, зима.
– Так всегда же можно открыть дверь и выйти.
Он посмотрел на меня:
– Понимаешь, я там, на «материке», сдохну теперь. Пятнадцать лет здесь ошиваюсь. Из-за разряженного заполярного воздуха сердца у нас тут увеличиваются. Во такие, – он показал внушительный кулак, – бычьи становятся. Но ниче. В шахте целый день проколупаешься, потом вылезаешь наверх и… кайф. Все любишь, дурацкие эти трубы, цветной снег, вечную мерзлоту.
Условные тротуары Норильска в роскошных сугробах отмечены веревками, которые колышет ветер. За них нужно держаться в чёрную пургу, чтоб не сбиться с пути. Люди идут, будто из пучины тянут сети.
В такие дни аэропорт по имени «счастье» закрыт до лучших времен. Никто не знает, сколько продлится эта пурга, может, день, может, неделю. И я двое суток маюсь в гостинице, читаю местную прессу и вдруг обнаруживаю, что самое вопиющее преступление тут – квартирная кража. Что в Норильске напрочь отсутствует такой социальный элемент, как бомжи. А в такой-то печи допущен выход расплава в цех – 200 тонн. Но под конец дня второго это заточение становится тягостным, да и денег на телефоне в минусе. Как-то надо сообщить в Москву, что меня не задрал полярный волк, и не завалило в шахте. Я выхожу, лезу по «барханам». Салон находится минут через тридцать блужданий. А там девушка нездешней совсем наружности, в желтой майке с названием фирмы. Оторопь берет.
– Чай, кофе, виски? – улыбается она.– Это ещё мало баллов. – Прошлой зимой такая метель была, что у нас с вечеринки один парень пошел в магазин за коньяком и заблудился. Три часа путешествовал.
Дурак бы отказался от чая, да и делать было нечего. Девушка жила недалеко, не мог же я её не проводить.
А потом случилось вот что. Девушка Света вышла на проезжую часть и, помахивая карманным фонариком, остановила КамАЗ с гредером. Они сновали по улицам в фонарях, расчищая дорогу.
Я даже не успел поблагодарить, сказать на прощанье что-то, она будто в сугроб обернулась, исчезла.
– Садись, садись, – лыбился из тёплой кабины дядька. – Тебе куда?
Мы мчали с ним по снежному городу, как по ущелью.
В едва проглядываемых сквозь пелену окнах горели огни.
– Да-а, – протянул он. – Припорошило. Новый год скоро. А там уж и время побежит с горы.
Ночью зазвонил телефон, горничная сообщила, что пурга, наконец улеглась, часа через четыре-пять расчистят дороги и взлетку. Можно собираться.
Я пришел к ней за кипятком, чтоб залить порошок кофе. Вышел на крыльцо с чашкой, темно было еще совсем. Город спал. Но ветер не прекращался. Я почувствовал, как замерзают на ресницах слезы. И как одновременно смешно и больно закрывать глаза с колючими льдинками.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?