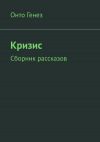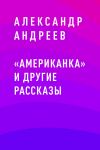Текст книги "Ассоциация содействия вращению Земли. Сборник рассказов"

Автор книги: Владимир Липилин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Давай, Джон!
– Дохляки, – сказал дядя Саша, по-нижегородски упирая на букву «о». В ринге, очерченном расступившейся толпой, висели друг на друге два гренадерских гуся. И сопели. Они напоминали боксёров-тяжеловесов, тайком договорившихся поделить куш.
– Мой бы здесь наверняка апперкотом вдарил, – дядя Саша показал, как; стоявшие рядом образовали некоторую прореху. Гусыни тем временем бродили от дерущихся поодаль, теребили прошлогоднюю мертвую травку. – Петрович, ты, небось, гусака-то в одной корзине с «любкой» вез? – крикнул дядя Саша кому-то в толпу. – Он ее, поди, всю ночь и жарил. А теперь больно надо ему драться.
В толпе загыгыкали.
Петрович сам, как гусь, двигавшийся на корточках, отмахнулся. Сдвинул со вспотевшего лба на затылок изношенную кроличью шапку.
Гуси топтались так еще долго, ни «бе», ни «ме», пока судья не развел в сторону руки, объявив ничью.
А из машин, выстроившихся в ряд у магазина «Магнит», уже несли следующих. Гуси негодовали, скандалили, упирались.
– Ты смотри, – изумленно говорил сам себе мужик, волоча птицу чуть ли не за шею, – нихера не хочет драться. Не хочет и все.
Магазин притягивал не только автомобили. Вскоре оттуда явились два дяди Сашиных товарища – Коля и Володя. Судя по блаженному выражению их прослезившихся лиц, приобрели они в этом заведении не только батончик «Марс».
Гусиные бои в Павлове-на-Оке Нижегородской области – это более чем вековая традиция. Еще император Николай Второй, наезжая в эти места, восхищался их умением биться за гусыню едва ли не насмерть. После прихода к власти большевиков забаву, как некий элемент буржуазности, прекратили. Но местные любители, или, как ни сами себя называют, охотники, породу умудрились сохранить. Птицу натаскивали втихаря. Во дворах, в хлевах и даже в избах. Скрещивали, менялись, воровали.
Только в 90-х бои вновь разрешили. И вот каждую весну, как только начинает припекать солнце, удлиняя на крышах сосульки, в Павлово съезжаются заводчики бойцовых гусей со всех окрестных мест. И не только. Теперь этих огромных красивейших птиц разводят везде – от Курска до Улан-Удэ. Возят на бои в специально плетёных корзинах через сотни верст.
Но вот абсурд: с тех пор как бои опять разрешили, сами гусятники, по мнению дяди Саши, как-то обмельчали, что-то нарушилось, умерло в них самих, человеческое, важное что-то. И теперь, говорит он, всё происходящее напоминает дешевый театр с декорациями из картонных коробок. По этой причине он и не участвует в нынешнем действе. Точнее, не участвует, потому что не взяли, его гуся нет здесь. А кому же, усмехается он, интересно, когда один выходит и всех побивает. Тут нужно шоу. И оно с некоторыми оговорками происходит.
Нам нравится дядя Саша. Он какой-то крепкий, не надломленный, что ли, каждодневной рутиной, и печальным несоответствием реальности после вчера употребленного… Он обещает показать нам настоящий гусиный бой, а мы и не против. Усаживаемся в его большелобый автомобиль «Волга», покидаем город.
Дальние кущи за стеклом окутаны синим. И в крохотную форточку, которую я открываю, чтобы покурить врывается ветер. В нём уже так много от талого снега, от шалых ручьев, что в который раз одолевает обманчивое: все можно начать снова. Влюбляться, сходить с ума, жить.
– Так как же их тренируют? – повторил я дяде Саше свой вопрос.
– Ну, как? – глаза его степенно поглощали шоссе. – Вот они ещё только из яйца вылупились, а уже видно: этот будет драться, а этот, – переключил он скорость, – пусть так ходит.
– О! – всполошился сидевший со мной плечом к плечу Николай. – Как в футболе!
– Но и тот, которого ты определяешь в бойцы, ещё через многое должен пройти. Он либо шебутной чересчур, горячий. Такого надо на землю спускать, чтоб не зарывался. Или, бывает, прыжок никакой – надо ставить, кому-то силы удара не хватает.
– Я ж говорил, как в футболе! – укрепил свою мысль Николай.
– Или вот, допустим, «любки», – кашлянул дядя Саша в кулак. – Некоторые сгонят всех в одну кучу, гусак ходит-ходит, то на эту вскочит, то на другую. Анархия, бляха-муха. Но так можно разве? Тут надо наблюдать: ага, на эту глаз положил. Раз её – и отсадил к весне. Тогда у них и тяга друг к другу будет. Он порвёт всех за нее. У моего вон три их, бабы-то, – неожиданно сказал он, – и со всеми, тьфу-тьфу-тьфу, справляется.
Он подождал, пока мы обгоним фуру, сказал потом:
– Но любимая, конечно, одна. Я её у соседа купил. Один раз слышу, мой с ней через три двора перекликается. И как они это делают… сердце заходится. Ну, я пошёл, еле уломал. Бешеные деньги, между прочим, отдал. И вот он за ней ухлёстывает, что ты! Прошлый раз с Петькиным Красина гусем схлестнулся, дыхалку ему сбил, и, пока тот очухивался, он уж на нее вскочил, оттоптал благополучно, и обратно драться. Пять лет никому не проигрывает уже с ней.
Здесь Николай ничего не добавил, он молча смотрел в окно на перелистывающиеся пейзажи, думал.
– А от меня жена ушла, – сказал совсем без тоски даже. – Уехала в Волгоград и не вернулась.
– Ну, ты бы узнал, жива ли? – сказал я.
– Конечно, узнал. С дирижёром филармонии живет. Ты не подумай, она хорошая. Я говно.
Он достал из-за пазухи бутылёк, приложился, утер ладонью выступившее на глазах благодушие. Потом вдруг опять всполошился, стал пытать меня футбольной статистикой.
– Кто был единственным в Советском Союзе капитаном футбольной и хоккейной сборной?
– Бобров, – пожал плечом я.
Далее он спрашивал о первом обладателе «Золотого мяча», о человеке, который первым забил 400 мячей в чемпионате СССР.
Где-то я угадывал, и он досадно бил ладонью об ладонь, будто проиграл мне лошадь. Где-то я давал маху, и он радовался, как пацан, подскакивал на сиденье, бился башкой об крышу и колотил себя в грудь, туда, где сердце размягчал алкоголь, и оно становилось податливым, точно свинец.
– Коля у нас знаменитостью, между прочим, был, – сделал заявление дядя Саша. – Токарь, слесарь, жестянщик. В «Сельхозтехнике» на нём весь парк комбайнов, зилов и газонов держался. Уазики там. Но это ладно. Он еще у нас местным Гаринчей был. В команде «Волга» во втором дивизионе лучший бомбардир три года. Ты, поди, про такую команду-то и не слышал?
Я честно сознался, что нет.
– Ну, вот, а он каждый год по 28 мячей заколачивал.
– Один раз двадцать пять, – уточнил Николай и шмыгнул носом.
– А потом что же?
– Известно, что, – дядя Саша посмотрел на Николая в зеркало. – Начальство сказало: ша, бля. Хорош тряхомудием заниматься. Техники негодной больно много в тот год скопилось. А он – футбол.
– Пришлось запить, да?
– Почему сразу запить, – немного обиженно произнес он.
– Просто ушёл из футбола и все. Надо чем-то одним заниматься хорошо.
Он помолчал, потом докончил тару, сказал:
– Ты не думай. Я ж не пропойца какой. Просто бывает так, душа поеёт, надо, понимаешь.
Я его, кажется, понимал.
Село Сосновское, где проживают Николай и дядя Саша – обыкновенный, можно сказать, населенный пункт советского типа. Серые пятиэтажки, облезлые коты с сонными мордами, подозрительные личности на скамейках. Дядя Саша проживает в одной из таких пятиэтажек на окраине. Зато прямо у его подъезда стоит крепкий сарай, похожий на зимовье сибирских охотников. Внутри, как в галерее. Старые портреты вождей – Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Обнаженные красавицы, выдранные из разворотов журнала «Плейбой». Хлев разграничен для разной живности перегородками. Посередке выводок со свиноматкой, напротив – боров, лежащий на громадном пузе, который сопит так, что разлетаются в сторону с пола опилки. Над каждым животным табличка с именем, прочая информация. Прямо-таки немецкая какая-то дотошность. «Сара», – значится над небольшой свиньей. «Оплодотворял 25 января без возбудителя».
На верхней балке под низким совсем потолком маркером записан чей-то телефон с множеством нулей в конце.
– Это Саня президенту звонил, – пояснил Николай. – Хотел вопрос задать, че-то там про сельское хозяйство.
– Задал?
– Како там. Не пробьешься, – вздохнул Николай, как будто и сам по какой-то причине тревожил президента. – Сашка он, молодец. Хозяйство, гляди, какое держит. Дочерям обеим помогат.
– Ромка, сука, ты на хера трех депутатов съел? – донёсся до нас откуда-то голос. – И бабе еще голой низ отхватил.
Мы заглянули в дверь, там, в надышанном маленьком пространстве и косых лучах света из оконца стоял дядя Саша и белый с пятнами теленок. Он вдруг взметнул хвост, подкинул зад и стал носиться, взбрыкивая.
– Василич, – сказал Николай серьезно, – вон гляди, он твоих депутатов уже того, высрал.
Дядя Саша пнул лепешку в угол, обтер о солому башмак.
Затем он долго ловил гусака и гусыню, нежно, как породистых щенков, уложил их в картофельные мешки.
В проёме двери появилась жена.
Николай сразу вышел на воздух.
– Вот хочу к деду на драку отвезти.
– Тебе делать, что ли, больше нечего, – шикнула она, но всё равно было отчетливо слышно.
Дядя Саша не стал ничего возражать, он просто отнес гусей в багажник, завел двигатель, мы тронулись дальше.
Деревня Шишково вязла в сугробах. У заброшенного дома, где остов ржавого трактора занесло по самую крышу, мы свернули налево. Вышли, оставив в багажнике умолкших гусей. Ни души не было вокруг. Только у озера в тополях усердно пели синицы, как будто скоро что-то наступит, сбудется, произойдет.
В пахнущих баней сенях, мы обстучали подошвы ботинок от снега, вошли в дом. Прямо у порога стояла классическая русская печка с вылинявшими занавесками. Рядом с ней сидела беременная кошка и, покачиваясь, дремала. Дядя Саша обнялся с отцом, вставшим навстречу из-за стола. В руках у него были очки без дужек, на резинке, районная газета. Мы объяснил цель своего приезда.
– Это ж надо за каку вы даль ехали, – усмехнулся дед. – Да, Москва. Я был там один раз. Где-то году, кажется, в 63-м. Точно, в 63-м.
Деду Василию Васильевичу 81 год. И все эти годы он прожил в деревне, почти никуда не выезжая. Косил, пахал, тайком от государства гнал самогон и валял вручную валенки.
– Прежде гусей этих еще мой батя держал. Потом мы, дураки, с братом стали. Дрались и гусями, и так, ой, щас вспомнить. Теперь вот Сашка держит. Но спроси меня и его: зачем? Никто толком не скажет.
С помощью соцработника Натальи дед напялил камуфляжный бушлат, все пошли выбирать место.
– Надо в баню дров подкинуть, – велел дед Наталье.
– Я только что ходила.
Место нашлось между соседским ГАЗ-53 и широкой уличной тропой. Соцработник Наталья – девушка без возраста с одутловатым, словно водой наполненным, лицом – выгнала дедовых гусей из сарая. Они были этим фактом весьма недовольны. Выгнув шею, шипели на нее. Дядя Саша выпустил из мешка своих. Но драка не состоялась. Гуси с минуту посмотрели друг на друга, и пошли в разные стороны. Как только ни гоняли их – те ни в какую. Забивались под машину, и соцработник Наталья гнала их оттуда ивовым прутом, убегали в проулок, и она, засыпая в валенки снег, лезла и лезла.
– Не будут драться, – с зажатой беломориной в уголке рта, сказал дед. – Они же братья.
– К Генке надо идти, – серьёзно подытожил дядя Саша. – К шурину.
Дядя Саша нес гусака. Николай подхватил под мышку гусыню, но она все время вырывалась. Он неумело поддерживал ее коленом, перехватывал, гладил по уворачивающейся голове:
– Ну, чё ты, чё ты. Успокойся.
Генка – усатый, азиатскими заспанными чертами лица похожий на постаревшего писателя Куприна – выслушал дяди Сашины доводы степенно.
– Ну что ж, – сказал невозмутимо. – Давай биться.
Пока он выводил своих из сарая на запорошенный соломой двор, я спросил дядю Сашу.
– А ставки на бои делают?
– Бывает, – сказал он, вынимая запутавшуюся ногу из своего кармана. – Ну, несколько человек договариваются. Обычно дерутся так просто: мой тваво сильней. Да иди ты.
Гусаков развели в стороны. Дед дал команду. И они сцепились. Сначала, как говорит дядя Саша, щупали друг друга. Затем стали молотить.
– Джон, давай, – крикнул Николай. Он ходил вокруг них, поднимая руку, будто ждал паса.
– Так его, так, – сначала со смехом произносила жена Гены Татьяна.
Через пятнадцать минут уже все потрясали в воздухе кулаками, будто выкрикивали лозунги на митинге.
На крик и возгласы прибежали мальчишки, уселись на дощатые ворота. И только пес Цыган не был допущен к зрелищу. Он царапал калитку, вставал на задние лапы и оказывался едва ли не выше мальчишек.
– Иди отсюда! – кинул поленом Геннадий в дверь. – Убью! На Покров только кабана заколол, только порубил на куски. Пошел за тазом. Он тут как тут. Три килограмма грудинки сглотнул, не жуя. Я в него тазом запустил, жалко промазал.
– Джон давай, – кричал Николай, растопыривал руки, как вратарь.
Пух летел по двору, словно с неба пошел теплый весенний снег. Гусаки взлетали, били сверху клювами, стараясь угодить в самое темя. Крылья их были уже окровавлены.
А гусыни метались от них к людям, кричали, кричали. Заглядывали в глаза снизу, нам, затеявшим все это, просили, умоляли, клянчили.
Первым не выдержал дед, он хлопнул шапкой об землю, сказал:
– Брейк, вашу мать.
Геннадий и дядя Саша подчинились. Подхватили своих гусей, но и на весу, болтая в воздухе красными лапами, они норовили клюнуть друг друга, нанести последний, решающий удар.
– Николай, – сказала Татьяна. – Я вот тут тебе записку написала. Сбегай к бабе Маше. Она недавно согнала, я видала – дым шел.
Захватив сало, банку огурцов и широкую миску соленых груздей, Татьяна и Геннадий отправились с нами к деду в дом.
Накрыли на стол, через время явился и Николай, держа под мышкой, как гусыню, трехлитровую банку мутного самогона. Но с самогоном ему было сподручней. Он не вырывался.
Изба тут же наполнилась голосами, перебивающими друг друга, звоном стаканов, праздником из ничего.
Соцработник Наталья мёртвой хваткой обнимала за шею, будто душила, скотника Серёгу, который без слов пытался освободиться от её напористой нежности, краснел, ему было неловко так.
– Это брат отца моего, – показал дед на одну из настенных фотографий. Там в парадной форме сидел гвардеец с закрученными кверху усами. – Хваткий был, конезавод здесь держал. Тяжеловозов разводил. В гражданскую попал к немцам в плен. Только на седьмой раз получилось бежать. Прибежал домой, тут его и раскулачили, – улыбаясь, сказал дед.
Самогон мутно покачивался от колыханий. Пили за любовь, за деревню, за родителей. И тут вдруг на одном из тостов Николай накрыл свою стопку ладонью.
– Все.
Мы вышли с ним покурить. Синяя одинокая звезда взошла над полями.
– Ты не думай, – сказал вдруг Николай и так глубоко затянулся сигаретой, что дым не вернулся при выдохе. – Я не алкаш какой.
– Я и не думаю.
– Проходит жизнь, а человека нет. Нет ему места, мается, как мудак неприкаянный. Все тащится, тащится куда-то, а следов никаких. Как тут быть?
– Не знаю, – признался я честно.
– Вот и я. А знаешь, почему меня Гаринчей местным зовут? Гаринча – это птица такая. Она летает. И я с мячом, знаешь, как летал.
Баня давно затухла, мы прощались у порога уже почти час, врали, обещали непременно вернуться. На повороте фары выхватили опять остов трактора, от которого виднелась только крыша. Озеро, усыпленное зимой, поля, поля.
Николай вышел на окраине Сосновского, крепко пожал ладонь, затем крикнул в пустоту ночи:
– Гаринча, давай.
– Что же вы, вообще водку не употребляете? – спросил я дядю Сашу.
– Да уж восемнадцать лет как. Понимаешь, – сказал он, – я боксёр был. Чемпион района. И вот как напьюсь, немедленно давай всем морды крушить. Если б начальник милиции не был знакомым, до сих пор, поди, где-нибудь в Мордовии рукавицы шил. И тогда решил: не можешь – не пей.
Я вдруг вспомнил всю его ораву: поросят, быка, гусей, кур, голых женщин по стенам, недовольный тон в чем-то его подозревающей жены. И еще это вспомнил: «Но „любка“ всегда одна».
Он высадил нас на остановке автобуса. И долго ещё в темноте не исчезали огоньки его задних фар. На колдобинах картофельные мешки подбрасывало. И гусыня о чем-то причитала. То ли звала кого, то ль проклинала…
Последний праздник
в гостях у родины
В мордовском селе Алькино, в единственном, пожалуй, на планете, существует древний языческий праздник Авань-поза. Если заглянуть в мокшано-русский словарь, то всё покажется фольклорным притворством, ряженым пустяком: Авань (женщина, хозяйка), поза (ну, поза – квас из каленых на солнце лепёшек, замешанных на сушёных цветах клевера и пареной свеклы).
В этот день хозяйка позы напяливает на себя шестнадцатикилограммовый национальный костюм, задабривает богиню полей (первый ковш напитка поутру она выносит за околицу и окропляет простор). Затем, под небо, возле дома выставляется кадушка с густым варевом, и продолжаются гулянья, хороводы, песни.
Когда-то это был просто праздник перед изматывающими летними буднями. Сегодня, когда жители села разбросаны по необъятным просторам, это еще и ничем не закомуфлированная радость встречи, бесконечные беседы, жалобы, планы, слёзы и воспоминанья о лазаньях по садам за яблоками, вот таких вот лещах у затона и всякое другое.
Наведаться в село мы с товарищем решили загодя. У товарища там дело. В заплечном его рюкзаке горсть земли с кубанских степей, в которой с военной поры покоится его дед. Захоронение искал отец, дядьки, тетушки, но кому-то не хватало образования, кому-то времени, а товарищ, размотав путаницу в документах, минувшей зимой нашел. Мелкие и едва разбираемые, точно у терапевта, строчки сообщали, что там, у станицы Лабинской вставали и ложились, вставали и ложились целые взводы, бригады, и остался чуть ли не весь полк.
…И вот от большака мы топаем, топаем. Над головами, будто на ниточках висят невидимые жаворонки. И земля мреет дышит в лицо разнотравьем. Первый же взмах руки, проезжающей мимо шестерке оказывается удачным. Мы усаживаемся на заднее сиденье, у меня под ногами на коврике несколько сельдей в полиэтиленовом пакете, у товарища – аккумулятор.
– А я всегда останавливаюсь, – весело заводит разговор возница, – иной раз машина сдохнет, чешешь вот так, а попутка мимо. Эх, херами его обложишь вслед… Поэтому и не хочу, чтоб меня так же, – улыбается он нам, развернувшись вполоборота. Потом деловито спрашивает: -Рыбаки?
– Не, – говорит товарищ, – туристы.
– А-а. Туристу тут хорошо. Этот, как его, экстрим… А я вчера смотрел по телевизору передачу, дескать, что нам делать с сельским хозяйством? Микрофона не было, а то бы я им сказал.
– Саты, ёню шибко, – толкает его локтем в бок жена. (Хватит, умный больно).
Он на время умолкает, хмыкает о чем-то своем. Когда через пятнадцать километров у деревни Янг Майдан, мы пытаемся всучить ему немного денег, на лицо ложиться грустная тень.
– Аш– говорит он сурово.
И снова идём вдоль полей, холмов, речушек, в которых нестерпимое солнце.
– Ничё себе дорогу сделали, – удивляется товарищ. – Кому? Раньше, когда народ был, тут такое месиво стояло, ЗИЛы переворачивались. Дорогу за это вонючкой звали. Здесь овчарен куча была, а на ЗИЛах туда кильку возили, чтоб шерсть у овец лоснилась. Тюки с мороженой рыбой падали, какие-то подбирали деревенские, какие-то тухли прямо здесь.
А как-то случился перебой с килькой, стали креветок сюда поставлять. Мужики звали их зелеными червячками, гнушались есть. Потом приехал здешний дядька, который работал на бортовой машине в Москве, наварил их в чугуне, смотался в городок Ковылкино, что в тридцати километрах отсюда, набрал пива и закатил роскошную пьянку. С тех пор червячки овцам почти не доставались.
Нас обгоняет заляпанный по самую крышу трактор «Беларусь», притормаживает. Из кабины высовывается косматая башка и, пересиливая шум мотора, что-то орет. Езжай, машем мы ему, но он ослепляет нас благодушной с золотом зубов улыбкой.
– К дядь Феде едем, – кричит мой товарищ.
– Водка? Водка есть, – все так же широко и размашисто лыбится тракторист. – А больше нет ни х…
Дёргает за рычаг, козырно ставя железного своего «коня» на дыбы, и уносится.
Нынешнее село Алькино отличается от тысяч других сел, разбросанных по карте родины, разве что какой-то неконтролируемой умопомрачительной колонией кукушек. Взахлеб перебивая друг друга, они обещают селянину вечную жизнь. И не одну. А в остальном – все, как и везде. Внушительные прорехи меж почерневших бревенчатых изб с уникальной резьбой в наличниках, обвалившиеся крыши и пустые глазницы окон. Сегодня отчего-то никто не заколачивает их крест-на-крест тесиной. Может быть, потому, что раньше избы эти хоть и покинутые, но служили уехавшему человеку тылом, местом, куда всегда можно вернуться. А теперь?
У дядьки моего товарища добротное, крепкое хозяйство. Две коровы, восемь племенных быков, поросята, утки, куры. Трактор и уазик без номеров и документов. Прежний автомобиль он сдал по программе утилизации, в счет Газели, которую приобрел в Москве для одного из трех сыновей. Теперь гасит кредит (24 тысячи в месяц) за счет мяса. Сам, говорит, не торгует, сдает по дешевке перекупщикам-коммерсантам по 140 рублей за килограмм.
Когда-то дядя Федя был председателем здешнего колхоза. Перевыполнял соцобязательства. А в 90-е ветеринар вдруг обнаружил неизвестную липовую чуму у значительной части баранов и ярок. Подделал справку, расторопно толкнул мясо оптом, и с мешком билетов банка России был таков.
В роскошном саду с косыми лучами тихонько выпиваем, закусываем. Щеки гладят ветки цветущих яблонь.
– Здарова, – через забор кричит сосед, механизатор Валера. – Всё пьёте?
И тут же, будто бы сам себе замечает:
– Бляха-муха, а я, похож, дома сегодня не ночевал. Ну, конечно, не ночевал. Следов-то нет.
Пока топиться баня, решаем съездить на кладбище. По улице, изрезанный гусеницами, ведет проселок, забирает вверх. Вдруг приходит смс-ка от человека, который, казалось и думать о тебе забыл «Ты где?». Я отвечаю честно. Но телефон упорно выдает «Ошибка». Мобильная связь в Алькино присутствует только на кладбище, и то, как утверждает дядя Федя, есть только одна палка.
Неподалёку от ворот вечный покой сторожат два прислоненных к забору исполинских креста.
– Кого-то хоронят? – интересуемся мы.
– Да нет, два московских племянника баб Маши привезли как-то по осени сюда, кому – непонятно. Так и гниют тут. И сами не объявлялись.
Кривые кресты уступами взбираются на холм, к облакам. Крапива тут имеет особую могильную сочность. Трава вдоль облупленных оград, впрочем, скошена. Пахнет сеном. С овальных фотографий смотрят чьи-то чужие ни разу не встреченные лица.
– Тут приезжал как-то один фермер из Германии, хотел в аренду землю взять, – усмехаясь, молвит дядя Федя, – Вынюхивал, мол, чего в вашем селе хорошо растет? Ну, я ему и сказал: кладбище, бля. Единственная, пожалуй, говорю, программа правительства (по переселению граждан), которая работает. Не наврали.
– И что он?
– А ничего. Покивал да уехал.
В твёрдой, спрессованной уже могиле над бабушкой, товарищ делает крохотную ямку, без всяких торжеств высыпает туда из кулечка далекую землю, разравнивает. Только пыльное облачко, как от выстрела из винтовки Дергунова, поднимается и летит, летит.
Стоим на теплом ветру, отсюда с высоты – село, как на картонном макете. К нему бегут со всех сторон реки одуванчиков, сходятся, расходятся, двоятся, расползаются и сплетаются.
– Что это?
– Когда-то дороги были, – безразлично отвечает наш провожатый.
Вечером едем в местный клуб. Дядя Федя там и за ди-джея и за истопника, и за секьюрити. Фары выхватывают из тьмы здание типовой советской постройки. С синими чайками над прямоугольниками окон, с увековеченными в кирпиче (не стереть) постановлениями какого-то съезда КПСС о культуре и просвещении.
У входа – ни души. Дядя Федя зажигает свет и включает «Валенки, валенки» в аранжировке типа тынц-тынц. Внутри круглая печь, по стенам фотографии главы республики с первыми лицами государств. Приличная цветомузыка, на столе кипа газет и запах чего-то далекого уютного. Играем в домино, прячем костяшки во влажнеющих ладонях. Вдруг за окном раздается какой-то рев и глухой удар.
Мы выходим на улицу. Из белой, сплющенной, «копейки», остановившейся только с помощью электрической опоры, через давно отсутствующее лобовое стекло вылезает человек десять парней и девушек.
– А других тормозов нет, что ли? – спрашивает дядя Федя.
– Давно, – отвечает юный водитель. – Федор Иваныч, воткни, пожалуйста, вот это, – протягивает он диск.
Из колонок льется «Металлика». Толпа пускается в какие-то шаманские танцы.
– Черти, – то ли одобрительно, то ли задумчиво, говорит дядя Федя.
****
Наутро по селу ползут, переваливаясь с боку на бок, вереницы разномастных автомобилей. У приземистых, с покосившимися наличниками, изб останавливаются джипы и прочие иномарки. По цифрам на правом боку можно играть в города.
А хозяйка позы Елена с мужем Александром уже выставили столы и флягу с напитком, вторая и третья в погребе дожидаются. И улица расцвела мордовскими нарядами, заголосила непонятными песнями. Сколько раз потом садились за столы, никто уже толком не помнил. Кто-то уходил в тенёк, кто-то шел на реку освежиться.
– А вот тут мы с дядей Колей запускали подлодку, – рассказывал моряк Сергей с Северодвинска своему восьмилетнему сыну, попавшему в Алькино в первый раз.
– Правда, батареек ненадолго хватало и однажды она так и осталась где-то в тине.
– А помнишь, как вон там ты сдох во время физкультурного кросса в девятом классе, – подначивал капитана его товарищ, тот самый Колька.
– Да, ладно, – как пацан тушуется тот.
Ходили на родник, вспоминали, вспоминали, вспоминали. Ночное, лошадей, поцелуи, страдания.
Механизатор Валера кормил блинами со стола огромного пса. Тот сглатывал их, не жуя. А Валера кому-то доказывал.
– Человек свободен в одном только моменте: или туда или сюда. Зачем мы каждое утро встаем? Да надо, я обещал. А потом вдруг понимаешь: чепуху обещал. Зачем? Деньги, еще что-то. И все начинает из рук сыпаться. Нужна простота какая-то. Как есть, так есть. Вот я не мог, потом мог, потом опять не мог. Курил, не курил, опять закурил. Вечная борьба, как говорили мудрые: «Праздник каждого дня – удаление от греха». На этих словах он положил щеку на стол и уснул.
Кругом, разбившись на кучки по интересам, плясали, перебивая друг друга, что-то рассказывали. На закате флягу с гущей, продев в крышку палку, отнесли в соседнюю избу, деду Игнату. Но он ее не принял. Изготовить триста-четыреста литров на следующий год, для этого надо и силы и средства. У него не было ни того ни другого От задней калитки, с забитого сорняком огорода, дядя Игнат, долго смотрел, оперевшись на бадик, как флягу отнесли в поле и с мордовскими молитвами предали закваску пашне. Земля равнодушно впитала. А улица лишилась этого праздника навсегда. Такова традиция. Но почему-то не было грустно. Пусть не этот праздник, но какой-нибудь другой, например, Троица, которая есть и будет, все равно поманит сюда.
А потом мы увидели водителя, который нас подбросил. Он оказался директором школы в соседнем селе.
– Две уже закрыл, – даже как-то виновато сказал он.
– То есть?
– Ну, только приду, начну что-то там придумывать, внедрять – школе через год каюк, упраздняют, – говорит он. – Вот и в этой дорабатываю учебный год и все. Правда, сюда, в Алькино, зовут. Но я противлюсь. А ну как закроется, меня тут проклянут.
Он немного помолчал.
– А тут, извините, родина.
– Да что вы знаете про деревню? – просыпается опять механизатор Валера. – Она же неисчерпаема, как хороший колодец. И все, что вы про нее придумаете, будет куцым, клешированным штампом. Как говорил, Шекспир, слова одни скрывают всегда слова другие.
Я смотрю на дядю Федю.
– А что, да, он у нас знаешь какой начитанный.
– А Бунин ваш – рефлексирующий слюнтяй, – почему-то говорит Валера и опять засыпает.
Звезды над головой, хоть охапками рви, как ромашки. На краю стола горит старый фонарь «Летучая мышь». О стекло звенит мошкара, кукушки где-то в отдалении никак не уймутся. Женщины, позвякивая монистами, убирают посуду. На скамейке только мы и Валера.
– Жену иногда пугаю, – мямлит он. – Мол, надоело все, умереть хочу. Но каждому свой срок. Я раньше думал: «Почему на кресте изображены череп и кости?» да потому что от всех твоих желаний, суеты только они и останутся. Христос сказал: «Как застану, так и возьму. Умереть можно каждую секунду. Поэтому всегда надо быть на стреме.
Мы уже собирались уходить, как к столу из темени явилась старуха. На ней была шуба и войлочные сапоги. Потом выяснилось, что это Вера – местная сумасшедшая. В переходе на Пушкинской, в Москве, во время теракта у нее остались муж и дочь, ездившие ей за цигейковой шубой. Теперь в ней вот она и ходит.
– Ты кто? – спросил Валера.
– Жак Ив Кусто, – был ему ответ.
Он наполнил стакан самогоном – себе и ей. Чокнулся. Выпил. И запел.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?