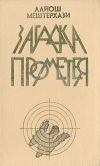Текст книги "Клуб бессмертных"

Автор книги: Владимир Лорченков
Жанр: Контркультура, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– После того как христианство победило, Дионис покаялся и ушел из богов в монахи, став святым Дионисием. Получай, сука!
Прометеус:
Меня постоянно обвиняли в том, что я ненавижу Молдавию. Отчасти это было так. Наверняка Александр презирал Македонию. Что не помешало ему распространить ее власть над огромной территорией. Очень часто то, что ты ненавидишь, остается с тобой. С Молдавией мы пережили бурный роман, который заканчивается сейчас, и, судя по всему, заканчивается плохо для меня. Я любил тебя. Так же, как и Елену, которая сейчас сладко спит на кровати в комнате, под большой синей лампой, которую я повесил в прошлом году. Если бы Елена знала, что я изменил ей – а я изменил, по пути на новую работу в Румынии, – она бы повесила на этой лампе меня. Мне попалась чрезвычайно ревнивая женщина.
Впервые я возненавидел свою страну в 1992 году, когда часть одуревших маньяков с правого берега Днестра принялась уничтожать одуревших оболтусов с левого берега. К счастью, продолжалось это недолго. Я был очень молод, и мне было страшно. Потом я успокоился. Я представлял себя Титаном, который сидит на вершине огромной горы и наблюдает копошение муравьев где-то внизу.
Потом я полюбил свою страну. Отчасти потому, что был отчаянно молод и весь мир улыбался мне пронзительно синим осенним небом Молдавии. Это длилось недолго: я подвизался в газетах и приобрел скверную привычку анализировать. Это должно было помочь мне при определении следующей проблемы: почему в моей стране так плохо?
Я грешил на коррупцию и кумовство, на экономическую отсталость, на иностранное влияние и на менталитет. Затем повзрослел и стал грешить на братьев моих и сестер, тех, кто живет в Молдавии. Я решил: тот, кто оскотинился – желал оскотиниться. Мне не оставалось ничего другого, кроме как возненавидеть народ своей страны. Я чувствовал себя Прометеем, которого улюлюкающие греки тащат к скале. А там уже поджидают Гефест, орел и Зевс. Святая троица.
Естественно, обо всем этом я писал в местных газетах. Это было крайне опрометчиво.
Затем я начал писать книги и был поражен предисловием, которое издатель поставил в начало одной из них. Это была цитата из Чорана. Он, как и я, искренне и от всей души ненавидел страну, его породившую.
Сатурн, пожиравший своих детей, – миф. И распустила его наверняка Гея. Ведь только она, мать-земля, и способна пожирать своих детей.
Я пытался покинуть Молдавию, но у меня никогда не получалось не жить в ней больше месяца. Здесь мне было плохо. В любом другом месте – еще хуже. Сейчас те попытки покинуть родину смешат меня. Это все равно как если бы тяжело больной раком отказался от инъекций морфия. Так и представляю себе диалог между таким больным и врачом:
– Доктор, я бы хотел отказаться от морфия.
– Но ведь у вас без него дикие боли.
– Зато я никогда не стану наркоманом.
Молдавия – изнуряющий наркотик. Она притупляет мои дикие боли. Без нее я умру. Увы, с ней я не могу жить. Здравствуй, родина.
Родиной Чорана была Румыния. Поэтому о Молдавии ничего плохого он не сказал. Написал лишь: «Рай для неврастеников, Молдавия – это провинция, околдовывающая своей какой-то уже невыносимой безнадежностью. В тамошней столице я провел в 1936 году две недели и, не будь спиртного, погрузился в размывающую до костей хандру. Фондан охотно цитировал Баковию, поэта молдавской тоски – тоски куда менее утонченной, но и куда более разрушительной, чем так называемый „сплин“…»
После этого Чоран добавляет: «Для меня и теперь загадка, как это стольким людям удается там не покончить с собой…»
Вот бы кто помог Чорану разгадать эту тайну. Боюсь, ничем не смогу помочь ему: ведь как раз сейчас я собираюсь именно это и сделать. Покончить с собой. Ворон, доев сыр, вспархивает на край балкона и застывает как флюгер.
Ах да, Чоран. Тогда-то я понял, что причина некоей странности Молдавии заключается вовсе не в режиме, который управляет страной в данный момент, не в людях, которые здесь живут, и не в чем-либо еще. Причину загадки Молдавии я нашел в местной газетенке «Скрижали», которая выходила в Молдавии с 1897 по 1899 год. Заметка называлась «Гастроли Мага и Чародея», и рассказывалось в ней – с присущим только Молдавии провинциализмом, пафосом и глупостью – о выступлении некоего фокусника в городском здании Благородного собрания:
«…после же удивительного представления с картами и девицей, кою пожирает тигр, а затем публика рукоплещет, увидав ее, девицу, целой и невредимой, факир Джордеску из Ясс развлекал собравшихся картами и прочими „магическими“ игрушками. Особый интерес публики вызвала некая „Книга судеб“, которую фокусник представил как труд, созданный в начале нашей эры неким римлянином, укрывавшимся в здешних местах от императорского правосудия. Согласно отрывку, зачитанному нам господином Джордеску, по ведовским картам Молдавия и Трансильвания являются самыми отстраненными от Бога местами».
Затем местный фельетонист, который заметку и написал, добавляет: «Публика, усмотрев в этой шутке тонкий намек на отсталость и провинциальность нашего городка, много и долго хлопала румынскому гостю».
Кретин. Хотя чего еще можно ожидать от кишиневского журналиста?
Естественно, я как кишиневский журналист тоже долго смеялся над шуткой заезжего румынского гастролера, уехавшего из города больше ста лет назад. Но потом понял: может, в этом и есть причина? Отстраненность нашей страны от всего. Постепенно я снял с себя груз предрассудков, образования и стереотипов, которые мы выдаем за знания. Посмотрел на Молдавию непредвзято и понял: да, Джордеску был прав, а его слова не были шуткой. Просто его не поняли.
Не поймут и сейчас.
К стыду своему признаюсь, что, сформулировав проблему, я не предпринял ничего для ее решения. Да и что я мог решить? К тому же как раз наступил пресловутый финансовый кризис. Я отправился в Румынию на место новой работы. Денег у меня было немного, поэтому до Унген (приграничного города) добирался на поезде. К сожалению, я неточен. Поправлюсь.
Должен был добраться.
Помешали два обстоятельства. Первое: поезд не доехал до Унген 30 километров и сломался. Вторая: у машиниста я узнал, что Румыния перекрыла границы для граждан Молдавии. А поскольку легального приглашения на работу у меня не было, оставалось только повернуть назад. Или добраться до Унген автостопом, а уже там как-то пересечь реку Прут тайком от пограничников. Я решил, что брошу монету и выпадет решка, то вернусь обратно.
Выпал орел.
Кентавр:
Обычно я бреду, стараясь не поднимать головы. В этом нет смысла. Шоры – такие специальные приспособления по бокам головы – не дают мне ничего видеть. Да мне и не нужно ничего видеть. Когда вы – тринадцатилетний конь в хозяйстве пьяного молдавского крестьянина и на вас пашут сутками напролет, а два раза в неделю еще и заставляют куда-то катить повозку, ничего видеть не захочется.
Наоборот. Захочется ничего не видеть.
Нет, я не жалуюсь. Асклепий, например, никогда не жаловался. А ведь это был лучший мой ученик. И я всегда говорил ему и ребятам из его класса, когда мы прогуливались по берегу моря:
– Смотрите на Асклепия. Он – лучший ученик. Я внимаю ему.
Хотя, помнится, Асклепий все никак не мог взять в толк, почему это я, учитель, внимаю ему, ученику, а не наоборот. На что я терпеливо объяснял: существо разумное просто обязано все время учиться. А если ты станешь учителем, то учиться тебе не у кого, кроме как у своих учеников.
– В чем же тогда смысл учения? – спрашивал Асклепий, недовольно хмурясь.
Мальчик не то чтобы был тугодум (говорю же вам – лучший ученик!). Просто он был нетерпелив и подвержен приступам ярости, как и всякий великий в будущем человек. Он прекрасно меня понимал. Просто его не устраивало то, что я говорю. Что ж, пришлось научить его и терпению.
– Терпение, Асклепий, – скрестив руки на груди, я легонько стучал копытом в песок, – важнейшая добродетель для тебя. Знаешь, почему? Все просто. Остальными добродетелями ты уже обладаешь. Научись же терпению.
– К чему оно мне? – вопрошал будущий отец медицины.
– Если у тебя не будет терпения, – терпеливо учил я Асклепия, – ты никогда не воодушевишь больного. Ведь все, что нужно ему: лишь терпение. Обладая им, можно перенести любую болезнь.
Асклепий улыбнулся.
– Из тех, что лечатся, – ты забыл добавить, – лукаво улыбнулся он.
– Все болезни лечатся, – отрезал я, – и конец страданиям положит если не смерть, то выздоровление.
Забавно. Я вспомнил Асклепия именно сейчас, когда мой хозяин едет на мне в Калараш, чтобы сдать меня на мясокомбинат. Он поступает справедливо. Я прихрамываю на левую заднюю ногу, суставы ее гноятся, кость очень рыхлая, и болезнь будет только прогрессировать. Уж Асклепий бы это подтвердил. Я бреду терпеливо, как всегда.
Но в тот раз все было по-другому. Хозяин, подвыпивший Гица, почему-то разозлился и огрел меня кнутом по крупу. Обычно я на это стараюсь не обращать внимания, но в тот день, говорю же вам, все было по-другому. Поэтому я встал на дыбы (крепления старенькой повозки легко поломать), предварительно взбрыкнув задними копытами и… застыл. Я увидел Прометеуса.
Он стоял на краю дороги. Не узнать его было нельзя: среднего, скорее чуть ниже среднего роста, с жесткими коротко стриженными волосами – не подстригай он их, они бы стали виться, как семь тысяч лет назад, и главное – глаза. Все те же глаза. Бездонные и равнодушные ко всему, черные, как чрево Геи, пожравшей своих детей. Конечно, Геи! Нет, Сатурна в этом упрекают зря. Уж мне-то вы можете верить.
Я снова спокойно встал, и хозяин, огрев меня еще пару раз, дернул вожжи. Прометеус махнул рукой, и Гица остановился. Сегодня я приносил ему только прибыль: деньги, вырученные за мясо, везли сейчас его на мясокомбинат, да еще и подвозили попутчика за деньги же.
Молдаване практичны, как афиняне. Будь у них, молдаван, выход к морю, как купцы и рабовладельцы они превзошли бы финикийцев. Моря у них нет. Они довольствуются вином.
Мы не обмолвились с Прометеусом ни словом. Даже Гица, завзятый весельчак, не сумел разговорить попутчика. А я все думал, узнал ли меня Прометеус? Впрочем, он мог и не видеть моего лица. Ведь в тот день, когда мы с мальчиками пришли на экскурсию к Олимпу, Прометей висел высоко. Под самыми облаками. Было жарко, и по нему стекал пот.
– Ученики, – сказал я, – взгляните на этого несчастного. Боги всего лишь заточили его тело. Но душу свою он заточил сам.
– Что сделал Прометей? – спросил Асклепий.
– Он позволял себе мыслить.
– Но ведь и мы мыслим, – возразил кто-то, – разве не этим мы занимаемся на уроках философии?
– Разница есть. – Я закашлялся и, прочистив горло, продолжил: – Мы занимаемся полезными мыслями. Тем, что найдет себе практическое применение. К примеру, Асклепий размышляет о медицине. Гор размышляет о гончарном искусстве. И так далее.
– О чем же размышлял Прометей, что его наказали так жестоко? – ужаснулся один из учеников.
– Сказавший это будет висеть рядом с ним, – отрезал я, – а теперь идемте.
В это время над нами появилась птица. Дети в ужасе затихли, наблюдая, как она кружит около Прометея, а потом садится рядом с ним. Правда, самый зоркий из нас, Асклепий позже говорил, что птица мало похожа на орла, скорее на ворона. Но я велел ему замолчать.
Интересно, к какой горе он едет сейчас?
Я всегда уважал Прометея, хотя и боялся говорить об этом вслух. Нам, кентаврам, куда сложнее висеть на скале, чем людям. Но в душе я всегда любил Прометея за то, что он бросал вызов невозможному. Мы подвезли попутчика, после чего тронулись к мясокомбинату. Я все повторял: вызов невозможному, вызов невозможному, – а вокруг мне чудились лица учеников, запах цветов и моря.
Я не выдержал и побежал.
Асклепий:
Я вымыл руки и закурил, ожидая следующей партии. Двести лошадей было осмотрено, ни одна из них не являлась переносчицей заразы. И стало быть, на колбасу они вполне годились. Я курил, стараясь не смотреть на животных, которых вели на бойню после ветеринарного осмотра. Увы, от такой работы раз в месяц я не мог отказаться. Молдавия переживала тяжкие времена, и лечение собак и кошек меня уже не спасало.
Этому ли учил нас Кентавр?
Я докурил, затоптал окурок в грязь резиновым сапогом и повернулся к подбежавшему работнику мясокомбината.
– Тут коня вели, а он взбесился, – крикнул он, – лучше вам уйти, еще сюда примчится, затопчет!
Мы выбежали за ворота, и я увидел, как от комбината уносится галопом мой учитель. Сомнений не было. Это Кентавр.
Кентавр бежал. Он не убегал от смерти, я это ясно видел, да учитель никогда и не боялся ее.
Кентавр просто бежал, не для того, чтобы успеть куда-то, как бежим мы, задыхаясь и злобно поглядывая на часы, да у него и часов-то не было, и Кентавр не сбивался на быстрый шаг, чтобы затем, передохнув, снова бежать. Ему незачем было отдыхать, потому что он не уставал, а просто бежал. Бежал, потому что хоть он и был старым, умирающим Кентавром, но жизнь его и душа, да и сам он были слишком велики для этого мира. И кажется, вздохни он по-настоящему, полной грудью, и мир этот разлетится на мелкие осколки, как Вселенная во время Великого Взрыва, и семечко, что в душе Кентавра, разрастется до масштабов нового космоса. И поэтому, а может быть еще и потому, что ему хотелось просто бежать, он бежал.
Он не несся стрелой и не сбивал с ног людей, пытавшихся поймать его. Лицо учителя было немного наивное, как и у всех детей, кто не перешагнул черту совершеннолетия и заклинания «теперь пора подумать о том, как ты станешь зарабатывать на кусок хлеба, малыш». Он был полон собой, счастьем жить с самим собой в мире и согласии. Он получал удовольствие от того, что бежал.
Кентавр перепрыгивал дыры в асфальте, огибал деревья, забавляясь, бежал по тонкой кромке тротуара и даже несколько минут опережал автобус, еще не разогнавшийся после остановки, что находится напротив мясокомбината. Он бежал так, словно это была не грязная провинциальная дорога, а побережье моря, лесная тропа или склон холма. Он бежал бы по Луне или в воде. Для него существовал только он сам и его бег.
Впереди него под деревом стоял маленький горбун. Когда Кентавр метнулся в сторону, горбун бросил между копыт беглецу шест. Кентавр упал, ободрав бока в кровь. И уже лежа на земле, Кентавр бросил взгляд на меня. Его тащили туда, где шел забой, а я все не мог оторваться от глаз учителя. Они были веселы. Но в них не было прежней легкости. И я понял, что Кентавр уже не так счастлив, как раньше.
Иначе он бы не дал себя поймать.
Агасфер:
Они ничего не поняли. Конечно. Ничего другого я от них не ожидал. Робкие смешки, затем смех, и наконец оглушительный гогот. Но поначалу публика напряглась: после моих слов «по ведовским картам Молдавия – Богом забытое место» их лица застыли. Им показалось, что прошло несколько мгновений до того, как городской голова, с целью разрядить обстановку, начал смеяться. И видели бы вы, какое облегчение было на лицах публики, когда они решили свести мои слова к шутке, решив, что это и есть шутка. Это как если бы вампирам вдруг сказали, что они вампиры. Они бы испугались, а потом решили посмеяться над страшными словами и продолжили вгрызаться в чужую плоть. При этом воображая, что на столе – тропические фрукты.
Я удивляюсь сам себе. Несмотря на то что меня предупреждали о нежелании жителей Молдавии признавать очевидные факты, я все-таки надеялся на то, что меня поймут.
– Знаешь, почему тебя так тянет в Молдавию, Агасфер? – спросил меня Великий магистр нашего ордена, когда я собирался в Кишинев.
– Нет, ваше сиятельство, – скромно ответил я.
– Потому что ты – молдаванин.
Я неискренне и долго смеялся. Ничего смешнее его сиятельство Дракула не мог сказать. Ведь он сказал это несчастному еврею, проклятому две тысячи лет назад на пыльной улочке Иерусалима. Улочке – сильно сказано. То был песчаный пустырь. На нем прилепились друг к другу два маленьких глинобитных домика. Их близость была тем более удивительна, что места на пустыре было достаточно. Все просто: в одном домике жили наши родители, а в другом – мы, я и моя жена Ниса. Я построил наш дом совсем рядом с родительским, чтобы слышать, как по ночам ворочается женщина, давшая мне жизнь. К тому же сновидения матери меня всегда успокаивали. А по утрам, еще когда солнце только собиралось взойти над городом, Ниса нежно будила меня, чтобы я поел и отправлялся работать. Мы звали родителей. Глядя, как они торопливо жуют пищу немногими оставшимися зубами, я испытывал нежность. Мы были счастливы, хоть Бог не дал нам детей.
– Мои родители будут моими детьми, – сказал я Нисе, когда мы узнали от знахаря, что она бесплодна.
Я мог бы развестись – законы позволяли это, – но Ниса слишком глубоко поселилась в моем сердце. Да, я говорю штампами, но лишь потому, что счастье – это застывшая и оплавленная форма бытия.
Никаких интерпретаций оно не допускает. Счастлива будь, Ниса.
Родители доели, и я, вымыв руки, вышел из дома, согнувшись в двери. Ее я сделал маленькой специально, чтобы в помещении было теплее. Ночи холодали. И потому солнечные лучи, вперившиеся мне в грудь, были особенно приятны. Я вышел на улицу и вдохнул, поблагодарив Бога за Нису, родителей и дом. После открыл глаза и почувствовал толчок сзади. Обернувшись, я увидел Его.
Нет, конечно, Он толкнул меня крестом не специально. Бедняга просто упал после удара бичом, и слишком тяжелый крест поволок Его за собой. А впереди как раз стоял я.
– Добрый человек, – взгляд у Него был совершенно безумный, я видел, как Он боится смерти, – дай мне присесть у стены твоего дома.
Я молча глянул на стражников. Они не возражали. Приподняв крестовину, я поставил Его на ноги и прислонил к стене. Приговоренный к казни беззвучно заплакал: кровь текла по Его лицу из ран, оставленных терновым венцом, и смешивалась с потом. От него исходило ужасное зловоние. Так пахнет смерть. Из дома вышла Ниса и молча протянула к Его рту миску с водой.
– Эй, – лениво окликнул жену стражник, – насчет воды мы не договаривались.
– Я знаю, – Ниса улыбнулась, и я влюбился в нее снова, – знаю.
И убрала миску. Но Он – позже мне сказали его имя – Вар-Равван, – уже успел попить. И устало закрыл глаза, опершись о стену.
– Дальше, – мягко сказал я, – будет только хуже. Поторопись, и пусть все скорее закончится.
Он кивнул и, не открывая глаз, пошел дальше. Стражники последовали за Ним. Защелкали бичи. Приговоренный ступал тяжело, по щиколотку уходя в песок. Больше я ничего о Нем не слышал. Нет, Он, конечно, стал очень известен, и позже Его по ошибке назвали Христом. Но тот на самом деле был сын Бога, и Его не распяли. Он просто исчез в саду, когда за Ним пришли стражники. Распяли этого. Вар-Раввана. И когда Он уже уходил с пустыря, то обернулся и крикнул:
– За доброту вам воздастся сторицей!
С тех пор я и стал Агасфером. Многие принимают меня за цыгана. На еврея я мало похож. Да уж, скорее цыган. Я брожу по миру и все жду, когда милосердие закончится и я обрету, наконец, покой.
Хотя, конечно, понимаю, что все это – странствия и калейдоскоп новых лиц – есть не что иное, как грезы. На самом деле вот уже две тысячи лет я сижу в темном глиняном домишке без окон и жду, когда войдет Ниса. Ее все нет, и голова моя поседела. Благословенна будь, моя любовь. Ниса, о, Ниса!
Она состарилась и покрылась морщинами, и я тоже, но глаза ее, молодые и ласковые, всегда глядели на меня из-под этой съежившейся маски. Она умерла в 89 году от Рождества Христова. Мне не на что жаловаться: жизнь ее была долгой. Моя, увы, стала вечной. Когда я не умер в первый раз, то испугался и все понял. До тех пор я и не вспоминал случай с приговоренным к смерти, которому позволил отдохнуть у своего дома, а Ниса дала воды.
Почему Он не дал вечной жизни Нисе?
– Всегда так! – ударил по столу кубком Магистр и выругался. – Да когда же они поймут, что любящие сердца разнимать нельзя?
Мы сидели в замке у села под названием Лаку Рошу, и Дракула только что прирезал пленного турка. Нет, кровь его пить он не стал, потому что хорошо позавтракал. Просто здесь, объяснял граф, пленных брать не принято. Таковы формальности, и их следует блюсти. Шел 1346 год.
Мы познакомились только что. Вернее, за несколько часов до этого. Я шел ранним утром по дороге, ведущей из горной Румынии в Молдавию. Оттуда я собирался податься в Константинополь. Европа становилась все опасней. Нет, смерть мне не грозила – как она может пугать Вечного жида? – просто я терпеть не мог физических мук. А уж этим меня не обделили. Меня убивали практически все эти две тысячи лет.
Столетием позже меня поджарили в металлическом быке польские шляхтичи. Затем нашли, полуживого, казаки Хмельницкого и утопили в Днепре, предварительно вырезав сердце. Меня избили тупыми концами копий ландскнехты графа Оттона, и было это в 987 году. Мой дом сожгли, а меня повесили, во время Первого крестового похода. Меня выселяли из Англии при короле Эдуарде, и когда я, устав, дико устав от странствий и переездов, крикнул, что остаюсь, меня привязали к металлическому колесу. Его спустили с холма по каменистой дороге. Мне перерезал горло испанский наемник, когда я пытался спрятаться под Римом от солдатни гвельфов. Сторонники гибеллинов не стали со мной возиться: один из них просто пристрелил меня, чтобы опробовать новый арбалет. Это был самый гуманный из всех моих убийц. Потом все продолжилось. Я уж не говорю о Второй мировой войне. О своих гибелях в концентрационных лагерях Дахау, Равенсбрюк и Треблинка. О Румынии, где меня расстреляли в 1944 году во рву под городом Яссы и вырвали из моего охладевшего рта золотые коронки. О Бендерах, от которых меня с двумя тысячами евреев гнали под палящим солнцем и не давали воды. О Кагуле, возле которого нас, наконец, загнали в вагон, пол которого был посыпан негашеной известью, – нас было 323 человека, а вагон был рассчитан на сотню от силы, – а потом в щель стали лить воду с криками «наконец-то вы напьетесь, жидовские морды». О Бельгии, где я копал противотанковые рвы, а когда совсем обессилел, меня и два десятка моих собратьев по несчастью бросили в ров живьем и стали ездить по нам на танке, проверяя, хорошо ли мы работали.
Везде меня убивали.
Успокойтесь! Было не так страшно, как вы думаете. Я всего лишь закрывал глаза и, чувствуя физические страдания, видел стены темного дома из глины. А Ниса все не входила и не входила. Она умерла у меня на руках, без мучений и слез. Она надеялась, что вскоре мы увидимся: я был стар, как и она, и должен был умереть со дня на день. Я тоже ждал этого: мое бессмертие еще не дало о себе знать.
Поначалу я пытался занять себя хоть чем-то. Но потом понял, что это спасает только в течение одного срока человеческой жизни. Если вы живете еще дольше, вам надоедает даже суета. Я мог бы уйти в лес, лечь под дерево и спать там тысячелетия. Но это ничего не изменило бы: я по-прежнему сидел в комнате и ждал Нису. Тогда я принялся торговать.
Я ходил с караванами в Китай и обратно по Шелковому пути в Европу. Я плыл с купцами в Персию и волочил ладьи с киевлянами. Я пристроился к крестоносцам во время Второго похода и даже сражался с сарацинами. На мне были коробки с товаром. В моих руках был посох. Я ходил, ходил и ходил. В Румынию я попал тоже по торговым делам, когда брел утром 23 ноября 1346 года по крутому серпантину у местечка Лаку Рошу. Я тогда еще не знал, что нахожусь в непосредственной близости от замка того, кто, как и я, получил вечную жизнь в награду.
Что?! Наказание?! О чем вы. Я ведь, кажется, достаточно ясно объяснил: мне даровали вечную жизнь за то, что я, испытывая к человеку сострадание, дал ему передохнуть у стены моего дома. А разве не на это, вечную жизнь, вы рассчитывали, когда христианство завоевало ваши умы? Граф Дракула тоже получил вечную жизнь в награду. Так была отмечена его достойная похвалы борьба с турками-мусульманами. А все эти легенды о погибшей невесте и о том, как граф проклял Христа, – поздний вымысел венгерских купцов. Дракула не позволял им торговать в своих владениях, вот они и, выражаясь языком нынешним, слили на него компромат.
Но Дракулу я увидел чуть позже. Было еще очень холодно, и я дул на озябшие руки, вспоминая, как Ниса прижимала их к груди. Тут-то в левую ладонь мне и вонзилась стрела. По оперению я сразу понял: это не турки. Так оно и было: на меня напали местные валахи из села, входившего во владения Дракулы.
– Проклятый венгр! – кричал на меня старший отряда. – Опять вы суетесь к нам со своей торговлишкой!
А когда они сорвали с меня шапку и увидели кучерявые волосы, радости их не было предела. Сначала меня избили. А я все смотрел на ручей, текший вдоль дороги: он был покрыт желтыми листьями, но то и дело эту золотую фольгу прорывала игривая форель, прыгающая вверх. Потом поставили на колени, заставили снять штаны и оскопили. Взрезали живот и, достав кишки, обмотали их вокруг моего горла. Само собой, коробку с товарами у меня забрали.
– Жиды распяли господа нашего, Иисуса Христа, – торжественно сказал один из крестьян-воинов, – так давайте же распнем этого жида!
Так они и поступили. Времени, чтобы поднять меня на вершину горы и там распять, у них не было. Поэтому добрые люди распяли меня на подъеме дороги. На дереве. Это была осина. Потом они ушли.
Я висел, умирал и смотрел, как из леса, которым, как степи травами, проросли горы, осторожно выходит лось. Где-то за ущельем загоралось солнце. Но сюда оно – я знал – не придет. В этих местах всегда туман. Места это безлюдные и, насколько я знаю – хотя уже лет сорок не выезжаю из Тель-Авива, – такими же и остались. Я висел и думал о том, каково было Прометею на скале. Наверняка скучно. У него не было женщины. У меня нет женщины. Ниса.
Ручей ревел, и под его шум я уснул, а потом перестал мучиться и умер. Затем я воскрес, но даже не попытался оторвать руки от дерева. Кишки мне не мешали, напротив, даже грели шею. И тут я увидел его. Мужчина в нарядном платье на холеном коне смотрел на меня, а конь все крутился, но всадник не позволял ему отойти. Только тогда я почувствовал, насколько устал.
– Убей меня, – попросил я, – убей.
Он с размаху опустил на мою шею саблю, но я, конечно, не умер. Дракула – а это был он – усмехнулся, вытер сталь шелковым платком и сказал:
– Еще один бессмертный, чтоб вас всех!
Спустя час мы сидели в его замке, пили вино и беседовали об ордене. Как объяснил мне граф, орден включает в себя тех, кто обрел бессмертие. Причем не важно, физическое или метафизическое. Проще говоря, я, Вечный жид, который существует якобы реально, имею такое же право на вступление в орден как Наполеон, который существует в памяти людей. И стало быть, существует.
– Орден бессмертных и героев, – скривился граф и смахнул саблей со стола голову турка, – а я, представь себе, его возглавляю.
Тогда же граф рассказал мне все о Молдавии и Трансильвании. По словам Дракулы – мне пришлось слушать очень внимательно, поскольку его сиятельство нажрался как свинья и плохо выговаривал слова, – эти две местности (странами их назвать трудно) действительно обладают некоей особой силой. Природа ее не ясна даже самым посвященным. Например, когда граф после своей официальной смерти, уже в 1912 году, совершил паломничество на Алтай, местные ведуны оказались перед загадкой Молдавии и Валахии бессильны.
Но признали, что их ведовство в сравнении с ведовством молдавских волхвов – ничто.
– На специальной карте, – тыкал в меня пальцем с двумя перстнями Дракула, – созданной еще до создания нашего мира, указаны всего два места. Остальное помечено тьмой.
Я осмелился взглянуть на карту и ужаснулся. Лист пергамента был действительно темным. Но два места – о которых и говорил мне граф – были помечены не светом. Они были помечены еще более темным цветом. Два черных пятна на ровной серой поверхности. Стало быть, Молдавия и Трансильвания…
– Это зачарованные места, – просвещал меня граф, – на которых лежит отпечаток потусторонней силы. Нет, конечно, я говорю не о вампирах, суккубах, инкубах и прочем дерьме. Уж мы-то с тобой в эти сказки не верим! Не так ли?!
Мы – Вечный жид и самый ужасный вампир мира – рассмеялись. С какой стати нам верить в небылицы?
– Со временем, говорят нам ведовские карты, – продолжал Дракула, – Трансильвания потеряет свое значение. Это будет скучная провинция Румынии, населенная венграми. Они то и дело будут митинговать, требуя для себя особых прав. Для нас с тобой это не имеет никакого значения. К тому же Трансильвания будет слабо заселена. Постепенно она потеряет свой черный цвет и станет серой. Такой же, как вся остальная земля. И ее, Трансильвании, силу заберет… Правильно – Молдавия!
Граф торжествующе захохотал и опрокинул со стола кубок. Слуга, стоящий навытяжку в углу комнаты, даже глазом не моргнул. А Дракула, встав, добавил:
– И тогда у нас с тобой, Агасфер, появится шанс. Один-единственный. Шанс потерять вечность. Шанс вырваться из этого жидкого горячего стекла. Шанс умереть.
По словам Дракулы выходило, что к моменту, когда Молдавия останется единственным проклятым местом на территории Земли, в эту страну потянутся, словно птицы на зимовку, герои. Один за другим они будут приходить в Молдавию, чувствуя, что в этой стране что-то произойдет. Но что?
– Прометей! – кричит Дракула и ожесточенно рубит свой стол. – Последняя искупительная жертва. Мы разбудим его ото сна и объясним ему, кто он такой. Он должен быть нашим агнцем. Это справедливо, не спорь. С чего все началось? Спроси у любого из ордена, он и тебе ответит…
Началось все, по словам Дракулы, следующим образом. Я в истории не силен, поэтому могу ошибиться в именах. Но уверен вы меня поймете. Итак, в 273–267 годах до Рождества Христова некий греческий герой по имени Прометей бросил вызов богам.
Удивительно, учитывая, что богов нет. Вернее, они есть, но лишь потому, что мы их выдумали. Стало быть, Прометей бросил вызов нам. Он позволил себе мыслить. Большинству людей, вернее обывателей, это было непонятно.
Ибо как существует «экзистенциальная ярость творца», так и существует «экзистенциальная ярость обывателя».
Что это такое? Это ярость, которую обыватель испытывает, сам не понимая отчего. Что в принципе роднит обывателя с творцом. Различие обывателя и творца состоит в том, что последний все-таки пытается выяснить причину этой ярости. Таких людей называют мятущимися гениями. Тех творцов, которые не только выясняют причину своей «экзистенциальной ярости», но и находят ее и, говоря образно, держат в руках, считают состоявшимися гениями.