Текст книги "Очерки истории европейской культуры нового времени"
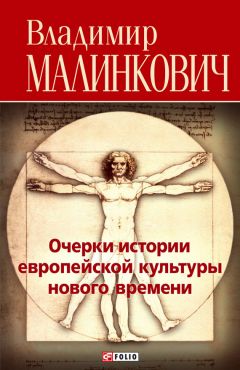
Автор книги: Владимир Малинкович
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Чего же все-таки хотел Лев Николаевич?
Первое правило милосердия в том, чтобы довольствоваться малым, потому что только тот, кто доволен малым, может быть милосердным к другим.
Джон Рёскин
Очевидно, что Толстой, когда он писал свою статью о Шекспире, был глубоко религиозным человеком (что было, кстати, не типично для образованных людей того времени, особенно на Западе). Но его религия не была привязана к каким-либо церковным традициям и многими рассматривалась как своеобразное чудачество гения. Толстой не признавал права церкви (католической или православной) на посредничество в отношениях между человеком и Богом, не верил в ее способность быть единственным комментатором христианского учения. Иисус был для него не ипостасью Бога, а лишь одним из учителей человечества (правда, величайшим). Православные иерархи по-своему были правы, отлучив Толстого от церкви. Толстой верил в Бога, которого понимал как «всемирное невидимое начало, дающее жизнь всему живому». В душе каждого человека, считал он, есть нечто, что связывает его с началом всего сущего. Чтобы почувствовать эту связь, нужно освободить свою душу от всего того, что «препятствует любви к людям и сознанию своей божественности». Это «грехи, т. е. потворство похотям тела; соблазны, т. е. ложные представления о благе; суеверия, т. е. ложные учения, оправдывающие грехи и соблазны».
Религиозно-нравственный закон, по Толстому, совсем прост и един для всех: «Всякий человек не должен делать того, чего себе не хочет». Если люди осознают необходимость следовать этому закону, все у них будет хорошо. И не надо для этого никаких правовых норм, никаких общественных организаций. «Все политические, международные, общественные, а также и социалистические учения предрешают те формы, в которые будто бы должна сложиться жизнь людей, и требуют от людей усилий для достижения именно этих, вперед определенных форм. Религиозно-нравственный закон, не предрешая никаких форм жизни, ни семейной, ни политической, ни международной, ни экономической, требует от людей только воздержания во всех областях жизни от поступков противных этому закону, одним исполнением этого закона достигая всего того блага, которое тщетно обещают все политические, а также и социалистические учения», – писал Толстой перед смертью в своей статье о социализме (1910 год).
Если бы все жизненные задачи человека свелись к известной триаде – посадить дерево, построить дом и вырастить сына, то для их реализации простого воздержания от поступков, противных высшему нравственному закону, возможно и хватило бы. Но достаточно ли одного воздержания для того, чтобы сделать жизнь отца и сына полнокровной? Вряд ли.
Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы не совершать безнравственных поступков, человек обязан постоянно прислушиваться к голосу высшего закона, звучащего в его душе. Но чтобы четче различать этот голос, следует освободить душу от «лишнего» фона, т. е. отказаться от многих чувственных ощущений, обогащающих нашу жизнь, делающих ее радостной и многоцветной. Найти черту, ограничивающую пространство, в пределах которого естественное стремление человека к чувственному наслаждению не угрожает интересам других, очень и очень трудно. Главное, этого нельзя сделать, опираясь только на свой собственный жизненный опыт. Помочь здесь может только беспрерывный обмен опытом между людьми, причем на уровне не только малых социальных групп, но и больших объединений, таких как социальный класс, гражданское общество, народ, нация, все человечество. Толстой же, как мы знаем, был уверен: никакие общественные организации, никакие социальные, политические и экономические учения, обобщающие и развивающие коллективный опыт больших групп людей, вовсе не нужны. Надо всего лишь прислушаться к гласу Божьему в своей душе. «Верьте себе, и живите, напрягая все силы на одно: на проявление в себе Бога», – советовал Толстой вступающим в жизнь юношам и девушкам. Одной этой веры, уверял он, достаточно: «И вы сделаете все, что вы можете сделать, и для своего блага, и для блага всего мира».
Несколько иным путем предлагал в свое время идти Иммануил Кант, часто цитируемый Львом Николаевичем. Кантовский категорический моральный императив содержит в себе тот же постулат, что и религиозно-нравственный закон Льва Толстого, но звучит он конкретнее и, я бы даже сказал, практичнее: «Поступай только согласно той максиме, руководствуясь которой можно пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Если быть точным, у Канта в данном случае речь идет о высшем законе природы, но природные законы воле человека неподвластны, и надеяться люди могут лишь на воплощение религиозно-нравственного закона в их социальной жизни, на то, чтобы он стал основным законом человеческого общежития. Для этого, полагал Кант, необходим переход общества из внеправового (естественного) состояния в гражданское (правовое). В правовом же обществе должна была бы господствовать так называемая «распределяющая справедливость», а гарантировать ее соблюдение призваны законодательная, исполнительная и судебная ветви государственной власти. Толстой, зная о бесконечных злоупотреблениях властью со стороны государства, этот путь отвергал. Кант и его последователи о таких злоупотреблениях, конечно, тоже знали, но государственную власть, тем не менее, не отвергали, а настаивали (на мой взгляд, вполне оправданно) на необходимости совершенствования механизма государственного управления. Они рассчитывали, что государство, в конце концов, станет общемировым, а на процесс принятия политических решений в таком государстве смогут активно влиять структуры гражданского общества.
Толстой же полагал, что религиозно-нравственный закон был и будет единым для всех всегда, т. е. он неподвластен времени и, следовательно, не зависит от исторических перемен. По-видимому, Лев Николаевич ошибался и, не исключено, догадывался о своей ошибке. Во всяком случае, в его последней книге «Путь жизни», где собраны религиозно-этические наставления самых выдающихся, с точки зрения Толстого, мыслителей человечества, зияют огромные временные провалы. Помимо евангелистов, Толстой чаще всего цитирует Иммануила Канта (35 сентенций), Блеза Паскаля (около 30 цитат), Ангелуса Силезиуса (25), Марка Аврелия, Артура Шопенгауэра, Ральфа Уолдо Эмерсона (по 17), Эпиктета (14), Джона Рёскина и Анри Амиеля (по 13), Сократа, Сенеку, Лао-цзы, Конфуция, Магомета, Григория Сковороду и Генри Джорджа (по 11), Генри Торо и Уильяма Чэннинга (по 8). Проанализировав этот список, нетрудно заметить, что Лев Толстой явно отдает предпочтение мыслителям древности (семь мудрецов) и Нового времени – того, что наступило после Реформации (одиннадцать человек). Эпоха Средних веков – время тотального господства в Европе христианского мировоззрения – почти пропущена (несколько раз цитируется лишь Франциск Ассизский). Почти нет в книге гуманистов Ренессанса – однократно цитируется Эразм Роттердамский, да еще в качестве объекта острой критики упоминается Макиавелли. Из лидеров Реформации здесь присутствует только Лютер (цитируется всего лишь два раза). Что же касается Нового времени, то в книге почти не представлены позиции просветителей, нет Гегеля, Шеллинга, Гете, позитивистов, марксистов и ницшеанцев, а между тем, именно эти люди больше других влияли на мировоззрение европейцев в эпоху модерна. Так что полагать, будто Толстой действительно собрал в своей книге образцы мудрости всех времен и народов, нет, пожалуй, никаких оснований.
Что считать низким, а что высоким в искусстве, напрямую связано, по мнению Толстого, с тем, какую цель ставит перед собой человек в этом мире, то есть зависит от его религиозных воззрений. В статье «Что такое искусство?» Лев Толстой пишет: «Оценка достоинства искусства, то есть чувств, которые оно передает, зависит от понимания людьми смысла жизни, от того, в чем они видят благо и в чем зло жизни. Определяется же благо и зло жизни тем, что называют религиями… Если чувства приближают людей к тому идеалу, который указывает религия, согласны с ним, не противоречат ему, – они хороши; если удаляют от него, не согласны с ним, противоречат ему, – они дурны».
Самостоятельного значения эстетические ценности, по мнению Толстого, не имеют. Все критерии красоты весьма нечетки, и даже самые выдающиеся мыслители не могут найти в этом вопросе общего знаменателя. Красота (т. е., по Толстому, получаемое от искусства наслаждение) стала «мерилом хорошего и дурного искусства» только тогда, когда элита утратила веру в церковное христианство. Произошло это во времена Ренессанса, который пытался возродить античные ценности. Греки же, как полагал Толстой, ошибочно считали, будто все прекрасное непременно является добром. «Правда, передовые мыслители, Сократ, Платон, Аристотель, чувствовали, – писал Толстой, – что добро может не совпадать с красотой. Сократ прямо подчинял красоту добру; Платон, чтобы соединить оба понятия, говорил о духовной красоте; Аристотель требовал от искусства катарсиса, то есть нравственного воздействия на людей, но все-таки даже эти мыслители не могли вполне отрешиться от представления о том, что красота и добро совпадают».
Словом, представления Льва Николаевича о красоте и искусстве никак не походили на то, о чем говорили и писали гуманисты Ренессанса. Так, может быть, Толстой вовсе не был гуманистом? Был, конечно, да только его гуманизм радикально отличался от гуманизма деятелей Возрождения.
ГуманистТолстой против гуманистов Возрождения
Толстовство иногда называют русской версией Реформации. Если это верно, то только отчасти. Толстой не верил в «мистическую мельницу», перемалывающую зерна Моисеева завета в муку евангельских истин, и не считал книги Ветхого Завета священными. Христианское вероучение он не связывал с ветхозаветными традициями. Как и лютеране, Толстой верил в способность человека напрямую, без посредничества церкви, постигать Закон Божий. Несомненно, близки ему были и пуританские настроения первых протестантов. Но он жил в XIX веке, а не в XVI столетии. Протестантизм в это время был уже совсем не тот, что в век Реформации, серьезно противостоять широко распространившемуся безверию он не мог. Более того, он к этому безверию подталкивал. Толстой не мог не понимать, что именно лидеры Реформации – Лютер и Кальвин – духовно оправдали переход к капитализму, соблазняющему человека возможностью материального обогащения, подрывающему, благословляя конкуренцию в борьбе за материальные блага, людскую солидарность.
Не забудем, что родина Толстого – Россия, которая в силу исторических и географических обстоятельств не просто отставала от Европы (там не было ни Ренессанса, ни Реформации), но и имела свою выраженную специфику. И связана была эта специфика прежде всего с тем, что в начале XX века большая часть населения страны (крестьянство) все еще жила по правилам передельной крестьянской общины, в которой сохранялись (вопреки экономической целесообразности) духовные приоритеты. На этих крестьян в первую очередь и ориентировался Лев Николаевич. На них, да еще на русскую интеллигенцию, которая, в большинстве своем, исповедовала явно религиозную идею сочувствия страждущим и бескомпромиссного служения единым для всех ценностям. К тому же, эта интеллигенция всегда остро реагировала на злоупотребления властей предержащих. Откровенно утопические, казалось бы, идеи Толстого, были настолько популярны в России, что в начале XX века его авторитет в стране сравнивали с авторитетом самого императора.
Предельный максимализм религиозных воззрений Толстого, к сожалению, превращал все его учение в утопию. Но это был максимализм весьма благородного свойства. Больше всего на свете, больше, чем в Бога, верил Лев Николаевич в духовный потенциал человека. В 1906 году он записал в книжке для заметок: «Есть ли Бог? Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа». А два года спустя там появились такие слова: «Богом я называю в своей цельности то, что я в ограниченном состоянии сознаю в себе». И что способен осознать всякий человек.
Иное представление о месте человека в мире предлагала в свое время идеология Возрождения. В первые десятилетия Ренессанса интеллектуальная элита Европы стремилась, опираясь на античное наследие, уравнять в правах духовное и чувственное начала в человеке, так сказать, восстановить гармонию между духом и телом. Добиться этого ей, однако, не удалось. Как только возродился общественный интерес к культурным традициям древних греков и римлян, возобновились (прежде всего в Италии) споры-диалоги между новыми приверженцами классических учений прошлого – стоиками, киниками и эпикурейцами. Стоики настаивали на приоритете духовных ценностей и необходимости подавлять в себе суетные желания, порождаемые извне разного рода соблазнами. Эпикурейцы же стремились утвердить право человека на наслаждения, причем как духовные, так и (не в меньшей мере) чувственные. В конце XV столетия две противостоящие друг другу идеологии проявили себя исторически – мятежом Савонаролы и поучениями Макиавелли.
Во времена раннего Средневековья католическая церковь повсеместно навязывала (не только словом, но и силой) единую моноидеологию и требовала от верующих, чтобы они всячески усмиряли свою плоть. В слаборазвитом европейском обществе такое требование церкви воспринималась массами с пониманием. Но спустя несколько столетий общество стало намного более развитым и дифференцированным. Появился довольно значительный слой образованных людей, у верхушки дворянства и торгового класса (да и у церковных иерархов тоже) стали накапливаться в большом количестве предметы роскоши. Неудивительно, что в новых условиях европейская элита вовсе не хотела отказываться от чувственных наслаждений и усмирять потребности плоти. Однако протестовать против церковных догматов она все еще опасалась. Возрождение же античных традиций давало элите возможность избежать конфликтов с папским престолом и как бы перенести свое недовольство в прошлое – в абстрактный, казалось бы, спор эпикурейцев со стоиками. Ничего странного, что стоики этот спор проиграли, и новые эпикурейцы смогли заразить общество страстью к чувственным наслаждениям.
Соответственно, доминирующим в идеологии ренессансного гуманизма оказалось стремление утвердить в общественном мнении право человека на получение удовольствий, защитить его желание добиваться личной власти и материальных благ. Идеальный образ человека у гуманистов тех времен – сильная, красивая, свободная, всесторонне развитая, живущая полноценной жизнью личность. Образ, несомненно, привлекателен, но очевидно, что все люди соответствовать ему никак не могут. Деятелей Возрождения, однако, это вовсе не волновало. Не пугало их и то, что личного счастья «идеальному» человеку придется добиваться за чужой счет. Их гуманизм отражал позицию интеллектуалов-аристократов и художников, но никак не большинства. В нем не было места состраданию, сочувствию слабым. С современной точки зрения этот гуманизм никак нельзя назвать гуманным.
Не таким был гуманизм Толстого. Счастье за счет других было для него абсолютно неприемлемо. Он даже мысленно не мог допустить, чтобы человек чувствовал себя счастливым в окружении слабых, униженных, несчастных: «Счастливы могут быть люди только тогда, когда все они будут любить друг друга». Нельзя добиваться личного счастья любой ценой. Никакая цель не оправдывает используемые для ее достижения дурные средства. Даже откровенному злу не следует оказывать сопротивление насилием. Так считал Толстой. А герои шекспировских трагедий только то и делают, что с кем-то жестоко (не на жизнь, а на смерть) сражаются за свое личное счастье, которое, чаще всего, заключается в достижении власти и богатства, да еще в восстановлении своей поруганной чести. Никто из них не видит греха даже в убийстве. Герои от злодеев в этом отношении отличаются только тем, что убивают, как правило, мстя за предательство (это, по Шекспиру, их оправдывает). Сама по себе необходимость убивать не смущает ни Гамлета, ни Отелло, никого другого. Чтобы отомстить врагу они готовы на все. Обманутый своими дочерьми Лир хотел бы ради отмщения погубить весь мир:
Разящий гром, расплющи шар земной!
Разбей природы форму, уничтожь
Людей неблагодарных семя!
Герои Шекспира способны любить, но только себя, свой образ (и потому так ценят свою честь) и своих самых близких – родных, друзей, женщину. Но ко всем остальным они равнодушны. И никто из них не руководствуется правилом «Не делай того, чего себе не желаешь». Правилом, которое Лев Николаевич считал высшим религиозно-нравственным законом. Очевидно, что Толстому не могли нравиться пьесы Шекспира.
* * *
Безусловно, духовный максимализм Толстого утопичен, и в этом слабость его учения. Что же касается Шекспира, то в его пьесах представлено едва ли не все разнообразие человеческих страстей, причем в форме, которая вызывает у большинства зрителей выраженную эмоциональную реакцию. Но нравственные законы в этих пьесах либо игнорируются, либо искажены.
При жизни Толстого и даже тогда, когда писал свои статьи Джордж Оруэлл, многие люди (во всяком случае – в Европе) еще верили, что свободный во всех своих проявлениях человек своим творчеством способен преобразовать жизнь на земле к лучшему. Что у него, в конце концов, появятся возможности для реализации всех своих потребностей – как духовных, так и материальных. Преобразования, действительно, произошли колоссальные. Люди в большинстве стран сегодня живут дольше, питаются и одеваются лучше, чем сто лет назад, меньше страдают от голода и болезней. Но заплатили они за это очень дорого. Две мировые войны и множество революций забрали огромнейшее число человеческих жизней. К тому же, далеко не все преобразования пошли на пользу людям. Многие из тех ценностей, что раньше казались незыблемыми, теперь утрачены и заменить их пока нечем. Главное, становится очевидным: если все будет развиваться по-прежнему, человечество, наверняка, окажется перед лицом глобальной катастрофы.
Прошло сто лет со дня смерти Льва Толстого. Но его критика национализма, его пацифизм и отказ от противления злу насилием, его призыв к материальному самоограничению ради духовной сосредоточенности не утратили своей актуальности. Более того, сегодня толстовские принципы все чаще используют в своей деятельности широкие общественные движения (альтерглобалистов, например), влияющие на мировые процессы. Думается, пришло время внимательнее прислушаться и к толстовской критике пьес Шекспира и искусства как такового. Не для того чтобы отказаться от творчества великого драматурга и творений других художников, а чтобы воспринимать их адекватно. Помня, что образы, даже создаваемые великими мастерами, совсем не обязательно являются примером нравственного совершенства. И что мир страстей, пусть и самого высокого накала, может быть пагубен для человека, если эти страсти не контролируются изнутри мощной силой духа, связывающего нас с другими людьми и с источником нашей жизни.
Вольтерьянцы
Время, в которое мы живем, часто называют эпохой Просвещения. Для нее характерны стремительное развитие науки и техники, новые формы политической и социальной жизни, рост материального благополучия людей (по крайней мере, в европейских странах). На это же время, однако, приходятся и самые разрушительные войны, кровавые революции, все увеличивающиеся угрозы для экологии и недостаток внимания к проблемам нравственным. «Программой Просвещения было расколдовывание мира, – писали Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно. – Оно стремилось разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания». Целей своих эта программа достигла, но результаты усилий просветителей оказались, увы, далеко не однозначными.
Очевидно, что начиналась эпоха Просвещения в очень сложной социо-политической и культурной обстановке (особенно если иметь в виду чрезвычайно путаные умонастроения тогдашней элиты). Также очевидно, что идеологическую основу этой эпохи формировали не только французские энциклопедисты, о которых будет идти речь ниже, но и многие-многие другие – до и после них. Чрезвычайно большой вклад в это дело внесли гуманисты Ренессанса – Бэкон, Декарт, Гоббс, Локк, Ньютон, Юм, Кант, Гегель, Конт, Дарвин, Маркс и другие философы и естествоиспытатели XVII–XX веков. Да и политики потрудились на славу. Что же касается Вольтера и энциклопедистов, то их роль в этом процессе не всеми оценивается однозначно. Кто-то полагает, будто их значение несколько завышено. Не так уж, мол, много важных открытий сделано энциклопедистами, чаще всего они лишь повторяли то, что сказали другие. Быть может, это и так, да только неоспоримо, что именно Вольтер и его друзья своими работами подготовили Великую французскую революцию. А революция эта кардинальным образом изменила мир.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































