Текст книги "Евразия и всемирность. Новый взгляд на природу Евразии"
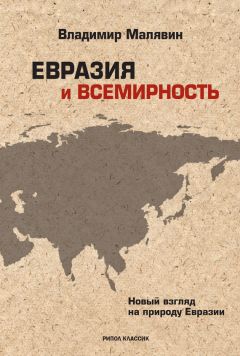
Автор книги: Владимир Малявин
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Археоистория
Термин «археоистория» указывает на связь или, можно сказать, точку встречи, схода историографии с ее гипотетическим истоком, исходной посылкой (архе), в сущности – протоисторической стихией жизни, о которой разными способами свидетельствуют не только письменные источники, но и материальные предметы, культурные артефакты. Историописанию, вообще говоря, свойственны особые коллизии и апории. Оно предполагает разделение и даже противопоставление прошлого и настоящего. Историю пишут ab ovo, но исток опыта с неизбежностью осознается как нечто забытое, безвозвратно утраченное. Такое сознание в старину называли смертной памятью. Оно напоминает человеку о том, что он конечен, и тем самым… создает человека в собственном смысле слова. Поистине, человек становится собой тогда, когда открывает свою бренность, смертное в себе. Последнее и есть архе, которое, как заметил М. де Серто[12]12
Michel de Certeau. The Writing of History. New York: Columbia University Press. 1988. Р. 14.
[Закрыть], всегда значимо отсутствует в историческом повествовании. У этого провала в смысле, неустранимой лакуны в рассуждении есть глубокие экзистенциальные корни. «Феноменология неявленного есть феноменология временности, поскольку она представляет нескончаемое движение – или внезапный прыжок – от бытия к сущностям, от мира к вещам»[13]13
F. Dastur. Telling Time. Sketch of a Phenomenological Chronology. London: The Athlone Press, 2000. Р. 35.
[Закрыть]. Нет ничего более интимного и ничего более непостижимого для мысли, чем этот динамизм чистой актуальности – тайна грехопадения человека. Опыт этого слепого пятна сознания вечно побуждает вернуться к началу существования, к истоку всего происходящего и потому служит сильнейшим импульсом писания истории. И чем острее осознается непонятность вечно отсутствующего начала мира, тем больше потребность осознать его и говорить о нем, тем сильнее воля «писать историю» вопреки или, вернее, как раз благодаря ограниченности своего знания. Историческое предание не имеет под собой никакого основания и не может претендовать на истинность, но его следовало бы, как делали в древности, выбивать на камне – самом долговечном материале.
Итак, евразийское миросознание побуждало искать, по выражению Н. Рериха, «историю помимо историков». Вот и в китайской историографии – наиболее развитой и сформировавшей историческую традицию всей Восточной Азии – история (ши) понималась именно как ведение записей о давно минувших и уже стершихся в людской памяти событиях. Чисто восточное требование к познанию: слышать неслышное, видеть незримое, сознавать несознаваемое. Устные же рассказы о том, что еще сохраняла память живущих, в отличие от европейской Античности, в Древнем Китае историей не считались и относились к области недостоверного, предположительного «предания», «легенды» (чуань).
Еще один важный момент, уже предопределенный сказанным: история на Востоке есть именно память о мертвых; ее первоначальная форма – клановая генеалогия, и само понятие речи первоначально означало там заветы умерших предков их потомкам. Жизнь сама предписывает или прописывает свою колею. А смерть есть лучшее воплощение странной связи своего и чужого в человеческой жизни, ведь она является единственным неотъемлемым достоянием каждого из нас, но никто не может владеть ею. В этом смысле она родственна чистой актуальности существования – столь же родной, сколь непонятной и недостижимой. Тема смерти, таким образом, есть стержень всей истории культуры от первобытных верований до современной феноменологии.
В историографической традиции Восточной Азии, особенно Китая, мы встречаем наглядные иллюстрации темы сокрытого первоначала истории. Ее герой – «сокровенный человек» (кит. ю жэнь), скрывающийся от мира, но нередко в гуще мира мудрец, который совершенно необходим для успешного управления миром. Найти его и привлечь на службу – самая насущная задача мудрого правителя. Властители древних империй регулярно издавали указы о поиске «возвышенных мужей, скрывающихся в горах», и со всеми почестями посылали за ними экипажи прямо в духе русской сказки: «Приведи того, не знаю кого». Позднее рост числа грамотных людей и становление громоздкой системы экзаменов на ученое звание лишили поиски безвестных гениев их былой актуальности, но не сделали менее важной саму эту тему. Призрак этих мудрецов еще в XI в. преследовал ученого Оуян Сю, который в своей истории эпохи «Пяти династий» (X в.) записал:
«Я полагаю, что были способные и достойные мужи, которые никому не показывали себя и скрывались так усердно, что мы ничего не знаем о них. А исторические записи в периоды усобиц и смуты скудны и неполны, так что узнать о таких людях невозможно…»[14]14
Оуян Сю. Удай шицзи (Исторические записки о Пяти Династиях). Тайбэй: Ивэньиньшугуань, б.г., С. 179.
[Закрыть].
Кажется, что в образе скрывшихся от мира достойных мужей отразилась отмеченная выше врожденная историописанию дилемма: искать в истории именно то, что не может быть найдено и познано. И чем менее заметно присутствие мудрых в истории, тем крепче уверенность в том, что они существуют. Поистине, мудрый не может не быть в истории именно потому, что он не может в ней быть. Ритуальная и притом чрезвычайно деликатная игра взаимного признания царя и отшельника – подлинная сердцевина историографической традиции Китая и сопредельных стран.
В науке слово «архе» связывается с археологией, которая строго отделяется от собственно истории. Эти две дисциплины могут только внешним образом и, в сущности, частично и случайно поправлять и дополнять друг друга. Напротив, для культурных укладов Евразии характерны тесная связь и даже внутренняя преемственность того и другого. История там еще не отделена от ее бытийных корней и сохраняет нормативную природу мифа. Она не уводит от истоков опыта, а возвращает к ним. Соответственно, история в Евразии не имеет линейного развития, но определяется, как не раз было замечено, разного рода социальными и природными, по сути внеисторическими, «ритмами», пульсациями. Другими словами, история в Евразии, как само понятие реальности, будь то форма, опыт или даже сознание, обосновывается собственным пределом, непрерывно «теряет себя» и непрерывно возобновляет себя в со кровенно-возвратном движении от себя к… собственному началу. Она состоит из единичных, но непреходящих событий, или, другими словами, самодостаточных циклов, протекающих вне хронологии, по сути метаисторических. Соответственно, духовная традиция соотносится со светской историей как бы по принципу контрапункта: отпадение мира от его духовных основ сопровождается углублением, внутренним возрастанием мудрости традиции, затмение традиции возвещает ее кульминацию[15]15
Точка зрения по-своему не чуждая и современным западным мыслителям близким католичеству. См., например, книгу Дж. Ваттимо «После христианства».
[Закрыть]. Внешнее и внутреннее измерения человеческой истории находятся в некоем высшем равновесии.
Концепция исторического круговорота, присущая цивилизациям евразийского ареала, выступала в разных видах. Например, в китайской традиции с ее антропофундаментализмом она мыслилась как циклы возвышения и упадка династий, порядка и смуты в царствах, смены моральных принципов правления, причем собственно нравственные критерии исторических перемен накладывались на космические ритмы пяти фаз мирового движения (у син) или круга Восьми Триграмм и т. п. В буддийской историографии, которая доминировала в Тибете и Монголии, но присутствовала на всем Дальнем Востоке, первостепенное значение имели, во-первых, концепция кармы, или морального воздаяния, и, во-вторых, идея перерождения будд в человечестве. Тибетский небоцентризм благоприятствовал фактическому растворению мирского измерения истории в ее духовной глубине. Историография Тибета, отмечает немецкий исследователь В. Швайгер, представляет собой «каталог действий, совершенных буддами и бодхисатвами ради блага живых существ в Тибете»[16]16
The Tibetan History Reader. Ed. by G. Tuttlehead and K. R. Schaeffer. New York: Columbia University Press, 2013. Р. 71.
[Закрыть]. В таком случае все исторические события оказываются свидетельством непреходящего начала, архе истории – этой точки падения вертикали Неба на плоскость Земли; они отмечают свершение времен, исполнение пророчеств и заветов и носят характер возвращения к изначальному. Все решения в истории принимались по воле богов и предков. В том же Тибете заслуги людей оценивались с точки зрения количества перерождений, которые требовались им для достижения нирваны. Ясно, что понимаемая таким образом история имеет свой иерархический порядок: в череде земных событий угадывается высшая, небесная реальность, и эта небесная перспектива служит не просто руководством к действию, но также мерилом человеческого совершенства или несовершенства. Примечательно, что тибетские летописцы ставят свою страну неизмеримо ниже утопической Шамбалы, расположенной где-то на севере, но гораздо выше всех прочих царств, ведь их Тибет – страна воплощенных будд. Впрочем, духовное совершенство имело в этой горной стране наглядные географические критерии: заснеженные вершины соответствовали святости великих подвижников, располагавшиеся ниже горные леса и ущелья обозначали духовный уровень монашествующих, речные долины предназначались для расселения добрых мирян и т. д.
Нельзя не видеть, конечно, весьма специфической и непривычной для западного человека природы единства архе и историографии, которая всегда есть повествование. Связь архе и исторической предметности лежит за пределами логики тождества и различия. Одно не просто отделяется от другого, пусть даже ради выработки диалектики единого и множественного на манер платоновской, и тем более не отождествляется с ним в рамках тотализирующего единства. Скорее одно расходится, разводится, но и сопрягается с другим в рамках чистого события как всеобщей событийственности. Предлог «с» здесь как нельзя более уместен и показателен. Он напоминает, что мироздание на Востоке предстает прообразом безграничной гармонии, где нет антагонизмов, а есть только полярные величины, взаимно удерживающие и дополняющие друг друга, даже друг в друга перетекающие, более того, друг в друга вмещающиеся сообразно природным циклам. В восточных традициях это соответствует известному принципу недвойственности бытия. Последний предопределяет, что каждая вещь существует ровно в той мере, в какой она включает в себя нечто другое, всякое бытие удостоверяется и оправдывается его инаковостью. Все есть ровно настолько, насколько оно не есть. Таков главный постулат восточного мировоззрения и восточная версия известного постулата: все во всем. Мудрость жизни – внутренняя центрированность, подвижное равновесие духа.
Подчеркнем еще раз, что в восточной идее всеединства нет места метафизическому первоначалу. Восточное архе имеет своим основанием не что иное, как собственное отсутствие, свою вечноизменчивость, отсутствие основания. Оно не отменяет первозданного хаоса или, вернее, не позволяет противопоставлять хаос и поря док. Оно охватывает все порядки, возникающие и исчезающие в неопределенности спонтанных превращений мира, в зиянии бытия, но само не сводится к какой бы то ни было форме, идее, сущности или субстанции. Вселенский Путь, или Дао, согласно известному афоризму «Дао-Дэ цзина», «ничем не владеет», но все охватывает и проницает. Он есть «утонченная истина» (мяо ли) не просто вещей, но каждого момента существования; истина утонченная потому, что она не равна сама себе, непрестанно «теряет» сама себя, действует помимо себя, но с безупречной точностью, ибо она есть всеобщее соответствие. В ней таится мощь неисчерпаемых метаморфоз, которая есть не сущность вещей, а скорее их внутренний предел и одновременно их внутренняя полнота, бытийное совершенство, нечто всегда ушедшее и грядущее. «В смешении вещей проступает совершенство сущего», – гласит афоризм из «Книги Перемен». В таком случае все внешние, фиксированные явления оказываются чьим-то отблеском, тенью, следом или, говоря словами Ницше, «копией утраченного оригинала», подобием чего-то совершенно бесподобного, повторением неповторяемого, воспроизведением извечно отсутствующего и даже невообразимого архетипического жеста, но также свидетельством чистой актуальности происходящего.
На Востоке правда мира не дана умозрению, а спонтанно выписывается в пространстве междубытности вещей, в средоточии всего (именно: всеобщей среде и вездесущей точке). Она, повторим еще раз, не идея или сущность, а безупречное соответствие моментов существования, в которой прозревается и некая этически обязывающая соответственность. Есть в ней и эстетическое измерение, ибо она предстает узором бытийных метаморфоз, красотой самой жизни. Эта правда не существует вне вещей, но сама не является вещью. Мир воспринимаемый и умопостигаемый есть результат перемещения без движения или, точнее сказать, вездесущего смещения, указывающего на со-пребывание всего в одном месте, всеобщую уместность и в конечном счете – совместность. Реальность и есть эта немыслимая, нелокализуемая, чисто символическая дистанция в средостении всего и вся, всему близкая и ничему не тождественная, подобно бесконечно малому расстоянию между телом и тенью, звуком и эхом, зеркалом и вмещаемым им образом.
Эта совместность вечности и мгновения, явленности и сокрытости, незапамятного прошлого и неисповедимого будущего именно выписывается, т. е. выводится за пределы логики саморганизации рассуждения самим актом письма. Последнее обстоятельство предопределило первостепенное значение в жизни восточных народов письменности как таковой, физического присутствия иероглифа или слоговой азбуки, наделяемой бытийным значением, вплоть до того, что тексты всегда определяли по его начальным знакам и общему объему. Но наилучшим образом такой способ мышления удостоверяется не только и не столько текстами, сколько самими вещами, точнее – артефактами культуры. Речь не о так называемой «предметной среде», состоящей из пассивных объектов, которые ценны только тем, что могут обслуживать человека-субъекта, быть его орудиями. Вещи достойны быть товарищами и собеседниками человека. Они представляют воочию диалектику архе: скрывать себя в жесте самообнажения подобно тому, как все превращения мира удостоверяют безусловную явленность реального.
Вещь, веющая вечностью забвения: вот подлинный субстрат евразийского мира. Она являет себя в рассеянных по всей Евразии доисторических менгирах и святых камнях, в петроглифах и писаницах, в руинах заброшенных городов и изваяниях, оставленных давно исчезнувшими народами, – во всех бесчисленных свидетельствах смертной памяти. Эти памятники пробуждают в нас сложное чувство сопричастности к вечно иному и чуждому или даже, точнее сказать, столь же далекому от нас, сколь и близкому нам началу. Они воспитывают душевное равновесие, которое в своем динамическом покое способно вместить самый чистый и сильный аффект. На менгирах южной Сибири бесстрастные лики далеких предков словно стирают сами себя, уходят в забытье, побуждая дух унестись вдаль, чтобы обновленным и по-новому видящим мир вернуться в свою сокровенную глубину. С необыкновенным изяществом и тонким чувством материала высеченный в менгире паук словно растворяется в зернистой поверхности камня, наполняя его холодную тяжесть биением одухотворенной жизни. Здесь дух уплотняется до материи, материя утончается до духа. Повсюду нам представлены преемственность и взаимная обратимость формы и вещества, образа и хаоса. И это тоже традиционная черта евразийского мировоззрения, неуклонно развивавшаяся и утончавшаяся на протяжении тысячелетий. Здесь духовное начало сразу, без промежуточных ступеней переносится, а точнее было бы сказать, помещает себя в чистую вещественность; культура непосредственно укореняется в природе.
Отсутствие на Востоке умозрительной метафизики на западный манер объясняется способностью восточных учителей входить в общение с вещами, внимать их «красноречивой немоте», поверить мысль их бытием. Пример подал Конфуций, который был – не будем это забывать – не столько «мыслителем», сколько знатоком древностей, чьи нравственные идеалы выросли из изучения старины и антикварных предметов. И учил он не столько знанию о мире, сколько тонкому соответствию духа бытию вещей. Плоды долгого развития евразийской «философии вещности» представлены в рассуждениях известного художника и коллекционера Дун Цичана (ум. в 1636 г.) о ценности антикварных предметов (на Востоке каждому образованному человеку полагалось быть знатоком антиквариата). В суждениях Дун Цичана выделяются следующие пункты.
В старинных предметах благодаря действию времени истина мира как бы «обнажается», проступает воочию подобно тому, как после смерти человеческое тело лишается мягкой плоти и взгляду открывается его костный остов. (Показательно это уподобление вещей телу человека и уже знакомый нам мотив «откровения смерти».) Та же мысль высказана в изречении современника Дун Цичана, писателя-моралиста Хун Цзычэна: «Весеннее возбуждение природы слишком волнует дух. Только в осеннюю пору, когда скалы обнажатся и деревья будут стоять голыми, правда мира явит себя».
Вещи друг друга поддерживают и друг в друга переходят, так что в конечном счете все поддерживается безбрежным, всевместительным Небом. Все вещи поддерживаются «смычкой», «скрещением» (цзяо) небесного и человеческого начал. Выбор термина в данном случае напоминает, что высшая цельность бытия пребывает в перекрестье, гармоническом смешении сил, что предполагает наличие бесконечно малой дистанции, разрыва между ними – той бесконечно малой «толщины» опыта, которая в феноменологии М. Мерло-Понти отделяет и делает взаимно обратимыми внутреннее и внешнее в человеческом опыте. Таков фокус мировой гармонии, который обеспечивает совершенство всех вещей, устанавливая их предел. Как сказано в даосском каноне «Даодэ цзин» по поводу порядка чинов в царстве: «В великом разделении ничего не разделяется» (русское слово «чин», кстати, прекрасно выражает такой взгляд на мир).
Поскольку вещи воспроизводят высшую цельность бытия, созерцание антикварных предметов дарует покой и центрированность духа – главной добродетели ученого мужа на Востоке. Общение с «древними игрушками» (как называли антиквариат в Китае) для китайского ученого есть упражнение в нравственном совершенствовании и духовной свободе. «Встреча с древними способна смягчить ожесточившееся сердце и укрепить ослабевший дух»[17]17
См. Мудрость китайского быта. Сост. В. Малявин. Москва: АСТ, 2003. С. 453–458.
[Закрыть], – утверждает Дун Цичан. Естественно, разглядывать старинные вещицы следовало в стилистически цельной, насыщенной смысловыми ассоциациями обстановке, в окультуренной среде, где мысль свободно странствует от одного рубежа опыта к другому. Это соответствует главному началу общественной жизни на Востоке: церемонному обхождению, которое есть, по сути, не бремя лицемерной вежливости, а радость игры, разыгрываемой со всей серьезностью. Но речь в конце концов идет о равновесии противоположных начал: встреча с вечносущей древностью открывает человеку его эфемерность, умаляет его, но и несказанно возвышает его в сознании своей причастности к мировому танцу вещей.
Поистине, созерцание антиквариата равнозначно переживанию встречи Земли и Неба, возвращению забытой высокой древности, которое означает на самом деле возобновление того, чего никогда не было. Призвание человека на Востоке – стать «таким, каким еще не бывал» (слова из даосского канона «Чжуан-цзы»).
Важнейшая особенность традиций Востока – примат ортопрактики, правильного действия над ортодоксией, правильным мнением. Это предполагает главенство в общественной жизни зрелищности, представления как такового – представления, которое представляет себя само. В древних евразийских цивилизациях ритуал и праздник заменяли театр. Последний появился там сравнительно поздно, в средневековую эпоху, и в действительности никогда не терял связи с религиозным ритуалом. Легко видеть, что представление во многих отношениях являет параллель упомянутой выше «философии вещи». Ритуал вообще невозможно представить без «вещих вещей», а на Востоке мир повсюду считался «божественной вещью». Кроме того, идея чистого представления предполагает обращенность последнего на само себя, игру в игре и с игрой, постоянное усилие самоотстранения. Это означает, что в представлении драматизируется и обнажается тот самый разрыв, провал в опыте, который дает импульс писанию истории. Ритуал как представление, символическое действие, указание на отсутствие реального в данности опыта бесконечно воспроизводит сам себя (точнее, отсутствие себя в себе) и так удостоверяет непреходящие качества существования. Игровое начало праздника, которое вобрал в себя театр, карнавальное перевертывание действительности стали стержнем публичности в традиционном обществе потому, что они могли удерживать в некоем пародирующем себя жесте логически несовместимые и все же имеющие общий исток возвышенные и профанные ракурсы традиции. Недаром героями театральных представлений на Востоке выступают посредники между Небом и Землей – персонажи иронические и даже откровенно гротескные.
Теперь нетрудно предугадать важнейшие особенности литературных традиций евразийского ареала. В свете принципа недвойственности язык всегда мыслится в модусе иносказательности: иного сказания и сказания о вечно ином. Подобный взгляд на язык и словесность сопутствует, конечно, ритуальному действу, которое вносит символическое различение в мир и поэтому воспитывает эстетический вкус и утонченность мысли – подлинную основу культуры. В Евразии соотнесенность вещей как главная тема архаического ритуала получила моральный смысл всеобщей со-ответственности, а сам ритуал, как уже говорилось, плавно и органично преобразился в светскую любезность и церемонность. В результате Восток не имеет аналогов западной тропологии и тем более не знает различия между буквальным и переносным значениями. В восточной словесности слова стирают, устраняют себя, чтобы обнажить мудрость безмолвия. Как видим, историография, писание истории в собственном смысле слова на Востоке созвучны постмодернистскому пониманию исторического исследования как выявления или, точнее, свидетельствования о лакунах в рассуждении, присутствии в нем неизъяснимого «другого».
Китайская традиция сложилась как раз на идее иносказательности языка. Согласно древнейшему толковому словарю Китая «Шовэнь», «письмо – это подобие». Это определение было для китайцев самоочевидным, ведь китайский иероглиф всегда имеет прототипы среди природных образов, всегда подобен тем или иным вещам. Но важно иметь в виду, что упомянутое подобие распространяется превыше всего на качество состояния и действия, т. е. на отношения между вещами, что отражено в известном изречении: «Иди как идешь, стой как стоишь» и т. д. Правда существования – в правильном, безупречно выверенном отношении к миру. Это означает, помимо прочего, что все элементы нашего опыта имеют соответствия в мире незримого и неведомого.
Еще одно классическое определение (его авторство приписывается Цай Юну, II в. н. э.) гласит: «Письмо – это рассеивание». Речь идет, очевидно, об акте саморазличения, отсутствующей преемственности, который утверждает присутствие цельности и полноты бытия не просто в чем-то сущем, будь то идея, сущность, субстанция, форма и т. п., но в точке каждого превращения и в конечном счете в вездесущем средоточии мира. Реальность в таком случае есть, согласно формуле китайской традиции, нечто «предельно малое, не имеющее ничего внутри себя, и предельно большое, не имеющее ничего вовне себя». Великий Путь мироздания равнозначен абсолютному соответствию, все проницающему и уравнивающему несравненное. Таков человек: ничтожный перед безбрежностью мироздания, но великий в своей причастности к всеединству «Одного Превращения» мира.
Предельно великое неотличимое от предельно малого, вездесущая точка самопревращения, преемственности фокуса и сферы, пребывающая всегда «между», в «срединности» мира, есть не что иное, как чистая качественность существования, его «таковость» (цзы жань). «Таковость» и есть условие обходительного поведения, вездесущей восточной церемонности, когда все уступают друг другу, все подлежит разделке, все рассеивается, и в результате выявляется неделимый остаток общественности, общий знаменатель, скрещение всех форм жизни – среда, средство и средоточие человеческой сообщительности. В «таковости» все выписывается из мира, чтобы навеки войти в него. Как несотворенная имманентность жизни, она есть покой, которого, по меткому замечанию М. Бланшо, никогда не бывает достаточно. Китайцы называли мудростью умение «привести стоячую воду к еще большему покою». Взрывная волна рассеивания вещей, пульсация живого дыхания, неуследимо быстрые взаимные переходы актуального и виртуального – все это свидетельства необыкновенной интенсивности переживания и, следовательно, бытийственной полноты свободы, которая, однако, равнозначна полноте покоя. «Таковость» есть избыток жизненности в жизни и счастье всего живого как соучастие в благодатной избыточности события существования. Это счастье чистой сообщительности, которое само созидает всякое пространство и задает пространственные координаты даже времени.
Примечательно, что современная, глобалистская по своему устремлению, мысль тоже ищет свое основание не в формальных оппозициях, а в чистом, символическом (само)различении. Поистине, разность душ, разность внутри души и есть главная правда человека, ибо она восходит к природе сознания как чистого различения вне метафизических оппозиций. Прежде субъекта и создаваемой им писанной, «объективной» истории уже имеется чистая текучесть духа – нечто, пребывающее как раз там, где ее нет. Вот истоки памяти, которая на самом деле никогда не является регистрацией фактов, а предъявляет виртуальный, можно сказать, фантомный образ действительности. Память и забвение вовсе не исключают друг друга, на самом деле они сращены, как сиамские близнецы. Ничто не забывается так прочно, как самое оглушительное событие в жизни (см. мучительные перипетии вспоминания/забвения ужасов холокоста среди евреев, атомных бомбардировок в Японии или сталинского террора в России). Но ничто не помнится так ясно, как событие воображаемое, случившееся с кем-то другим. Прошлое не столько помнят, сколько, если воспользоваться прекрасным русским словом, поминают. А памятники на самом деле обращены к будущему. В таком случае не объясняются ли пропитавшие современное общество хроническая инфекция недовольства и обиды на весь мир, стремление отдельных индивидов и народов учить исторической памяти других, забывая о собственной, как раз неумением или даже невозможностью сколько-нибудь внятно артикулировать отношения между памятью и забвением, что делает неизбежно произвольным любое мнение на этот счет, а вину за произвол, как водится, возлагают на других?
Между тем в Восточной Азии, сохранившей верность первобытной нераздельности скрытого и явленного, идеального и действительного, внутреннего и внешнего и т. д., единство памяти и забвения принималась за основу общественного сознания и даже государственной политики. На земные события, как уже говорилось, там смотрели в «небесной» перспективе противоположной человеческому видению. В конечном же счете реальность Пути – Дао есть вне– или, если угодно, всевременность события, чистая историчность, пребывающая внутри потока времени и рождаемой им истории. Даосский патриарх Лао-цзы называет ее «Небом» и «пределом древности», ведь речь идет о пределе и одновременно условии, предпосылке исторического времени. В другом месте Лао-цзы называет истоком добродетели или внутреннего совершенства вещей место «скрещения» или все той же «совместности» людей и духов (см. «Дао дэ дзин», гл. 60). Такая «небесная» история, или, если можно так выразиться, натуристория, как место встречи человеческого и нечеловеческого, проистекает из самых древних мифов с их странными, многоликими героями – полулюдьми, полубогами, полузверьми – и в то же время представляет собой постисторию, если угодно – историю апокалипсиса.
Редко замечают, что у истории «вхождения на Небеса» есть земная параллель – обращение истории в природу. В. Беньямин описал ее на примере культа руин и увлечения аллегорией в эпоху барокко[18]18
См. В. Беньямин. Происхождение немецкой барочной драмы. Москва: Аграф, 2002. С. 185–191.
[Закрыть]. Нигилистический акцент на разрушении плодов человеческих усилий, тщете земных трудов выдает европейское происхождение этого мотива. Перед нами как бы перевернутая «священная история», ее светская параллель. Хотя Лао-цзы на свой лад проповедовал возвращение истории к природе, Восток не знал культа руин – несомненно, благодаря отсутствию фиксации индивидуального самосознания. Восточные традиции утверждают либо вечное возобновление человеческого быта (что привело многих европейских наблюдателей к выводу о том, что восточноазиатский мир знает только человеческое измерение жизни), либо полное забвение прошлого, так что местонахождение гробниц многих императоров или, к примеру, столицы Монгольской империи до сих остается загадкой. В любом случае евразийскому миро-сознанию свойственна преемственность культуры и природы вплоть до того, что следы человеческой деятельности в глубинах Евразии сплошь и рядом неотличимы от работы природы: часто невозможно понять – да и не нужно понимать, – видишь ли ты перед собой остатки древней крепости или естественные уступы холмов, природную возвышенность или курган, руины дворца или прихотливые изгибы барханов. Мир есть метаморфоза незримой реальности. Небесное начало, «небесный принцип» (кит. тянь ли) в Евразии как будто сокрыты в биологической данности жизни или человеческой деятельности, так что «письмо» человека и «письмо» природы там друг в друга перетекают, создавая мир всеобщего подобия, бесконечность взаимных отражений. Но преемственность того и другого достигается все-таки духовной чувствительностью, которую дарует прозрение символической матрицы, микропрообразов или «семян» вещей. Это видение мира, уподобленного «мириаду волосинок на теле Будды, в каждом из которых мириады святых дают бесчисленные обеты». Такова невидимая, утонченная работа любовного бдения, спасающая, т. е. приводящая к полноте бытия, все сущее в мире.
Сделаем следующий шаг и признаем, что на Востоке история таит в себе свой обратный образ, свою контристорию, которая указывает на символическое пространство собирания земного и небесного, человеческого и божественного в вездесущности саморазличия. Ее сюжет – возвращение всего сущего к своему началу и возобновление отсутствия вселенского человека, столь же невозможного, сколь и неизбежного, как фантомная глубина опыта. Это история, движимая пульсацией, актом рассеивания вселенского ритма, совмещающего в своем всевременном миге начала и концы, рождение и исчезновение бесчисленного сонма символических миров наподобие неуследимого потока первообразов сознания в известном стихотворении Тютчева:









































