Текст книги "Безмолвие как бы на полчаса. Письма из Нефели"
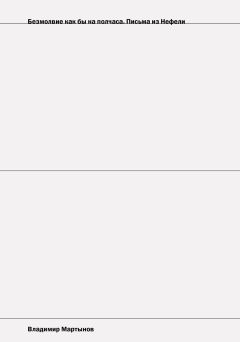
Автор книги: Владимир Мартынов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Пусть не обижаются другие наши коты, которые жили вместе с нами в свое время. Друзья! Все вы были замечательными. Все вы были избранниками. Вас избрала Таня, а Таня обладает даром Адама. Пусть она обладает им в несколько усеченном виде, но все равно она обладает даром Адама. Подобно Адаму, она способна нарекать имена тварям, и эти имена суть то, что названные твари представляют собой. Провидя внутреннюю природу котов, Таня назвала Пушка Пушком, Рыжуню – Рыжуней, а Муху – Мухой, и эти имена, как имена, нарекаемые при крещении, обещали им пребывание в вечности. У нас были и другие коты, но именно с этими тремя котами связана большая часть нашей жизни. Пушок! Я помню и люблю тебя! Рыжуня! Я помню и люблю тебя! Муха! Я помню и люблю тебя! Я помню и люблю всех вас, но все равно Хрюня – это избранник среди избранных.
Да! Хрюня, ты поистине избранник среди избранных! Увидев тебя в первый раз, Гоша сказал, что ты суперсущество, и ты действительно был им, но что стало с тобой под конец жизни! Куда девалось твое роскошество? Куда исчезла твоя общительность? Куда девался твой холодный носик, которым ты тыкался мне в руку? Ты стал неказистым, тощим, жалким и невылизанным. Видит Бог, мы тянули тебя, сколько это было возможно. На протяжении нескольких месяцев Таня каждый день делала тебе по нескольку уколов. Долгие часы мы просиживали с тобой под капельницей в ветлечебнице, и иногда это помогало: на какое-то время ты становился прежним. Но время и природа брали свое.
Судьба британцев – почечная недостаточность – долго подкрадывалась к тебе и в какой-то момент настигла окончательно и бесповоротно. Из-за отказавших почек у тебя начали гнить десны, и ты уже не мог ни есть, ни какать. В какой-то момент продлевать твои мучения стало невозможно, и по настоятельному совету врачей мы приняли тяжелое решение. Во время смертельного укола я стоял за спиной врача и видел все. Я видел тебя в этот момент. Ты был похож на гольбейновского Христа. Странно повернутая набок голова и выражение твоего лица с закрытыми глазами – все-все напоминало мне эту картину. В этот момент ты был некрасивым, но ты был каким-то правдивым. Во всем этом была непонятная тайна, но я четко осознавал, что это не момент ухода – это момент перехода. Ты ступил на путь великих перемен. Ты ступил на путь постижения «Книги перемен», и мне кажется, что на этом пути умерший кот может оказаться гораздо успешнее живого человека. Вот почему я вновь и вновь взываю к тебе: «Где ты, мой желтоокий четырехлапый товарищ? Где ты? Только не надо мяукать мне в ответ – я и так знаю, что ты слышишь меня, иначе я бы не стал писать тебе всех этих писем. А ведь я пишу их именно тебе!»
Спешу сообщить всем, кто еще не понял: да, я пишу эти письма своему умершему коту! А кому еще можно писать сейчас письма? Не людям же – этим представителям тупиковой ветви эволюции! Конечно же, иногда можно написать и людям, но все равно им не сообщишь того, что можно сказать умершему коту. Правда, может быть, где-то еще и сохранились те, с кем можно переброситься парой слов. Где-то в Бельгии затерялся Валера Афанасьев, где-то в Швейцарии затерялся Алик Рабинович, где-то затерялся еще кто-то, но поди сыщи их! Уж лучше писать своему умершему коту. Хотя, может быть, здесь дело вовсе и не в том, что трудно отыскать тех, кому хотелось бы сказать нечто сокровенное, а в том, что даже с близкими людьми можно быть откровенным не во всем и не всегда, в то время как с умершим котом можно быть откровенным до конца. А может быть, дело обстоит гораздо проще, и в конечном итоге все можно свести к дилемме: жив ты или умер. Ведь если бы я стал писать письма к Хрюне, когда он был жив, то, скорее всего, меня следовало бы отвезти, как говорила моя мама, на Канатчикову дачу, то есть в сумасшедший дом, а теперь, после того как он умер, мои письма к нему выглядят вполне естественно. Не потому ли и Йозеф Бойс, просидев трое суток в одном помещении с живым американским койотом, не обмолвился с ним ни словом, но зато прочитал большую лекцию об искусстве мертвому зайцу?
11
Молчание Бойса во время его активного взаимодействия с живым койотом и его же многословные рассуждения об изобразительном искусстве, адресованные мертвому зайцу, лежащему у него на руках, подталкивают к более пристальному взгляду на проблему коммуникации живого и мертвого, и эта проблема неожиданно забавным образом вдруг всплыла в наших взаимоотношениях с моим ближайшим другом Валерой Афанасьевым. Нужно заметить, что, будучи крайне критично настроенным ко мне как к композитору, Валера довольно часто и подолгу любит отчитывать меня за мои opus’ы. Не могу припомнить случая, чтобы ему понравилось что-нибудь из того, что я сделал. Зато, мне кажется, я помню наизусть все его интонации, в которые, обращаясь ко мне, он вкладывает всю свою страсть. «Вовочка! Ну как же так можно?» Или: «Вовочка! Ну как же ты не понимаешь, что…» Или: «Вовочка! Ну как же со своим грандиозным талантом ты опускаешься до…» И так далее, после чего следует долгий перечень того, до чего я опускаюсь, чего не понимаю и чего не учитываю при написании своих opus’ов. За долгие годы нашего общения я уже давно привык к подобным инвективам и отношусь к ним как к чему-то должно-привычному – тем более удивительным показался случай, о котором Валера рассказал во время очередного своего московского визита в прошлом году.
Как-то раз утром в его бельгийском доме раздался телефонный звонок, на который Валера не успел сразу отреагировать и, сняв трубку слишком поздно, понял только то, что звонят из Москвы, извещая о чьей-то смерти. Потом выяснилось, что это было сообщение о смерти Тодика Гринштейна – бессменного композитора детского тележурнала «Ералаш» и нашего общего приятеля по Мерзляковскому училищу, но в первый момент, не разобравшись, кто звонит и кто именно умер, Валера решил, что речь идет обо мне. Наверное, это произошло потому, что он знал о двух моих операциях в Израиле и о том, что я прохожу там курс радиотерапии. Как бы то ни было, но, находясь в полной уверенности, что я умер, Валера был, конечно же, потрясен и, прихватив с собой пару бутылок на первое время, пошел осмысливать и переживать это событие под звуки моих сочинений. Он прослушал по нескольку раз все мои записи, которые у него были: и Requiem, и Come in, и Stabat Mater, и «Шуберт-квинтет», и Der Abschied, – и все это он слушал, четко осознавая, что я умер и что больше на этом свете он меня никогда не увидит.
То, что Валера говорил дальше, мне неловко пересказывать, ибо делать так – значит заниматься совершенно беспардонным самовосхвалением. Пожалуй, таких дифирамбов и комплиментов в адрес моих opus’ов мне никогда еще не доводилось слышать. Причем это нельзя было назвать просто дифирамбами или комплиментами – они содержали чрезвычайно точные соображения и наблюдения. Особенно меня поразили его соображения о Der Abschied, которое в свое время подвергалось чуть ли не самым острым нападкам с его стороны из-за все разрастающейся цитаты из Малера. «Вовочка! Ну как можно использовать такие большие цитаты в собственном авторском тексте?» – отчитывал он меня еще не так давно, но теперь вдруг начал открывать мне глаза на смысл использования этой самой цитаты. И с его подачи мне стало очевидно, что в Прощании, и особенно в Великом прощании, неизбежно настает момент, в который нет и не может быть своих слов, когда любые, даже самые проникновенные слова, сказанные от себя, превращаются в ложь и фальшь. В такой момент могут звучать только некие всеобщие, всеобъемлющие слова – слова молитвы, ритуала или слова откровения. Когда я сидел у постели умирающего папы и вслушивался в его предсмертное дыхание, любая мысль о том, что я могу сейчас ему что-то сказать, представлялась мне абсолютно кощунственной. Наверное, правильнее всего в этот момент было начать чтение молитв из Последования на исход души, но я не мог и этого, ибо и это было лишь словами – словами, заглушающими подспудное, наполняющее все вокруг звучание. Это неслышимое звучание было звучанием финала «Песни о земле» – Der Abschied, «Прощание», которое мы вместе с папой играли в четыре руки солнечным июльским полднем в Звенигороде много-много лет назад. Это было очень давно, в самом начале 1960-х годов. И вот теперь эта музыка зазвучала снова – как в тот самый июльский полдень в Звенигороде. Я никогда не делился этими мыслями с Валерой, и вот теперь Валера сообщал их мне, и это казалось совершенно удивительным.
Все это мы обсуждали, сидя в рюмочной на Большой Никитской возле консерватории. Когда мы договаривались об этой встрече, Валера сказал, что должен поговорить со мной о чем-то очень важном. Это несколько удивило меня, потому что все наши московские встречи – а когда Валера в Москве, мы встречаемся чуть ли не каждый день – представляются мне одинаково важными. Их нельзя разделить на более важные и менее важные встречи, ибо наши встречи – это наше общение, а наше общение – это счастливый подарок судьбы, это счастливый жребий, который выпал нам обоим. Но в этот раз произошло действительно нечто значительное. Сидя в рюмочной, я удивительным образом испытал то, что должен переживать на том свете гонимый при жизни и признанный после смерти композитор. Весь парадокс заключался в том, что я был не просто жив, но вдобавок ко всему еще и сидел в рюмочной, беседуя о своем композиторском величии. Эта неправдоподобно сказочная ситуация несколько омрачалась шевелящимся где-то внутри меня вопросом, который я хотел задать Валере и вместе с тем не мог решиться на это. Я стеснялся, а вернее, боялся сделать это. Я так и не задал его тогда в рюмочной; не задал его и потом. И вот теперь я задаю этот вопрос Хрюне. Как ты думаешь, что предпринял Валера после того, как известие о моей смерти оказалось недействительным? Стал ли он вновь переслушивать те вещи, которые с таким восторгом слушал под впечатлением от только что полученного известия о моей смерти, находясь в полной уверенности, что так оно и есть?
На этот крайне волнующий меня вопрос есть три варианта ответа. Вариант первый: узнав, что я все-таки жив, Валера вновь прослушал мои opus’ы и убедился, что они действительно прекрасны и что ложное известие о моей смерти открыло ему глаза на то, чего раньше он просто не понимал и не мог оценить по достоинству. Это весьма соблазнительный, но в то же время маловероятный вариант. Вариант второй: узнав, что я все-таки жив, Валера вновь прослушал мои opus’ы и убедился, что они являются все же полным говном и что ложное известие о моей смерти помрачило его рассудок, сбило оценочные ориентиры, заставив на какой-то момент услышать в них нечто выдающееся, но это оказалось лишь временным наваждением, и теперь, когда все прояснилось и рассудок встал на свое место, мои opus’ы вновь предстали перед ним тем же, чем и являлись раньше. Это, конечно же, не самый приятный, зато весьма вероятный вариант. И наконец, вариант третий: узнав, что я все-таки жив, Валера успокоился, занялся своими текущими делами и больше не вспоминал о моих opus’ах, так как для этого не было больше никаких причин. Вот этот вариант устроил бы меня больше всего, и я надеюсь на то, что так оно и было. Поэтому-то я и не стал задавать Валере зашевелившегося где-то внутри меня вопроса, когда мы сидели в рюмочной на Большой Никитской. Не нужно никаких точек над «i». Хорошо, когда между живыми остается что-то недосказанное. Может быть, это единственное, что провоцирует их продолжать быть живыми…
12
Наверное, совершенно неслучайно именно здесь, в Нефели, меня все чаще стала беспокоить мысль музилевского Ульриха о том, что «нельзя злиться на собственное время без ущерба для самого себя». Эта мысль стала беспокоить меня в связи с тем, что в последней своей книге «2013 год» я уж как-то слишком рьяно принялся поносить и ругать современность. Не то чтобы наше время не заслуживало такой ругани – может быть, оно заслуживает ее даже в гораздо большей степени, чем я мог себе позволить, тем более если согласиться с тем, что мы живем после наступления конца света. Но Ульрих прав: какой бы ругани ни заслуживало время, в которое мы живем, ругающий его и злящийся на него неизбежно наносит ущерб себе самому своей злобой и руганью, и ущерб этот заключается в утрате понимания того, что происходит на самом деле. Человек, во всем обвиняющий свое время, рискует упустить из виду, что причина его недовольства может таиться в нем самом, а отнюдь не в том, по поводу чего он изрекает пламенные инвективы. Здесь уместно вспомнить слова, заключающие главу «Таинственная болезнь времени», в которых Музиль так характеризует состояние Ульриха: «Порой у него было на душе совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать». Ведь если человек ощущает в себе некий невостребованный временем талант, то это проблема скорее самого человека, а не того времени, в которое он живет, и злиться тут нужно, по справедливости, на самого себя и на свое несоответствие времени.
Тем не менее я не могу ничего с собой поделать и порою полностью отдаюсь во власть ощущений, сходных с ощущениями Ульриха. Я точно знаю, что у меня есть талант к созданию продукции, претендующей на некоторую эстетическую ценность. Более того, я знаю, что это не просто талант – это субстанция моего «я». Это моя природа. Я принадлежу к породе людей, для которых производство эстетических ценностей является неким природным, врожденным свойством, неким неизбывным модусом существования. Я не претендую на нахождение в первых рядах этих людей, но точно знаю, что являюсь далеко не последним из них, и, ощущая неразрывную общность с этими людьми, свою принадлежность к ним, я ясно вижу, что наше время – время таких, как я – безвозвратно уходит в прошлое и что наступает время совсем других людей – людей, принципиально отличных от нас. Малкольм Булл, автор книги «Анти-Ницше», которая, наверное, далеко не случайно именно сейчас попала в мои руки, так описывает этих людей: «Они никогда не проводят различия между хорошей мелодией и отвратной, они проходят мимо природных красот, не обращая на них никакого внимания; они безразличны к своей мебели; они никогда не разыщут шедевра на барахолке и не будут жаловаться на наличие “мусора” в современных галереях. С их точки зрения, это все мусор. Действительно, сама идея о том, что другие люди способны проводить эстетические различия между предметами и соответственно оценивать их, показалась бы им по самому своему существу нелепой. Они готовы выбрасывать мусор в живописных местечках, беззаботно прислоняться к картинам в Национальной галерее, сносить свои дома, занесенные в список культурного наследия, а на концертах громко разговаривать с соседями». Имя этим людям – филистеры, и еще в 60-е годы прошлого века Адорно утверждал, что филистерство является не просто вульгарностью, но «понятием, противоположным понятию эстетического поведения, неким феноменом via negativa в эстетике», а в наши дни этот феномен все более и более неукоснительно начинает предопределять все параметры человеческого сообщества в мировом масштабе.
Малкольм Булл приводит целый ряд цитат из английских периодических изданий, не оставляющих никаких сомнений по этому поводу. Так, один публицист пишет, что «если и есть такая вещь, как “английская болезнь”, это, я полагаю, филистерство в высших классах», другой говорит, что филистерство не ограничено высшими кругами общества и является «заразой, добравшейся до корней английской жизни», а третий утверждает, что филистерство – это далеко не просто английская болезнь: «возможно, Англия и правда коренится в филистерстве, но своего полного расцвета оно достигло в той “экстравагантно филистерской стране”, коей являются Соединенные Штаты». В общем, выходит так, что филистерство превратилось в некий глобальный феномен, благодаря чему можно смело утверждать, что глобализация в конечном итоге есть не что иное, как филистеризация мира. Не это ли предвидел еще в конце XIX века Константин Леонтьев, писавший о немецких, французских и русских буржуа, которые в своих безобразных и комических одеждах благодушествуют индивидуально и коллективно на развалинах былого величия? Впрочем, теперь не нужно обладать прозорливостью Леонтьева для того, чтобы воочию увидеть то, что он только предвидел. Как написал один английский публицист, «филистеры – это уже не варвары, разбившие стоянку за пределами Цитадели Искусства: сегодня они на самой ее вершине, с которой они благосклонно присматривают за культурным трафиком».
Что же в связи со всем этим делать нам – не филистерам, то есть людям, для которых реальность еще продолжает раскрываться через призму эстетических переживаний и оценок? Злиться на них? Проклинать филистерский век, в который нам довелось жить? Или же последовать совету еще одного британского публициста и попробовать «начать бороться с филистерством XXI века»? Этот призыв представляется мне крайне наивным и попросту невыполнимым. С таким же успехом можно призывать к борьбе с оледенением в условиях наступления ледникового периода. Мне кажется гораздо более продуктивным оставить всякие претензии к внешним обстоятельствам и, обратив взор на себя, понять, что наша система ценностей, вне которой мы не можем себя мыслить, отнюдь не является чем-то абсолютным и вечным. Нужно также вспомнить, что тот тип людей, к которому мы себя относим и который определяется термином homo aestheticus, в свое время пришел на смену иному типу людей, с точки зрения которых мы, скорее всего, являлись тем, чем сейчас для нас являются филистеры. Этот предшествующий нам тип людей – homo religious – видел свое призвание в познании Бога и в единении с Ним. С точки зрения homo religious наш человеческий тип утратил онтологическую глубину богопознания и богообщения, подменив и то и другое религиозно-эстетическим переживанием и превратив взаимоотношения человека с Богом в нечто факультативное и в конечном счете необязательное. И подобно тому, как мы обвиняем филистеров в эстетической глухоте и нечувственности, так и люди, принадлежащие к типу homo religious, с не меньшими основаниями могут обвинять в онтологической глухоте и нечувственности нас самих. С другой стороны, подобно тому, как филистеры могут без всяких комплексов игнорировать и отрицать наши эстетические ценности, так и люди, принадлежащие к типу homo aestheticus, порою могут с легким сердцем отвергать абсолютистские претензии сакрального и божественного, в результате чего возникает невероятная разноголосица взаимных претензий и обвинений, к которой иногда очень хочется присоединить и собственный голос, даже несмотря на риск возникновения еще большей неразберихи. Но эта неразбериха будет неизбежно нарастать, если я начну злиться на свое время и предъявлять претензии. Вот почему вместо того, чтобы бездумно поносить современность, следует прежде постараться найти свое место в чреде сменяющих друг друга человеческих типов и хотя бы приблизительно классифицировать взаимные претензии, предъявляемые ими друг другу. Тогда, быть может, желание ругать свое время отпадет само собой.
13
В главе «Краткая история отрицания» Малкольм Булл, описывая различные типы отрицания и выстраивая их в единую историческую последовательность, выделяет четыре стадии отрицания: атеизм, или отрицание Бога, анархизм, или отрицание государства, нигилизм, или отрицание морали, и филистерство, или отрицание эстетики. Каждое отрицание возникает вначале как идея, у которой нет сторонников и которую никто открыто не поддерживает, и только спустя какое-то время она превращается в реально действующую социальную силу. «Атеизм был выявлен и осужден уже в XVI веке, однако атеисты появились только в XVII. Анархистов обличали начиная с XVII века, и к концу XVIII века они и в самом деле материализовались. Но, когда появились анархисты, родился новый признак – нигилист; а спустя одно поколение нигилисты заявили о своем собственном существовании. Именно в этот момент появляется филистер как позднее, но наверняка не последнее отрицание». Продолжая эту мысль и переходя к нашему времени, Малкольм Булл пишет: «Сегодня атеизм, анархизм и даже нигилизм стали признанными интеллектуальными позициями, так что сами эти термины в целом уже не используются в качестве ругательств. Однако тот факт, что люди продолжают обзывать друг друга филистерами, но при этом отказываются примерить к себе этот ярлык, является ясным признаком того, что эстетическое продолжает считаться общей социальной ценностью, так что оказаться в числе филистеров, скорее всего, по-прежнему неприятно. Однако эта историческая закономерность указывает на то, что филистерская позиция, первоначально определенная ее противниками, со временем будет занята ее приверженцами».
Мне кажется, что Малкольм Булл не совсем прав: время, в которое оказаться в числе филистеров почиталось чем-то неприятным, все же прошло, и теперь они, не скрываясь и без всякого стеснения, восседают на самой вершине Цитадели Искусства, благосклонно присматривая за культурным трафиком. Но в этих цитатах меня интересует совсем другое: перечисленные в них типы отрицаний могут быть интерпретированы как негативные отпечатки того, что они отрицают, то есть каждый тип отрицания может рассматриваться как указание на конкретный тип людей, которые исповедуют как раз то, что отрицает данный вид отрицания. Атеизм как отрицание Бога негативно указывает на тип людей, для которых реальность раскрывается через познание Бога; анархизм как отрицание государства негативно указывает на тип людей, для которых реальность раскрывается через служение государству и поддержание его порядков; нигилизм как отрицание морали негативно указывает на тип людей, для которых реальность раскрывается через следование моральным предписаниям; и наконец, филистерство как отрицание эстетических ценностей негативно указывает на тип людей, для которых реальность раскрывается через эстетическое переживание. Если внимательнее приглядеться к этой последовательности человеческих типов, то на память тут же придет другая последовательность – последовательность, организованная системой древнеиндийских каст, или варн, основу которой составляют четыре касты: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры.
Каста брахманов, чьим негативным отпечатком являются атеисты, – это каста жрецов-священнослужителей, предназначением которых является священнодействие, то есть совершение ритуалов и обрядов, обеспечивающих поддержание священного порядка. Каста кшатриев, чьим негативным отпечатком являются анархисты, – это каста царей-воинов, которые устанавливают и охраняют священный порядок на земле силою оружия и политического искусства. Каста вайшьев традиционно считается кастой купцов, ремесленников и крестьян, то есть кастой людей, создающих и приумножающих материальные ценности, но сейчас, мне кажется, совершенно необходимо расширить это понятие и подключить к касте вайшьев, помимо создателей материальных ценностей, также и создателей интеллектуальных, эстетических, научных, гуманитарных и всех прочих ценностей. Вайшьи – это творцы, создатели ценностей как таковых, и их негативным отпечатком будут являться, конечно же, нигилисты и филистеры, отрицающие эти самые ценности. Что же касается касты шудр, или касты слуг, то здесь дело обстоит несколько сложнее. У них как бы нет собственного предназначения, ибо их задачей является обслуживание тех, кто следует своему предназначению, – то есть обслуживание чужих предназначений, обслуживание как таковое.
Парадоксальным образом у идеи обслуживания не может быть никакого негативного отпечатка и никакой альтернативы, ибо оно призвано обслуживать все мыслимые и немыслимые идеи, включая идею отказа от обслуживания, реализация которой требует своего обслуживания точно так же, как и воплощение любой другой идеи. Но это значит, что у обслуживания как такового нет и не может быть никакой собственной идеи, то есть не может быть самой идеи обслуживания. И здесь нужно провести строгое различие между понятиями служения и обслуживания. Сильно упрощая проблему, можно сказать, что если брахманы служат идее бога, кшатрии – идее государства, а вайшьи – идее создания духовных и материальных ценностей, то шудры не служат никакой собственной идее, но обслуживают чужие идеи служения. Все, что попадает в сферу обслуживания, превращается в объект обслуживания, и все обслуживаемое превращается в побочный продукт обслуживания. Поэтому в конце концов следует говорить не о сфере обслуживания, но о сфере тотального самообслуживания. Может быть, в этом и заключается призвание шудр, и может быть, именно в этом кроется объяснение всего, что сейчас происходит.
14
Если атеизм, анархизм, нигилизм и филистерство представляют собой всего лишь интеллектуальные позиции и любую из них может принять всякий человек при том условии, что обзаведется соответствующими убеждениями и будет следовать им, то брахманом, кшатрием, вайшьей и шудрой нельзя стать – ими можно только родиться. Здесь речь должна идти уже не об интеллектуальных позициях, но о внутренней природе человека, о врожденном или же кармическом предназначении. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры – это четыре разновидности человека, четыре подвида, на которые распадается единый вид homo sapiens. Причем это разделение носит универсальный характер. Его присутствие можно обнаружить не только в идеальном государстве Платона, но и во многих реально существующих кастовых и сословных обществах, сменяющих друг друга на протяжении истории. Нетрудно также усмотреть аналогию между древнеиндийской системой каст и структурой западноевропейского классового общества, в котором духовенство соответствовало касте брахманов, военная аристократия – кшатриям, буржуазия – вайшьям, а пролетариат – шудрам. Все это позволяет говорить об универсальности классификационной системы четырех человеческих типов, сформулированной и сложившейся в Древней Индии. Непреходящее значение и действенность этой системы не упраздняется даже после крушения сословных обществ и воцарения идеалов открытого общества, в котором традиционные человеческие типы утрачивают жесткие кастовые и сословные привязанности, но при этом не теряют своей действенной реальности, проявляя себя во врожденных предрасположенностях и задатках.
Эти врожденные предрасположенности сродни врожденным талантам – таланту математика, военачальника, бизнесмена или музыканта, но, наверное, здесь уместнее говорить не о врожденных талантах, но о четырех темпераментах, предопределяющих человеческую природу и человеческое поведение от рождения до смерти. Подобно тому как каждый человек рождается холериком, сангвиником, меланхоликом или флегматиком, печать чего он вынужден нести на себе всю свою жизнь, точно так же каждый человек появляется на свет с задатками брахмана, кшатрия, вайшьи или шудры. Родившись с задатками брахмана, человек становится склонным к мистическим воспарениям и к ведению религиозной жизни; родившись с задатками кшатрия, человек будет ощущать себя воином, одержимым страстью повелевать людьми; родившись с задатками вайшьи, человек, скорее всего, будет подвизаться на поприще бизнесмена или финансиста, а также обнаружит склонность к изобретательству и творчеству в самых разных областях человеческой деятельности; родившийся же с задатками шудры человек будет рассматриваться социумом как некая потенциальная рабочая сила, которую он может сдавать в наем, обслуживая тех, кто осуществляет свое предназначение.
Конечно же, в жизни некоторые из этих способностей будут развиваться, некоторые нейтрализоваться, а какие-то и вовсе блокироваться. Тут могут возникать и гибридные сочетания. Например, человек может одновременно соединять в себе задатки брахмана и вайшьи, что характерно для многих нынешних деятелей Церкви, а кто-то еще может сочетать в себе задатки кшатрия и шудры, что отличает подавляющее большинство современных политиков. Могут иметь место и еще более фантастические комбинации, ибо открытое общество – оно на то и открытое общество, что предоставляет условия для осуществления самых разных задатков как по отдельности, так и в их многообразных сочетаниях. Это кажется само собою разумеющимся в Москве, но когда здесь, в Нефели, я сижу за письменным столом и смотрю в окно на Эгейское море и на небо над ним, то эта очевидность становится все менее и менее явной, и откуда-то из глубины меня самого всплывает вопрос: а в какой степени открытое общество оказывается действительно открытым? И не является ли время возникновения открытого общества временем закрытия тех возможностей, которые существовали до наступления этого времени? Не является ли открытое общество закрытым для определенных возможностей, в то время как кастовое общество оказывается открытым для них? И вообще, что такое открытость и закрытость общества? Ведь, кроме всего прочего, вполне возможно допустить и такое, что открытость открытого общества является всего лишь иллюзией, в то время как жизнь и до сих пор управляется иерархическими законами кастовой системы, действенность которой простирается гораздо дальше и гораздо глубже, чем нам кажется. Здесь, в Нефели, такое предположение представляется более чем вероятным.
15
Мысль о том, что разные точки пространства могут обладать разными благоприятными или же неблагоприятными условиями для жизни и что возможности самореализации распределены в пространстве отнюдь не равномерно, не вызывает у нас особого противодействия. Как совершенно естественный факт мы воспринимаем то, что люди, живущие в разных странах и даже в разных городах одной страны, как правило, не могут располагать равными возможностями. При примерно равных способностях человек, живущий в Беверли-Хиллз или в окрестностях Женевского озера, по определению обладает большим спектром возможностей, чем человек, живущий в Судане или в Буркина-Фасо. Это не требует особых доказательств – достаточно вспомнить о миллионах законных и незаконных эмигрантов, всеми силами стремящихся изменить свою жизнь к лучшему путем перемещения в пространстве, даже тогда, когда эти попытки связаны со смертельной опасностью. Совсем другое дело – мысль о том, что разные моменты времени могут быть благоприятны или неблагоприятны для жизни и что возможности самореализации располагаются во времени отнюдь не равномерно. Это вызывает внутренний протест. Мы охотно верим в то, что человек всегда может осуществить задуманное им независимо от времени, в которое он живет, и вместе с тем с трудом смиряемся с мыслью, что дело, совершенное однажды, в определенное время, принципиально не может быть совершено в другое время. Неприятно думать, например, что время создания великих произведений искусства, а вместе с ним и время великих творцов прошло и что в наше время уже принципиально невозможно достигнуть ничего подобного ранее созданному. Это наводит на мысль о каком-то изначальном и непреодолимом неравенстве людей, трудно совместимом с идеей открытого общества. Ведь если мы можем надеяться на то, что неравенство, порожденное неоднородностью пространства, может быть преодолено путем пространственных перемещений, то неравенство, порожденное неоднородностью времени, для нас фактически непреодолимо, во всяком случае до тех пор, пока не будет изобретена машина времени. Вообще-то здесь следует говорить скорее не о неравенстве возможностей, но о неравенстве и различии предопределений и предназначений людей, живущих в различные времена, но суть дела от этого не меняется: человек не может ни изменить, ни преодолеть того, что требует от него время. В такой неукоснительности предназначения времени можно усмотреть некоторые черты сходства с неукоснительностью предписания кастовой системы, и поэтому, подобно тому, как мы можем говорить о кастовой структуре общества, точно так же возможно говорить и о кастовой структуре времени, и о кастовой структуре истории.









































