Текст книги "Безмолвие как бы на полчаса. Письма из Нефели"
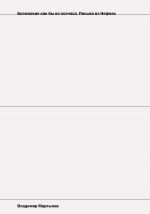
Автор книги: Владимир Мартынов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Сравнивая литературных животных с животными, которых можно увидеть на мониторах и гаджетах, следует заметить, что ни те ни другие, скорее всего, не являются тем, чем являются животные на самом деле. И в том и в другом случае человек переносит на животных качества своей собственной природы. Литературный человек олитературивает животных, приписывая им человеческие мысли и чувства. Человек цифровой эпохи разодушевляет животных, превращая их в симулякры, населяющие виртуальную реальность. Но что же представляют собой животные на самом деле? Наверное, я никогда бы не узнал этого, если бы не встретил тебя. И я никогда не забуду тех моментов, когда ты запрыгивал ко мне на колени и что есть силы всей своей мордочкой утыкался в мою согнутую в локте руку. Ты прижимался ко мне все сильнее и сильнее и потом замирал в каком-то напряженном блаженстве. Я тоже замирал, переставал писать, и мы застывали вместе, пребывая в какой-то общей тактильной медитации. Это не было литературной реальностью, но это не было и реальностью цифровой. Слово «реальность» здесь вообще неуместно. Это было какое-то нереальное соприкосновение с чистым бытием, с бытием как таковым. С людьми такое уже невозможно. Люди слишком много говорят, а слова все портят. В эпоху же шудр слова вообще превращаются в какую-то токсическую субстанцию. И если действительно домом бытия является не язык, как полагал Хайдеггер, а безмолвие, то, переселяясь из мира слов в этот новый дом, человек, согласно старому русскому обычаю, прежде всего должен запустить туда кота. Коты – первые насельники, оказывающиеся в доме бытия прежде человека, а ты, Хрюня, первый среди котов. Именно ты прокладываешь мне путь в дом бытия, и о том, что такое может быть, я догадывался еще в раннем детстве. Я предчувствовал все это, когда сочинял свою кошачью эпитафию:
Коты везде, коты кругом.
Коты построили свой дом.
Потом коты распили квас.
Потом коты пустились в пляс.
20
Я как-то уже задавался ницшеанским вопросом «Почему я пишу такие хорошие книги?» и оговаривался, что вовсе не претендую на то, чтобы считать их такими же замечательными, как у Ницше. Просто мне очень хотелось узнать, почему я пишу именно такие книги, какие пишу, и что заставляет меня постоянно возвращаться к теме конца – конца времени композиторов, конца времени русской литературы или напрямую к теме конца света. Пытаясь ответить на этот вопрос, я исписал уже немало страниц и вот теперь попробую сделать еще один шаг в этом направлении. Дело в том, что всю свою жизнь я, как говорится, засыпал с Апокалипсисом под подушкой, и хотя я не сразу стал подозревать об этом, но именно это и оказало наибольшее влияние на то, что я делаю, и на то, что пишу.
Апокалипсис вошел в мою жизнь давным-давно, еще в раннем детстве, когда мы жили на Новослободской улице и когда я даже не подозревал о существовании такого слова, как «Апокалипсис». Тогда моими любимыми книжками с картинками были дореволюционные альбомы по искусству и толстые тома переплетенных иллюстрированных журналов времен Англо-бурской войны с литографиями, изображающими сражения между голыми чернокожими дикарями-зулусами, вооруженными одними копьями, и хорошо экипированными белыми людьми с винтовками. Среди множества других диковинных изображений в какой-то момент мое внимание все чаще и чаще стали привлекать две старинные гравюры. На одной был изображен коленопреклоненный человек, глотающий книгу, а за ним чуть поодаль виднелись две горящие падающие колонны, которые внушали мне непреодолимый ужас своей загадочностью. Другая гравюра изображала четырех всадников, топчущих людей копытами своих коней. Первый всадник стрелял из лука, второй размахивал мечом, третий всадник сжимал весы в поднятой вверх руке, а четвертый был такой безобразный и страшный, что на него не хотелось даже смотреть. К этим двум гравюрам я возвращался снова и снова, и, когда однажды я спросил, что они изображают, мне ответили, что это иллюстрации Дюрера к Апокалипсису. С тех пор слова «Дюрер» и «Апокалипсис», соединившись вместе, стали ассоциироваться в моем сознании с чем-то загадочным и пугающим. Несколько позже, кода мы переехали на улицу Огарева, мне подарили гэдээровский альбом, воспроизводящий всю серию дюреровских гравюр «Апокалипсиса», и этот альбом я изучил до мельчайших деталей. Благодаря всему этому Апокалипсис превратился для меня в некое образное, визуальное знание, которое я не мог выразить словами и которое время от времени получало неожиданные подтверждения. Одним из таких подтверждений стал фильм Тарковского «Иваново детство». Когда я увидел дюреровскую гравюру на экране крупным планом, то воспринял это как тайное послание, смысл которого раскрывался в визуальных образах звезды, отражающейся в глубине колодца, самолета, уткнувшегося носом в землю, и страшного обрубка дерева в самом конце фильма. Еще одним таким подтверждением стал для меня «Пепел» Вайды. Распятие, висящее вверх ногами, и женская туфелька со сломанным каблуком, стоящая на престоле перед статуей Богоматери, – все это являлось частью того визуального знания, которое, ускользая от всего вербального, подспудно присутствовало в мире и в то же время, оставаясь незамеченным для большинства, посылало мне свои тайные знаки.
Апокалипсис так и оставался для меня чисто визуальным, непереводимым в слова переживанием, пока в руки не попала книга Николая Морозова[5]5
Морозов Николай Александрович (1854–1946) – революционер-народник, автор исследований по истории, астрономии, воздухоплаванию, физике и т. д.
[Закрыть] «Откровение в грозе и буре». Это была первая книга, из которой я мог почерпнуть достаточно подробную информацию и о тексте Апокалипсиса, и об истории его создания, и о жизни его автора. Если учесть, что Морозов являлся духовным предтечей Фоменко и Носовского с их одиозной концепцией «новой хронологии», то легко себе представить, какой своеобразной была та подробная информация, которую я почерпнул из его книги. Но что было, то было, и многое из прочитанного я принимал тогда за чистую монету. Если хронологические и астрономические штудии Морозова не вызывали у меня особенного энтузиазма, то его попытка классификации облачных форм, опирающаяся на разнообразие форм апокалиптических видений, крайне импонировала мне, ибо в то время я был занят написанием трактата о форме облаков. Конечно же, несколько смущал вытекающий из всего этого вывод, согласно которому откровение, явленное Иоанну Богослову на Патмосе, было спровоцировано сложными метеорологическими условиями, а именно грозой и бурей, сопровождаемой пугающей формой облаков и другими необычными атмосферными явлениями. Но смущения подобного рода меня давно уже научил преодолевать Плутарх, который в жизнеописании Перикла утверждал, что материалистическое объяснение природы явления отнюдь не может рассматриваться как отрицание его мистических и пророческих свойств. Кроме всего прочего, если можно прорицать по полету птиц, по внутренностям животных или по расположению звезд, то почему нельзя пророчествовать, исходя из конфигурации облачных форм? Как бы то ни было, но, несмотря на агрессивный материализм Морозова, его книга только укрепила меня в моих апокалиптических ощущениях. Однако вскоре произошло нечто такое, что окончательно и бесповоротно превратило меня в галерного раба апокалиптической темы.
Я имею в виду Карибский кризис, который очень по-разному переживался в СССР и США. Если в США этот кризис породил истерическую панику с массовым бегством из городов, срочным обустройством бомбоубежищ и постоянным ожиданием неизбежного ядерного удара, то в СССР из-за недостатка информации все воспринималось гораздо спокойнее, хотя, конечно же, и здесь наблюдалась общая нервозность. Что же касается нашего композиторского дома, где практически все постоянно слушали всевозможные «вражеские голоса», то состояние его обитателей можно было бы охарактеризовать как некую тихую панику. Лично у меня было ощущение, что все кончено. Помню, как я шел по Камергерскому переулку на выставку кубинских художников, которая, как нарочно, открылась именно в это время на Кузнецком Мосту. Стоял чудесный солнечный день затянувшегося бабьего лета, и его ласковое спокойствие входило в какое-то чудовищное противоречие с тем, что творилось в мире. Я начал спускаться к Петровке и вдруг остро почувствовал, что ничего из того, что сейчас вижу, я больше никогда не увижу и всего этого вообще больше никогда не будет. Я помню это чувство безысходности, я помню этот солнечный осенний день, но я не помню, чтобы в тот момент у меня возникли какие-нибудь мысли, связанные с дюреровским Апокалипсисом. Эти мысли пришли несколько позже, а тогда я думал скорее о том, что желание посетить кубинскую выставку в данный момент является чем-то не совсем уместным. Сама же выставка не представляла собой ничего особенного, если не считать того, что практически все выставленные там художники оказались последователями и эпигонами абстрактного экспрессионизма и что выставка абстрактного искусства в Москве была бы абсолютно невозможна, если бы эти художники не являлись выходцами с Острова свободы. По обычаю того времени у некоторых картин собирались небольшие группки сторонников и противников абстрактного искусства, между которыми разгорались жаркие споры. В центре одной такой группки находился человек явно художественной наружности, с шарфом на шее, пытающийся объяснить непонятливым профанам смысл абстрактной картины, табличка с названием которой гласила: «Тревога». «Тревога не обязательно должна быть связана с чем-то конкретным, – горячился человек в шарфе, – конечно же, тревога может возникнуть из-за того, что я боюсь попасть под автобус или боюсь, что от меня уйдет жена, но здесь изображена тревога вообще, тревога как таковая, экзистенциальная тревога». Не могу сказать, что эта мысль оказалась новой для меня, да и сама картина была, что называется, «не очень», но все это вместе взятое, сложившись с тем, что я почувствовал, спускаясь к Петровке, вдруг привело меня в состояние озарения, и я понял, почему в тот момент у меня не возникло мыслей об Апокалипсисе. Слово «Апокалипсис» чрезмерно богато культурными ассоциациями, оно очень культурно, и в нем слишком много Дюрера. А в том, что почувствовал я там, на Петровке, не было ничего культурного, не было никакой культуры. Там не было слова «Апокалипсис», не было даже хайдеггеровской «жути» – там вообще не было и не могло быть слов. Это было нечто принципиально и изначально внесловесное. Может быть, какое-то молниеносное соприкосновение с Небытием. Не знаю. Но знаю, что то, что я пережил тогда на Петровке, оставило в моем сознании глубокий шрам на всю жизнь. Возвращаясь в контекст культуры, я назвал для себя этот шрам шрамом Карибского кризиса. А еще я подумал о том, что для моего поколения Карибский кризис стал в какой-то степени тем, чем для флорентийцев, сиенцев и венецианцев XIV века явилась чума 1347–1348 годов. Конечно же, Карибский кризис не был чреват реальными смертями, но он стал подлинной репетицией конца света. И те, кто почувствовали и осознали это, уже не могли оставаться прежними, они просто не могли не измениться. Мне кажется, что психоделическая, сексуальная и рок-революция явились реакцией не только на послевоенный экономический бум, но и на Карибский кризис, подобно тому, как реакцией на Черную смерть XIV века явился «Декамерон» Боккаччо или «Новеллы» Франко Саккетти. Что же касается меня лично, то после этой репетиции конца света я стал паломником в Страну Востока и в этом паломничестве провел около десяти лет.
21
С новой силой тема Апокалипсиса зазвучала во мне, когда, покинув пространство культуры, я оказался в пространстве Церкви. Конечно же, я давно знал, что слово «Апокалипсис» переводится как «откровение», но все равно его смысл затмевался фонетикой, которая воспринималась как нечто угрожающее и зловещее. Для меня это слово звучало диагнозом страшной, неизлечимой болезни, смертным приговором, а его содержание представлялось мне каким-то неимоверным нагромождением ужасов. Теперь же «откровение» стало означать для меня открытие того, чего ранее не было видно, то есть того, что скрывалось за всем этим кошмарным нагромождением и что неизбежно следовало за ним. Явление Небесного Иерусалима, явление Новой Вселенной и Нового Человека – вот основное содержание Апокалипсиса – «Откровения». Этому научили меня новгородские иконы Страшного Суда, и в первую очередь икона «Апокалипсиса» из Успенского собора Московского Кремля, экстатическая радость которой, пожалуй, не имеет аналогов в изобразительном искусстве. Глядя на эту икону, неизбежно начинаешь понимать, что Апокалипсис – это «не про конец света». Апокалипсис – это «про начало нового мира». Апокалипсис – это грандиозная ода к Радости, по сравнению с которой меркнет даже великое творение Бетховена. Эта радость преодолевает все ужасы и скорби, изливаясь в завершающем экстатическом возгласе: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
И вот, в тот самый момент, когда я начал понимать все это, раздался звонок Норберта Кухинке, по наводке Альфреда Шнитке сделавшего мне предложение, от которого невозможно отказаться. Это был заказ на «грандиозное», по его словам, сочинение, посвященное тысячелетию Крещения Руси и предназначенное для совместного исполнения сразу несколькими хорами России и Германии. Так началось мое общение с этим замечательным человеком, которое растянулось на несколько лет, ибо организация такого поистине грандиозного мероприятия требовала немалого времени, и успеть осуществить его к 1987 году было никак невозможно, что для меня оказалось очень кстати. Поначалу мы даже не понимали, что у нас должно было получиться в конечном итоге. Норберт знал только то, что называться все это должно Missa Rossica и что там обязательно должны быть слова «Господи, помилуй!». В процессе наших многочисленных встреч мы с Норбертом обсудили немало вариантов различных либретто и сценариев, но постепенно я начал приходить к выводу, что здесь может иметь место только текст Апокалипсиса. Когда я окончательно утвердился в этом мнении и убедил в нем Норберта, то почувствовал, что здесь речь заходит о деле всей моей жизни. Я прекратил сдавать экзамены в Духовную академию и полностью занялся работой над Апокалипсисом, которая протекала на фоне поистине апокалиптических событий политической жизни. Кровавое подавление студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь, телевизионные кадры с расстрелянным Чаушеску, события в Тбилиси и Вильнюсе – все это сливалось в какое-то неразделимое единство с текстом Апокалипсиса, который я перекладывал на ноты, и мне начинало казаться, что я пишу письмо кому-то из самой гущи апокалиптических событий, выступая в качестве их свидетеля. Последние страницы партитуры с текстом «Ей, гряди, Господи Иисусе!» были дописаны в июле 1991 года, и в августе того же года не стало ни той страны, в которой я жил, ни того мира, в котором она находилась. Не берусь утверждать, хорошо это или плохо, хочу лишь сказать, что вижу в этом подтверждение истинности того, что я тогда делал. Причем я далек от мысли устанавливать здесь какие-либо причинно-следственные связи – речь только о корреляции между историческим событием и музыкальной структурой. Я не был даже инициатором этой корреляции – я был всего лишь ее медиатором, но и этого более чем достаточно, и это дорогого стоит. Не я писал музыку на текст Апокалипсиса, но Апокалипсис вписал меня в одно из предвозвещенных им событий. Я почувствовал себя даже не отдельно взятой буквой, но каким-то крохотным элементом или едва заметным штрихом буквы, которая вместе с другими буквами образует текст Апокалипсиса. Я почувствовал себя находящимся внутри апокалиптического текста, и поскольку все произошло в какой-то степени с подачи Норберта, являющегося соотечественником Дюрера, то я увидел в этом благословение самого Дюрера, благодаря которому я впервые услышал слово «Апокалипсис», разглядывая его четырех всадников в старинном альбоме на Новослободской улице. Но еще более важным для меня стало то, что эти мои сугубо личные, субъективные ощущения в скором времени получили объективное подтверждение извне, ибо как еще можно истолковать тот факт, что именно моя приверженность апокалиптической теме привлекла ко мне внимание трех великих режиссеров современности: Юрия Любимова, Анатолия Васильева и Роберта Уилсона, открыв мне путь к общению и сотрудничеству с ними? То, что в наших взаимоотношениях я исполнял функцию композитора, а они – функцию режиссера, являлось лишь внешней и даже формальной стороной дела, главное же заключалось в том, что всех нас объединила тема Апокалипсиса. И то, что такие разные, такие непохожие друг на друга и в то же время такие выдающиеся и великие личности вошли в резонанс с тем, что волновало меня всю жизнь, явилось для меня неопровержимым свидетельством того, что Апокалипсис – это не просто моя личная тема, это тема, которая касается каждого ныне живущего человека, независимо от того, осознает он это или нет. И Юрий Любимов, и Анатолий Васильев, и Роберт Уилсон, и я – все мы стали свидетелями Апокалипсиса, и мои взаимоотношения с каждым из них превратились в «вариации на тему Апокалипсиса», которые мне уже давно хотелось написать. Но прежде, чем приступить к их написанию, мне кажется, необходимо уточнить, что конкретно подразумевается под словосочетанием «тема Апокалипсиса», иначе будет не очень понятно, что именно должно подлежать варьированию.
22
Приблизиться к пониманию внутренней логики Апокалипсиса мне помогло чтение Книги пророка Иеремии, который предрек разрушение Иерусалима халдеями и который оплакал Иерусалим, став свидетелем исполнения своего пророчества. Мне кажется, здесь очень важно обратить внимание на два обстоятельства, сопутствующих этому пророчеству и имеющих самое непосредственное отношение к пониманию Апокалипсиса. Когда жители Иерусалима думали, что все обойдется и Навуходоносор не будет разрушать их город, пророк Иеремия надел на себя ярмо в знак того, что иудеи вопреки своим надеждам будут уведены в вавилонский плен. Когда же жители Иерусалима поняли, что они обречены, что их город будет отдан в руки царя вавилонского и разрушен, пророк Иеремия купил в этом обреченном городе кусок земли в знак того, что разрушенный Иерусалим будет в конечном итоге восстановлен и что Новый Храм возрожденного Иерусалима увидит пришествие Мессии, возвещающего наступление времени Нового Завета. Если бы жители древнего Иерусалима пользовались современным языком жестов, то в обоих случаях при виде пророка Иеремии они наверняка стали бы крутить указательным пальцем у виска, ибо с точки зрения обыденного сознания его поступки были абсолютно безумны. Но именно в этом двойном безумии заключается единое и великое Безумие пророчества откровения. Откровение являет сокровенное как бы в два приема. Во-первых, оно открывает неотвратимость конца, таящегося под видимостью неукоснительного течения событий, а во-вторых, оно обнаруживает неизбежность начала, таящегося за видимостью неизбывного конца всего окружающего. Когда кажется, что все в порядке и все идет своим чередом, пророк Иеремия надевает на себя ярмо, указывая на то, что все кончено, а когда кажется, что все кончено и больше ничего не будет, пророк Иеремия покупает землю, указывая на неизбежность грядущего начала. Это позволяет говорить о том, что каждое откровение в сухом остатке есть откровение конца и начала и каждое пророчество в конечном итоге есть пророчество о конце и о начале. И здесь в который раз невозможно не вспомнить о двух последних гексаграммах «Книги Перемен».
Щуцкий[6]6
Щуцкий Юлиан Константинович (1897–1938) – филолог-востоковед, переводчик и интерпретатор «Книги Перемен».
[Закрыть] переводит названия 63-й и 64-й гексаграмм как «Уже конец» и «Еще не конец». У Виногродского[7]7
Виногродский Бронислав Брониславович (р. 1957) – китаевед, переводчик древних китайских текстов.
[Закрыть] можно найти сразу два варианта этих названий: «Уже уравновешено» и «Еще не уравновешено», а также «Уже справились» и «Еще не справились». Я, со своей стороны, предложил бы назвать эти гексаграммы «Уже все» и «Еще не все», и мне кажется, что эти названия гораздо лучше названий Щуцкого и Виногродского. А может быть, еще лучше в каждом названии оставить только одно слово: «Уже» или «Еще», – и этого будет вполне достаточно для того, чтобы понять, о чем идет речь. Впрочем, для понимания смысла гексаграммы важно не столько название, сколько ее структура. Так, в 63-й гексаграмме начальной нижней триграммой является «Огонь», символизирующий ясность, а следующей за ней верхней триграммой является «Вода», символизирующая опасность. В 64-й гексаграмме нижней триграммой является «Вода» – опасность, а верхней триграммой – «Огонь», ясность. В новом, трехтомном издании «Книги Перемен» Виногродский приводит немало классических толкований этих гексаграмм, но, поскольку мне важно понять их в связи с проблемами откровения и пророчества, я попытаюсь дать им свое толкование. В 63-й гексаграмме за очевидной всем ясностью, порождающей общее спокойствие, таится смертельная опасность. Пророк Иеремия прозревает эту опасность и, пророчествуя о ней, надевает на себя ярмо, смущая общее спокойствие. В 64-й гексаграмме реализовавшаяся опасность в виде всем очевидного катаклизма чревата возможностью явления никем еще не осознанной новой ясности. Находясь в самом эпицентре катастрофы, пророк Иеремия прозревает новую грядущую ясность и, пророчествуя о ней наперекор всеобщей очевидности, выкупает кусок земли обреченного города. Я, конечно же, осознаю, что такие понятия, как откровение, пророчество или эсхатология, есть нечто абсолютно чуждое духу и букве «Книги Перемен», да и всему культурному коду китайской цивилизации, но, будучи русским, я просто не могу удержаться от того, чтобы не назвать 63-ю и 64-ю гексаграммы апокалиптическими гексаграммами, тем более что ко всему этому примешивается еще один эсхатологический нюанс, связанный со Вторым посланием апостола Петра, в котором говорится: «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля ‹…› сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Разве не удивительно, что в 63-й гексаграмме наверху находится триграмма воды, а в 64-й гексаграмме наверху находится триграмма огня? И разве в этом нет прямой переклички со словами апостола Петра, говорящего о гибели допотопного мира в водах потопа и предрекающего гибель нашего мира в огне Страшного суда? Впрочем, я не буду настаивать на этой мысли, ибо сейчас меня занимает более общий вопрос: каким образом можно интерпретировать проблему Апокалипсиса в контексте «Книги Перемен» и возможно ли это вообще?
Мне кажется, что это вполне возможно, но для этого нужно ввести понятие метаперемены. Если под понятием перемены подразумевать то, что происходит при переходе от одной гексаграммы к другой внутри цикла, образованного 64 гексаграммами «Книги Перемен», то под понятием метаперемены следует подразумевать то, что происходит при переходе от последней, 64-й гексаграммы, завершающей полный цикл перемен, к первой гексаграмме нового цикла. Другими словами, метаперемена есть то, что происходит при переходе от одного цикла 64 перемен к другому, и то, что современные люди часто и не совсем удачно называют Апокалипсисом. Метаперемена – это Апокалипсис, а Апокалипсис – это метаперемена. В этом легко убедиться, стоит лишь вспомнить слова Иоанна Богослова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Небо и земля – это образы первых двух гексаграмм, открывающих цикл 64 перемен. Увидеть новое небо и новую землю – значит увидеть первые гексаграммы нового цикла перемен, а увидеть первые гексаграммы нового цикла – значит совершить переход из одного цикла перемен в другой, или, говоря несколько иначе, это значит стать субъектом метаперемены и оказаться в эпицентре Апокалипсиса. А это уже дело более чем серьезное. Здесь недолго и в огне Страшного суда сгореть. Но даже если каким-то фантастическим образом удастся избежать этого огня, то остается совершенно непонятным, как, будучи насельником и гражданином уже отжившего свое цикла перемен, можно получить гражданство в новом цикле? Что нужно сделать для этого? Как уподобиться пророку Иеремии и ухитриться купить клочок земли здесь, чтобы там купчая была признана законной? Хрюня! Может быть, ты знаешь что-нибудь об этом?
23
Прежде чем писать о том, как мы познакомились с Васильевым, я приведу слова самого Васильева о том, как судьба свела его со мной.
Начало этой истории уходит в лето семьдесят пятого года, когда, окончив второй, уже художественный вуз и приобретя легкую славу, я решил попробовать себя в другой профессии, я отправился в фольклорную экспедицию на Север с группой Московского университета, взяв с собой кинокамеру и коробок двадцать негатива.
«Старинными песенками» на Мезени началась (или продолжилась) моя другая жизнь. Впрочем, она продолжилась, за несколько лет до этого путешествия я имел дерзость написать музыку на стихи Марины Цветаевой в стиле, мною интуитивно ощущаемом, но слишком желанном. «Кабы нас с тобой да судьба свела» – так начинался первый распев – до сих пор поражен простым событием нот на клавире, последующей аранжировкой, сделанной уже не мною, наконец, записью номеров симфоническим оркестром кинематографии.
Я вспоминаю дни дружбы с Дмитрием Покровским и мою театральную привязанность к его ансамблю, репетиции «Бориса Годунова» на Таганке, как давно, однако, это было, как давно мы знакомы с Андреем Котовым, тогда солистом ансамбля.
Я вспоминаю крещение в церкви на Ваганьковом кладбище, меня крестили заботами Никиты Любимова в возрасте генерала Гремина из восьмой главы «Евгения Онегина», тогда я не знал еще, что был счастлив, я узнал позже, я забывал и опять узнавал, и так проходили годы театра, пока волей Всевышнего не случился «Иосиф и его братья»; наступила весна, кажется, девяносто первого года, всю ночь шел прогон глав из романа, читался Ветхий Завет и пелись молитвы всенощной, утром мы вышли на воздух за дверь бывшего «Урана», до Пасхи было еще далеко, но в воздухе разливалась такая особенная теплота и мягко подтаивал снег, что казалось, Пасха наступила.
Я много пережил, когда «Иосиф» попал в яму, трагические дни растерзанного – только что сыгранного премьерой в японской деревне Тога – спектакля совпали с днями второго октябрьского переворота, в одночасье у меня не стало ни «Иосифа», ни моего советского прошлого, ни труппы, за пять лет выпестованной в привычках иного, непошлого театра.
«Мое платье! – вскричал Иосиф и в великом страхе взмолился: – Не рвите его!» Да, они порвали и сорвали его, материнское платье, которое принадлежало и сыну, – у меня не стало ни Иосифа, ни его братьев, но остался «Плач».
Я попросил Андрея Котова начать репетиции «Плача Иеремии» теперь уже с целью представить в законченной художественной форме на сцене театра «Школа драматического искусства», я не торопился с макетом, простая уверенность в будущем сценографическом образе успокаивала меня, в Будапеште заканчивались наши встречи с Тёрёчик Мари на «Дядюшкином сне», тогда открылась картина «Плача», как это должно быть.
Неправда, что жизнь наша случайна и незначительна пред Всевышним, не назову многих происшествий, приведших к сегодняшнему дню, но вспомню одно: августом девяносто четвертого года я паломничал на Святой Горе Афонской в праздник Успения Богородицы, я простоял всю по византийскому чину службу в Иверском храме, от пяти вечера до десяти утра, от праздничного молебна в честь Иверской иконы, торжественно внесенной в Кафедральный собор, до следующего дня литургии, тогда я полностью услышал то, что должно быть после, уже знал, что «Плач Иеремии» предстанет и будет, каков и есть.
И все же нельзя сказать с уверенностью, что история «Плача» завершена.
24
АПОКАЛИПСИС. ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ
ВАРИАЦИЯ № 1. АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ
«Мое платье! Не рвите его!» – вслед за Иосифом и Анатолием Васильевым мог бы воскликнуть и я, ибо как, по словам Толи, у него в одночасье не стало ни его «Иосифа», ни его советского прошлого, ни его труппы, но остался «Плач», так и у меня в какой-то момент не стало ни моего «Апокалипсиса», ни моего академического будущего, ни моих надежд, связанных с Церковью, и остался только мой «Плач», который со временем оказался и Толиным «Плачем», ибо это был «Плач пророка Иеремии». У меня не осталось надежд, связанных с Церковью, потому что перестройка и срастание Церкви с государством развеяло их. У меня не стало академического будущего, потому что я отказался от сдачи экзаменов в Духовную академию ради написания «Апокалипсиса». У меня не стало «Апокалипсиса», потому что Норберт Кухинке и Виктор Сергеевич Попов совершенно беззастенчивым образом предали меня. Я не держу зла на Норберта, потому что он стал невольным соучастником этого предательства, но мне трудно простить Виктора Сергеевича, которого именно я порекомендовал немцам на этот проект, который был близким другом и сотрудником моей мамы и который на поверку оказался совершенно свинским лабухом. Он оскопил мой «Апокалипсис», оставив от него только «Снятие семи печатей», «Семь труб» и часть «Небесного Иерусалима», и разбавил все это Бортнянским, Веделем и Рахманиновым, в результате чего получилась эдакая православная разлюли-малина на потребу публике. Не мне его судить, но он покусился на целостность текста «Апокалипсиса», не дав прозвучать ему на Западе во всей полноте, а такое посягательство на целостность священного текста является практически хулой на Духа Святого, что не прощается ни в этом, ни в будущем веке. Впрочем, Бог ему судья.
Оскопление моего «Апокалипсиса» явилось для меня серьезной жизненной травмой, которую я переживал очень тяжело. В почти двухмесячных «апокалиптических» гастролях по Германии и Франции я пил так много, как, может быть, никогда в жизни. Но именно благодаря этой травме внутри меня вызревала уверенность в том, что я просто обязан восполнить утрату «Апокалипсиса», а для этого мне нужно было найти большой библейский текст, способный хоть как-то конкурировать с текстом Апокалипсиса, и подобрать необычных, нетривиальных исполнителей, способных превратить исполнение библейского текста в некое ритуальное действо. И тут судьба послала мне Андрея Котова с его ансамблем «Сирин». Когда я в первый раз услышал этот ансамбль на сводной репетиции «Апокалипсиса», который, превратившись в какую-то сборную солянку, стал называться Missa Rossica, то сразу понял, что это то, что нужно, и что проблема компенсации утраченного «Апокалипсиса» практически решена. Отпочковавшись от ансамбля Дмитрия Покровского, Андрей каким-то чудесным образом набрел на замечательное ноу-хау: он совместил знаменный распев и строчное пение с фольклорной манерой исполнения. Это была абсолютно прорывная эвристическая идея, открывающая совершенно новые горизонты. Позже я узнал, что нечто подобное имело место и на Западе, где Марсель Пере приглашал сардинских фольклорных певцов для исполнения мессы Гийома де Машо. Но это было действительно гораздо позже, а тогда, в 1991 году, услышав, как сиринцы поют демественное[8]8
Демественное пение, или демество – разновидность церковнославянского пения, существующая в виде одноголосного распева и многоголосия.
[Закрыть] многоголосие, я вдруг понял, что именно так должен звучать «Плач пророка Иеремии», и вопрос библейского текста был решен. Работа с ансамблем «Сирин» походила на работу в рок-группе: многое находилось и менялось на репетициях прямо по ходу дела и изначально заданная жесткая структура, обусловленная двадцатью двумя буквами еврейского алфавита, предоставляла мне возможность гибкого поведения с исполнителями, то есть я мог учитывать их возможности и даже пожелания, в то же время ни на йоту не отступая от своего композиторского замысла. В результате возникла достаточно необычная звуковая ткань, соединяющая в себе композиторские и некомпозиторские принципы организации материала. Оценивая то, что получилось тогда, с сегодняшней моей позиции, я мог бы сказать, что там произошло стихийное совмещение двух принципов: принципа поэзиса с принципом иконического синтеза. Тогда я, естественно, не думал об этом, но сейчас отчетливо вижу, что это так. И еще я только сейчас начал понимать, что все связанное с написанием мною «Плача пророка Иеремии» имеет сугубо антропологическую подоплеку. Если быть предельно кратким, то это можно выразить следующим образом: я – вайшья, живущий во время шудр и стремящийся стать кшатрием, – решил реализовать себя, и результатом этой реализации стал «Плач пророка Иеремии».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































