Текст книги "Паломничество жонглера"
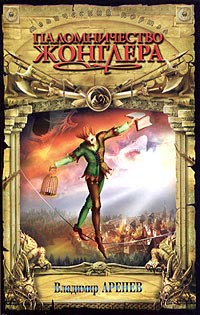
Автор книги: Владимир Пузий
Жанр: Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
С дороги!.. Трудно быть Найденышем. К'Дунель наблюдает за боем быков. Работка для гвардейца в отпуску. «Запретниками не становятся, запретниками рождаются»
Посуливши ответ, нас поймал хитрый век
в сети из рваных вен, из опущенных век.
Я давно уж не жду от него тех ответов —
вопрос-то забыл я, чудак-человек!
Кайнор из Мьекра по прозвищу Рыжий Гвоздь
В городишке под коротким и непонятным названием Сьемт уже вовсю хозяйничала осень, в чем пассажиры экипажа Н'Адеров убедились еще на подступах, когда размытая дождями дорога вдруг чавкнула и не пожелала отпустить колеса двуполки. Пришлось выбираться, подкладывать под колеса ветки и толкать завязшую махину; под улюлюканье перебравшейся на место кучера графиньки экипаж наконец тронулся с места, а Гвоздь, Айю-Шун и Дальмин, перемазанные грязью, с исцарапанными о ветки ладонями, вместе с Матиль, врачевателем и Талиссой погрузились обратно.
Как вскоре выяснилось, тут они явно поспешили.
– И это только начало! – пыхтел, налегая плечом на недвижную громаду, Гвоздь. – Нет бы нам переправиться через Клудмино у Нуллатона, там дорога-то посуше и паром ходит каждые два часа, а теперь будем тащить и лошадей и повозку на своем горбу. До самой северной переправы а до нее от Сьемта еще ехать и… тьфу, проклятье! – Он сплюнул: брызги из-под колес летели во все стороны, в том числе и в лицо.
– Не ругайтесь, господин Кайнор! – жизнерадостно отозвалась чернявая. Она снова правила вместо кучера, спровадив того толкать экипаж вместе с жонглером и тайнангинцем. – Мне нужно было забрать из Трех Сосен господина Туллэка, а возвращаться оттуда к переправе у столицы несподручно: слишком много времени потеряли бы.
– Сейчас мы его теряем вдвое больше, – проворчал Гвоздь. – Но вам там, сверху, безусловно, виднее, графиня… Ну, давайте на раз-два-три! Командуйте, командуйте, господин врачеватель!
Тот начал считать, неуклюже опираясь на трость и с растерянной улыбкой на лице. Несколько дней в дорожных гостиницах не пошли господину Туллэку на пользу, он поистрепался, подхватил где-то простуду, к тому же заныли старые раны. Графинька – добрая душа – снимала обычно общую комнату для себя с Матиль и Талиссой да две двуспальные: одну Айю-Шуну и Дальмину, другую Гвоздю с господином Туллэком. (Как подозревал Гвоздь, чернявая не хотела оставлять тайнангинца и врачевателя наедине.) Поневоле приходилось выслушивать кряхтение и стоны, особенно под утро, когда господин Туллэк забывался тяжелым потным сном. Однажды Гвоздь не выдержал: «А как насчет „врачу, исцелися сам“?» Господин Туллэк только пожал плечами: «Есть, знаете, болезни, от которых избавляет только смерть. А я еще не готов…»
Дорога в очередной раз снисходительно выпустила экипаж – на поруки его пассажиров.
«И почему бы ее батюшке не преставиться летом или зимой?» – злился Гвоздь, забираясь вовнутрь. Тут уже вся обивка была в грязи – ввек батальон уборщиц не вычистит. Кайнор пристроился в более-менее чистом углу и с отвращением оглядел себя: такое впечатление, что сутки не вылезал из земли, Цапля меня заклюй! Ну, теперь из Сьемта они не уедут, пока Гвоздь не навестит прачек, что бы там ни говорила чернявая!
Впереди их ждали еще две выбоины, и лишь потом – городские ворота.
– Такое впечатление, что здешний градоначальник о дорогах думает в самую последнюю очередь, – не вытерпела у себя за перегородкой графинька, когда они, пошатываясь из стороны в сторону на манер запойного пьяницы, въехали-таки в Сьемт. – Как будто мостовую здесь не обновляли лет пятьдесят.
– Больше, – уточнил Гвоздь. – И градоначальнику в самом деле не до дорог: у него на плечах висят с одной стороны Мясники, с другой – Ювелиры. И вот уже какое десятилетие решают, кто из них круче.
– Это после Бунта-то городов? – не поверила чернявая.
– А что Бунт? Ну отобрали у самых дерзких и вольнолюбивых Восточное право, ну посадили королевских людей надзирать и карать… дальше-то что? Во-первых, графиня, города бывают разные; это Таллигон или Дьенрок имеет смысл держать, фигурально выражаясь, под прицелом. А такие как Сьемт… Короне дороже обойдутся. Послали сюда какого-нибудь чиновничка из второсортных: что хочешь, то и делай, главное налоги вынь да положь. А здесь к нему местные князьки подъехали: будешь вести себя правильно – проживешь долго и со вкусом; нет – коротко и кисло. Он второсортный, но не дурак же – согласился. Сидит, налоги отправляет в казну, но в действительности, само собой, ни на что не влияет. До дорог ли ему? Опять же паломники к Ллусиму ездят либо южнее, либо северней Сьемта, так что и повода особо стараться нет никакого. А в городе своя головная боль: здесь от века цеховики друг с другом отношения выясняют. Высокие и низкие ремесла – и кто имеет больше права на власть.
– Вы-то за кого, господин Кайнор?
– Я, графиня, за дороги. Мне, по правде говоря, до Лабиринта, кто из местных толстосумов сломает хребет другому и отхватит кусок посочнее. Я от этого куска в любом случае ни крошки иметь не буду; они, само собой, местную рвань завлекают рассказами про равноправие и единогласие, но я такие байки сам сказывать умею, и еще убедительнее. А в действительности если бунт выльется в резню, а чернь – на улицы, король пришлет-таки сюда войско. Как думаете, кто после этого будет качаться на тех кленах, которые мы видели вдоль дороги? Готов поспорить: ни один из толстосумов не спляшет с ветром «Покойницкую» – сплошь мужичье. Так что я за дороги, графиня. Причем за те, которые ведут из города, а не в него.
– Вы просто прелесть, господин Кайнор! Так хорошо разбираться в политике…
Гвоздь поморщился. У чернявой были свои любимые словечки, которые он уже терпеть не мог. И если за время путешествия господин Туллэк сильно сдал, то графинька, наоборот, словно ожила, вдохнув вольного (и довольно пыльного) ветра дорог. Иногда ее жизнерадостность казалась даже неприличной, если вспомнить о недавно почившем отце.
– Странствующему жонглеру хорошо разбираться в политике так же необходимо, как наемнику знать, с какой стороны браться за меч, графиня.
– В таком случае держите свой меч покрепче, господин Кайнор. Думаю, в этом городе он может нам пригодиться.
«Я бы предпочел, чтобы не пригодился, – подумал он. – И пусть кто угодно обвиняет меня за это в малодушии».
Гвоздь выглянул из окна экипажа: тот сейчас катился по улице Двух Раззяв. Грохот колес и цоканье лошадиных подков гулким эхом отражались от стен, однако ничуть не тревожили ни драных, но гордых голубей на карнизах, ни, тем более, жирных свиней, валявшихся прямо на мостовой. Вместо того чтобы уступить дорогу двуполке, эти пятнистые полудикие твари визжали и пугали коняк. Дальмин вовсю орудовал хлыстом, размотав его на полную длину и охаживая хавроний по покрытым засохшей грязью бокам. Пастушата, которым надлежало приглядывать за свиньями, визжали не хуже своих подопечных и пытались – безуспешно! – отогнать их из-под Дальминового хлыста.
Как обычно бывает в таких случаях, собралась масса зевак. Они зубоскалили и давали бесплатные советы, впрочем, не только бесплатные, но и бессмысленные.
– Это надолго, господин Кайнор? – спросила через перегородку графинька.
– Всё зависит от того, куда мы направляемся.
– Куда-нибудь в центр, где есть приличные гостиницы.
– Приличных в вашем разумении нет ни в этом городе, ни в двух-трех ближайших, графиня. Но недорогое заведение, где пиво не пахнет мочой, а в кашу не добавляют отвар из кошачьих костей, я знаю.
– Тогда будьте добры, скажите Дальмину, куда править.
– Охотно, графиня.
Дверца экипажа открылась только наполовину: улицы здесь были слишком узкими. Но Гвоздь протиснулся в образовавшуюся щель и поднялся на крышу двуполки.
– Ну-ка, позволь. – Он отобрал у кучера хлыст. – Па-асторонись! – Кайнор бил направо и налево, посвистывая и выкрикивая предупреждения. Народ быстрехонько понял, что потеха закончилась, и счел за лучшее не путаться под копытами и поберечь плечи и спины.
– Сразу видно, что ты давно не выезжал со своей госпожой в пригород, – заметил Гвоздь, когда они миновали улицу Двух Раззяв и загрохотали в направлении «Блудливого Единорожца».
Дальмин только отмахнулся:
– Что есть, то есть. По правде-то сказать, госпожа предпочитает конные прогулки, а если и выбирается куда-нибудь, то не в этой огромадине, но в экипажах поскромнее. Вот старый граф – тот был любитель поколесить по стране: паломничества, легендарные места славных деяний, могилы героев разных…
– Что, верил во всё это?
– Не то чтоб верил… – Дальмин задумался, почесал небритую щеку с уже начавшей проступать сединой. – Нет, сдается мне, не верил он. Просто интересовался – ну, вроде как ученые или чародеи интересуются.
– Но ведь граф не был ни тем ни другим, так?
– Не был. Однако, согласитесь, господин Кайнор…
– «Гвоздь» и на «ты», мы же договаривались.
– Да. Так вот, согласись, Гвоздь, что высокие господа с тугими кошельками могут позволить себе многое. Опять же старый граф был за Хребтом и, говорят, навидался там всякого. Меня-то самого зверобоги миловали…
– Значит, говоришь «просто интересовался»… – пробормотал Гвоздь. – О! – воскликнул он, указывая кнутовищем, – вот и приехали. «Блудливый Единорожец», собственной персоной.
– Осталось только загнать во двор этот гроб на колесах, – вздохнул Дальмин.
– Не переживай, приятель, я помогу, – подмигнул ему гвоздь, у которого резко поднялось настроение – ведь всё шло именно так, как он задумал.
* * *
…падение – как всегда.
И разноцветные ленты.
И чужой издевательский смех; нечеловеческий. «Найдёныш! Найдёны-ы-ыш!»
Проваливаясь в чересполосицу бездонного сна, Фриний вздрогнул и попытался оглядеться. Ведь когда-то давно именно так его и звали – Найдёнышем.
Он увидел густой монастырский сад – ту его часть, где заросли крапивы и будяка были изъязвлены потайными ходами, о которых знали только Непосвященные. Босоногие мальчишки с расцарапанными голенями и мозолями на коленях – у них нечасто появлялся часок-другой свободного времени; а уж когда появлялся, они старались сбежать подальше от наставников обители и храмовых служек. Если удавалось, до сумракового колокола можно было безраздельно распоряжаться собой и делать что угодно: играть в «лягушку» и «подбери язык», обмениваться запретными историями и сальными шуточками насчет кое-кого из монахов, наконец – дрыхнуть, не беспокоясь, что пинок ноги в деревянной сандалье разбудит тебя… – но всё это лишь до сумракового колокола. Однажды Фриний (тогда еще просто Найдёныш) проспал и не успел вовремя вернуться в обитель – и те двадцать розг долго потом аукались ему при каждом неосторожном движении. «Строгость необходима, ибо вы служите Сатьякалу, а зверобоги не терпят ленивых и непочтительных», – гнусавил в подобных случаях наставник Сморк. («Представляешь, – сказал как-то Найденышу Птич, – он и когда через мост к вдовушке своей бегает, небось так же тянет: „необходи-има“!» Найдёныш на это только невесело улыбнулся, стараясь держаться так, чтобы рубашка не касалась рубцов на спине.)
Впрочем, розги доставались всем, и стоять во время молитвы на горохе доводилось каждому из Непосвященных – и не по одному разу! Наставники не давали спуска никому – наверное, потому что когда-то давно их собственные наставники точно так же заставляли юных Сморка, Гилроша и Туфельдра вызубривать на память десятки страниц «Бытия» или носить в треснувшем кувшине воду от дальнего родника. Но главное, никого из Непосвященных они не выделяли, не делали любимчиками; все были равны перед Сатьякалом и его служителями. Все.
Что не мешало самим Непосвященным находить себе «мальчиков для шпынянья». В большинстве своем незаконнорожденные отпрыски вельмож, Непосвященные частенько попадали сюда уже «взрослыми», в возрасте пяти-шести лет, привыкшими к тому, что в отцовских замках все над ними потешались, дворня швырялась в них каштанами и даже псы норовили при случае цапнуть за пятку. И теперь эти бастарды, от которых столь удачно избавились (и которые, сколь бы малы ни были, прекрасно понимали это), – теперь они спешили отыграться. Они вечно грызлись промеж собой, но когда дело доходило до травли других Непосвященных – не бастардов, а просто сирот, которых иногда оставляли у ворот обители, о, тогда все ссоры бывали забыты и вельможата выступали единым фронтом!
– Эй, Найдёныш-Гадёныш, кто твой отец?
– Ха, наверное, мамка зачала его от священного пера Разящей!
– Нет, от священной тени Проницающего!
– Тогда уж от тени самого короля! То-то наш Гадёныш такой гордый!
– Ну да, наследник королевской тени – это вам не абы что!
Он дрался – молча, яростно, не жалея себя и уж тем более обидчиков. Трое, пятеро, десять на одного – какая разница! («Дурак ты, – говорил Птич, хлюпая расквашенным носом. – В следующий раз сам будешь отбиваться». И в следующий раз снова налетал на вельможат, тузящих его приятеля, хотя перевес всё равно оставался на их стороне.)
Монахи наказывали всех, кто был уличен в потасовке, не выискивая зачинщиков, несправедливо обиженных или случайно пострадавших. Всех.
«Обитель подобна семье, в ней каждый должен заботиться о каждом, – вздымал к потолку узловатый палец наставник Гилрош. – В ней каждый отвечает за каждого. Запоминайте, дети!»
«И каждый обижает каждого», – мысленно, но без горечи добавлял Найдёныш. К тому времени он уже понял, что глупо злиться на камень за то, что он твердый, или на воду за то, что она мокрая. Точно так же глупо злиться на своих сверстников за то, что они жестокие. Просто с вельможатами следовало разговаривать на их же языке. («Когда-нибудь они убьют тебя», – предупреждал Птич. «Им же хуже», – пожимал плечами Найдёныш.)
Их учили смирению; конечно, не только ему наставники преподавали азы письма и чтения, математику, кое-какие из ремесел, знание которых могло бы пригодиться будущим монахам. Но прежде всего Непосвященные должны были усвоить смирение: сделать его неотъемлемой частью своего естества. Только тогда их посвящали в служители Сатьякала. («Я не хочу служить Сатьякалу», – однажды заявил наставнику Сморку Найдёныш. «Разве кто-нибудь спрашивает, чего ты хочешь? – изумился тот. – Да и как можно не хотеть, когда все мы, сущие в Тха, служим зверобогам, так или иначе?» «Я не хочу служить так». – Впрочем, эту фразу Найденыш вслух не произнес, благодаря чему вместо десяти часов чтения вслух «Бытия» заработал только семь.)
Пыльные привычные фразы рассыпались на губах, смысл их с каждым повторением отдалялся, превращался в ничто, «…и когда стало их Двенадцать, породили они множество отпрысков своих, кои походили на них внешне, но были меньше размерами и не обладали теми способностями, что…» Пустые слова. Найдёнышу больше нравились легенды, которые рассказывал Одноногий Жорэм – ветеран многих захребетных войн, в конце концов осевший в монастыре, ибо его небольшое поместье разграбили кредиторы, а дальние родственники отказались от старика: кому нужен увечный, да еще с таким скверным характером? Характер у Одноногого Жорэма в самом деле был не мед, но зато истории он знал самые разные. Слушаешь – аж дух захватывает! Особенно про фистамьеннов, про Десятилетие Сатьякалова Гнева, вымершие города, героев древности… Это вам не «и низошли они во второй раз, поражая землю и воду, и людей, и строения, и скот, и нивы»; когда Одноногий Жорэм берется рассказывать, вы действительно будто собственными глазами видите всё, что происходило в те годы. И совсем не важно, что старик сам ничего подобного не пережил… И вообще, что значит «не пережил»?! Да он каждый раз, когда рассказывает, словно заново всё переживает!
Жаль только, про захребетные походы отмалчивается да отшучивается. Мол, ничего там интересного, детки, не было. И щурит глаза, постукивает ногтями по костылю.
Ладно, Найдёнышу хватало и тех историй, которые Одноногий Жорэм рассказывал! Для воображения мальчишки они были чем-то вроде сухого хвороста, вовремя брошенного в огонь. Найдёныш начинал фантазировать: а что чувствовал тот или иной человек, о чем думал, на что надеялся? Сперва это касалось только героев Жорэмовых историй, а потом мальчик стал обращать внимание и на живых людей, окружавших его. И не только на людей. Каково приходится монастырскому колоколу там, на самом верху колокольни, где всегда дуют холодные ветры, а близость к звездам делает одиночество невыносимым? Понимает ли овца, которую ведут под нож мясника, для чего ее собираются убить? О чем скрипит десятая, если считать сверху, ступенька на лестнице в библиотеке?
«И не скучно тебе голову забивать такой… всячиной?» – Птич собирался сказать иначе, но в последний момент по блеску в глазах друга догадался, что не стоит. «Не скучно», – по своему обыкновению коротко ответил Найдёныш. («Сколько ж можно языками молоть во время молитвы!» – шипел, выкручивая им уши, наставник Туфельдр. В монастырском храме, громадном, напоминавшем Найдёнышу островерхую шляпку поганки, Непосвященные молились в особо отведенном для них месте, которое называлось нечистилище. В этом закутке было тесно, гранитные нешлифованные плиты терзали колени холодом и острыми гранями, а позади всегда нес вахту очередной наставник. И всякие разговоры настрого запрещались – хотя запрет этот в течение трех-четырехчасового бдения частенько нарушался. Наиболее неуклюжих шептунов легко можно было узнать по вспухшим ушам (если дежурил Туфельдр) или по синякам на спине (если дежурил Гилрош). В конце концов Найдёныш с Птичем додумались до простенького языка жестов, но жестами ведь всего не объяснишь… да и словами тоже.)
Бумаги им выдавали много, хотя и скверного качества она рвалась под остро заточенным карандашом и почему-то воняла крысиным пометом. Но для начала годилась и такая. Найдёныш учился рисовать с упорством, которое иногда удивляло его самого. Очень скоро он сообразил, что в узкой комнатенке Непосвященных, в соседстве с еще четырьмя сверстниками, возможностей для рисования немного. Если даже позабыть об отсутствии нормального освещения, оставались ведь еще соседи, трое вельможат, против которых они с Птичем едва держали оборону. Тут не до рисования! – и тогда Найденыш устроил себе «мастерскую» в зарослях крапивы. Здесь в редкие свободные часы он пытался сделать доступным для других то, что чувствовал сам, размышляя – вот парадокс! – о чувствах других. На шероховатой бумаге постепенно оживали колокол, овца, ступеньки, они, безъязыкие, обретали возможность обратиться к людям. «Здорово! – восхищенно цокал языком Птич. – Слушай, ты показал бы Сморку, он, глядишь, сделал бы тебя художником при храме. Расписывал бы стены, идолов вырезал, а?» Найдёныш это даже обсуждать не стал, только отмахнулся, дескать, так и побежит наставник Сморк в художники меня отдавать.
(«Ах ты сквернавец!» – плевался слюной тот же Сморк, когда случайно отобрал у Найдёныша один эскиз. В сгорбленном, широкоухом и кривоносом человеке, изображенном на бумаге, без труда угадывался его прототип. «Ну, ты у меня!.. – захлебывался праведным гневом прототип. – Я т-тебе…»)
Рисунки Найдёныш постоянно перепрятывал, тем более что вельможата быстро смекнули что к чему. Если им удавалось выкрасть подходящий набросок, где был изображен кто-то из взрослых, они тут же несли его настоятелям – и Найдёныша ждало очередное наказание.
Со временем законченные работы, не содержавшие в себе каких-либо крамольных изображений, он догадался вкладывать в свитки в библиотеке, куда, как и прочие Непосвященные, ходил прибираться. Делая вид, что вытирает с полок пыль, он дожидался удобного момента, подмигивал Птичу (тот неизменно стоял на страже, причем не столько от наставников, сколько от своих же), после чего выхватывал нужный свиток и, развернув, быстро вкладывал в него рисунок. Свитки Найдёныш выбирал заранее и рисунки для хранения в них оформлял таким образом, чтобы невнимательному могло показаться, будто они и должны прилагаться к свитку. Правда, для этого пришлось старательнее отнестись к урокам грамоты, но лучше так, чем видеть, как ночной бабочкой сгорает в огне кусочек твоей души.
Закончилось тем, что один из свитков с рисунками обнаружил Одноногий Жорэм. И именно тот свиток, куда было вложено изображение его, Жорэма, но только лет на двадцать моложе, еще с обеими ногами, посреди бушующего моря битвы со свирепыми тайнангинцами (какими их представлял Найдёныш). Догадаться о том, кто автор рисунка, было несложно; Одноногий Жорэм подстерег Найдёныша в библиотеке, когда тот пытался запрятать свое очередное творение. Птич потом только руками разводил: «И откуда старый хрыч выскочил? Ведь не было же его нигде!»
Ухватив юного рисовальщика за плечо, старый хрыч ткнул ему под нос рисунок захребетной битвы и рявкнул: «Откуда?!..» – «Что „откуда“?» – прикинулся растерянным Найдёныш. «Откуда ты знаешь, каким я был тогда?»
«А я не знаю, – честно признался Найденыш. И уловив свирепый блеск в глазах старика, пояснил: – Я рисовал то, что придумал. Точнее, не придумал, а увидел».
«Как ты мог увидеть?!»
«Не глазами. А так, как во сне видишь. Я… мне сложно объяснить».
Одноногий Жорэм вздохнул и ссутулился, он отпустил Найдёныша и махнул рукой: «Иди уже, художник! Когда освободишься, принеси мне свои рисунки, какие больше всего тебе самому нравятся. Да не бойся, не отберу и наставникам ничего не скажу». («И ты понесешь?» – не поверил собственным ушам Птич. Найденыш угрюмо кивнул, сворачивая отобранные рисунки.)
Ничего не изменилось. Найдёныш мрачно смеялся над собой: а ты думал, Жорэм, как в сказке, махнет рукой и отправит тебя в королевский дворец главным художником?!
Да, думал – если и не про дворец, то про помощь, хоть какую-нибудь. А Жорэм только покивал, перебирая листы и сказал: «Пусть у меня лежат, это надежнее, чем в свитках прятать. Надо будет – придешь возьмешь. Веришь мне?»
Найденыш честно пожал плечами: он и сам не понимал верит ли. Но рисунки оставил.
Он всё ждал, что кто-нибудь из наставников пронюхает про рисунки – и только намного позже сообразил: они ведь и так знают! Княжата нечасто, но таскали им уворованные наброски, так что…
«Знают – и не наказывают?!»
«А они ждут, пока ты выдашь себя, – пожимал плечами Птич. – Или решили, что с тобой не стоит возиться». (Непосвященных, которые упорствовали в своей лености, в конце концов отправляли в чернорабочие – худшей судьбы трудно было пожелать.) «Со мной действительно не стоит возиться», – подумал тогда Найдёныш. Накануне утром Жорэм вдруг выдал ему десяток листов снежно-белой бумаги и велел: «Рисуй! Что хочешь, но только чтобы от души!» – и теперь Найденыш пытался понять, зачем Одноногий это сделал. Неужели старик не понимает, что наставники, если заметят у Найденыша эти листы, накажут его со всею строгостью? Ведь точно же решат, что своровал; им, Непосвященным, такую бумагу и в руках-то держать не доводилось.
И всё-таки знакомый зуд в пальцах был сильнее, чем все опасения. В тот же день Найдёныш прихватил листы с собой и сбежал в Крапивные Коридоры – один, даже Птичу не сказал, куда отправляется. Забравшись в самый дальний закуток и получив при этом положенную порцию обжигающих поцелуев, он уселся, скорчившись в три погибели, над рисовальным камнем. Этот камень, когда Найдёныш еще только пристрастился к художествам, обнаружился в зарослях сам собою, и его ровная поверхность подходила для замыслов мальчика просто идеально.
Он привычно очистил камень, смахивая муравьев, обломки сухих веток, песок. Уложил первый лист, прижал его по бокам кусочками коры; занес над белой поверхностью руку с огрызком карандаша… и остановился. Рисовать абы что, портить такую бумагу чем попало не годится. А чем – годится?
Где та грань, за которой мазня для самого себя, всякие там картинки-дразнилки на занудного наставника, превращается в нечто большее?
А он сам – когда превратится в нечто большее? Да и превратится ли когда-нибудь?
Кажется, впервые Найдёныш всерьез задумался над собственной жизнью, над ее смыслом и целью, и над тем, принадлежит ли она ему или же он только фигурка «монах» на доске для игры в скангм.
«Как и все люди, если верить наставнику Сморку, – растерянно подумал Найдёныш. – Чем же мы тогда отличаемся от фистамьеннов? Мы даже хуже их, ведь они больше похожи на зверобогов, чем мы.
Интересно, а каково это: быть фистамьенном? Сколько в их поступках от собственной воли, а сколько – от воли Сатьякала?»
Да, вот она, тема для будущего рисунка… будущей картины, это будет картина, настоящая, пусть и выполненная карандашом! Но прежде, чем рисовать, ему придется как следует напрячь свою фантазию. Найдёныш приблизительно уже представлял сюжет, но композиция, детали… тут есть над чем поработать!
Когда много позже Тойра Мудрый спросит Найдёныша, как тот ухитрялся несколько лет совмещать с рисованием уроки и работу, которые отнимали у Непосвященных большую часть времени, Найдёныш только пожмет плечами. Он не совмещал, он словно жил в двух разных жизнях. («Всё равно, – скажет он Тойре, – как делать что-то во сне и наяву. Но когда ты во сне, ты ведь веришь, что ты наяву, а явь при этом, если и вспомнишь, покажется лишь сном».) У него всегда было две жизни, одинаково важные, одна ненавистная, а вторая желанная. Тогда, в Крапивных Коридорах, задумав первую свою «серьезную» картину, он и не подозревал, что вскоре обе его жизни круто изменятся.
И уж тем более не подозревал, что со временем узнает ответ на свой вопрос, на собственной шкуре ощутит, каково это – быть фистамьенном.
* * *
На площади Горелых Костей в который раз вскипал бой быков. Не традиционный, новогодний, а внеплановый, случившийся по стечению обстоятельств. Во-первых, какой-то дурень из пригородов приволок сюда, в Гнилые Кварталы столицы, бугая на продажу. Во-вторых, другой дурень, уже из местных, вел с приятелями местного же быка на случку (…или на бойню? мнения были самые разные, и Жокруа К'Дунель, следивший за событиями с каменной статуи мужика с веслом, на которую он взобрался в самом начале инцидента, так и не мог решить, кто же прав и куда вели второго быка; да это было и неважно). Аккурат на площади Горелых Костей пути обоих быковладельцев и их рогатого имущества пересеклись. В результате множество честных (во всяком случае, не пойманных за руку) горожан сейчас уподобились обезьянам, карабкаясь вверх и оглушительно вереща, – этакое мгновенное единение с Сатьякалом. Души двоих, впрочем, уже отправились во Внешние Пустоты, а быки, шалея от запаха крови, били копытами булыжник мостовой, ревели и бодали друг друга спиленными на концах рогами.
Жокруа К'Дунель почувствовал, как чья-то вкрадчивая рука касается его бедра и ползет выше, к тому ценному, от чего капитана вполне легко (как казалось обладателю руки) можно было избавить.
– Сброшу вниз, – пообещал он сухощавому карманнику, примостившемуся на коленях мужика с веслом.
Паренек состроил невинную рожу, но руку убрал.
Жокруа мысленно усмехнулся: будь на нем капитанский мундир, этот поганец не решился бы на кражу; он вообше крепко задумался бы, карабкаться ли на статую, где уже примостился капитан гвардейцев. Но прогулки без мундира имели свои преимущества, к тому же теперь, с подписанной самим королем отпускной на месяц, К'Дунелю можно было не носить форму. Сейчас он не на службе, он – один из множества законопослушных горожан. И, как и они, застыл на верхотуре и ждет, чем же закончится выяснение отношений между бычарами. Угораздило же!..
Другие зрители со своих висячих месл тоже не торопились вмешиваться в ход поединка. Появления отряда «драконов» или, допустим, «сколопендр» не предвиделось – Гнилые Кварталы были, конечно, не сравнимы с Вонючими или Крысиными, но и сюда доблестные стражи порядка наведываться не любили. Местные обитатели отвечали стражникам пылкой взаимностью (и в этом таилась еще одна причина, почему К'Дунель ходил в Гнилые в штатском).
Словом, впереди у капитана намечалось как минимум полчаса отсидки на мужике с веслом; а ведь в «Бесноватой свече» его дожидались, Змея язви этих быков!
– Эй, там! Есть у кого-нибудь арбалет или хотя бы самострел? – рявкнул он висевшему на стенах мужичью.
Те гоготнули:
– Спрашиваешь! У каждого в кармане по арбалету! Тока болты, прикинь, дома забыли.
– А ты чё ж, – добавили с соседней крыши, – без арбалета не справишься? Меч у тебя есть? есть. Ну так и давай, сделай их. А то уже холодно тут и неуютно, и дети дома плачут-дожидаются.
Меч у К'Дунеля действительно был, но иметь дело с двумя обезумевшими быками капитану не хотелось. С другой стороны, тот, с кем у него назначена встреча в «Бесноватой свече», может уйти, сделав неправильные выводы, которые грозили К'Дунелю многими неприятностями, в том числе и насильственной смертью от рук второсортной банды наемных убийц.
Проклиная всех бычьих родичей до седьмого колена, К'Дунель слез на мостовую.
– Гляди, а мужик-то всерьез решил!..
Он сдернул плащ, припоминая осенние пляски с быками, которые видел однажды в Таллигоне («ты там еще кое-что видел… помнишь? – в позапрошлом году…»). Мотнул головой, отгоняя неуместные мысли, потянулся за клинком.
Один из быков – иссиня-черный, похожий на ожившую статую с Моста Цветов – повернул к капитану свою лобастую голову. По щеке у зверя текла кровь, и этим он еще больше напоминал статую, что на Мосту, только у тех потеки – от голубиных посиделок.
Бык оглядел К'Дунеля мутным взором – и заревел от боли, когда соперник, тощий, рыжий, с клочьями выпадающей шерсти, боднул его рогами в шею. Удар был настолько сильным, что, даже затупленные на концах, рога пропороли кожу; кровь хлестнула фонтаном. Иссиня-черный по-человечьи охнул и грузно завалился на бок.
Рыжий отпрянул, раздувая ноздри, а в следующий момент уже мчался на капитана. Тот шевельнул плащом в левой руке, заведя правую за спину, готовый в любой момент ударить. К'Дунель не обольщался по поводу собственных способностей и вообще-то надеялся, что быки будут заняты друг другом и не обратят на него внимания. Теперь капитану оставалось благодарить Цаплю Разящую за проявленную милость: всё-таки один противник лучше, чем два.
На помахивание плащом рыжий не купился – или, может, попросту не обратил на него внимания; он мчался прямо на К'Дунеля и пыхтел, словно одышливый новобранец на плацу. В темных бычьих глазницах капитан видел смерть, но – он знал – смерть глядит и из его глаз.
В последний момент, когда рыжий был уже на расстоянии вытянутой руки, Жокруа отступил вправо и ударил.
И – промахнулся!
Это было немыслимо, невероятно, абсолютно невозможно, – но он промахнулся, кончик клинка только царапнул по шкуре, срезав пучок шерсти, а рыжий, что тоже было непредставимо, без малейшей задержки промчался дальше, на улицу Горемычных Котельников, и исчез за поворотом.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































