Текст книги "Не ко двору"
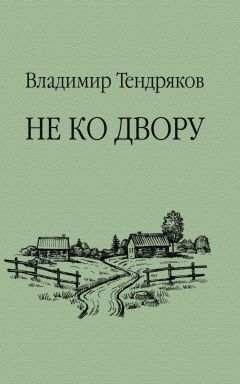
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Любили, и бескорыстно? – подкинул Сулимов.
Пухов снова понимающе усмехнулся:
– Часто ли без корысти любят? Даже от бабы всегда ждут – наградит за любовь. А ведь я человек практичный, и бригадиром был и прорабом, всегда в пиковом положении, всегда с чем-то зашиваешься – возле должны быть молодцы, на которых закрыв глаза положиться можно. А Корякин, ежели половчей толкнуть, за десятерых мог сделать. Корыстовался от него.
– Но за такую корыстную любовь он, верно, требовал свою корысть?
– Само собой.
– Какую?
– Давал ему хорошо заработать.
– Левыми путями?
– И левыми, – спокойно согласился Пухов. – Не судите строго. Мы же все тогда на карточках сидели, пайка хлеба да столовская баланда – ноги протянешь. Не упускали случая прихватить работенку на стороне. Да и теперь ею не брезгуем. Корякину, видите ли, мало быть сыту, еще пьян быть должен, без того никак не мог.
– Когда он начал пить?
– Право, не знаю.
– Не с той ли поллитровки, которую вы поставили перед ним за отравленную собаку?
– Эх-хе-хе! Да он ко мне явился, уже зарядившись, в самом, что называется, боевом настроении был.
– И все же ни кто другой, а вы помогали Корякину не только быть сыту, но и пьяну тоже?.. Все двадцать восемь лет знакомства!
– Хотите сказать – все эти годы я его спаивал?
– Буду рад услышать, что это не так.
Прямой взгляд в зрачки Сулимову, прямой и обиженный:
– Поразмыслите: зачем мне его спаивать? Разве с трезвым и вменяемым не легче иметь дело? Разве неизвестно вам – коль Корякин пьян, то и буен без удержу? И не зря же я боялся, что нож выхватит. Все двадцать восемь лет он пил, все двадцать восемь лет приходилось быть начеку. Для меня было бы счастье великое, если б он забыл про водку. Спаивать его можно только во вред себе.
– А давайте иначе взглянем, товарищ Пухов. Вы любили талант мастера Корякина, как сами признались, любили не бескорыстно. Но этот нужный талант мог принадлежать вам лишь тогда, когда Корякин находится в полной от вас зависимости. И чем больше Корякин пьет, тем больше он нуждается в деньгах, а значит, и выгодных заказах, которые, увы, без вас достать не умеет. Выгодные заказы для Корякина явно выгодны и вам, Пухов. Так ведь выглядит реализация корыстной любви к его таланту. В ваших прямых интересах, чтоб Рафаил Корякин пил. Конечно, сами вы его не поили, но условия создали и боялись, что перестанет. Как вам нравится такая логика, Пухов?
Пухов невозмутимо потянулся к папке на столе, вытянул из нее несколько скрепленных листов.
– А как вам понравятся эти бумаги? – спросил он, протягивая их Сулимову. – Вглядитесь – Корякина только вчера не стало, а я уже оформляю человека на его место. Давно был на примете. И, учтите, непьющий.
Сулимов повертел перед собой бумаги.
– То есть Корякин легко заменим?
– Вот именно, а потому ваша логика, простите, построена на песочке. Спаивать мне Корякина, чтоб удержать при себе, нянчиться с буйствующим ради выгоды – не слишком ли хлопотно? Да неужели за тридцать-то без малого лет я не мог подыскать себе не менее хорошего и выгодного мастера, зато более покладистого? Уж по крайней мере без ножа в кармане?
На лице Пухова ни затаенного торжества (вот как вас опрокинул!), ни насмешки с издевочкой (что, укусил?) – лишь вежливое терпение наставника, доказывающего азбучное. «Или чист, или умеет здорово линять», – подумал Сулимов.
– Вам знакомы некто Пашка по прозвищу Козел и Венька Кривой? – спросил он.
– Знакомы, – слегка насторожился Пухов.
– Что это за люди?
– Ничего хорошего, опустившиеся алкаши.
– Однако они работали у вас.
– Да, пока один совсем не спился, не был увезен в больницу.
– А какого склада люди, ныне работающие у вас, – Соломон Рабинович и Данила Клоповин?
– Примерно такого же.
– Они были приняты вами вместо спившихся Пашки и Веньки. Вместо алкашей – алкаши. Почему именно с прежними изъянами?
– Приходилось специально подыскивать таких.
– Чтобы могли исполнить обязанности собутыльников для Рафаила Корякина?
– Именно.
– И после этого вы пытаетесь уверить – не спаивали Корякина, не в ваших интересах!
– Скажите, – впервые резко обратился Пухов к Сулимову, – мог ли я прекратить пьянство Корякина? Медицина не справляется с такими! От пьянства избавить его не в силах моих, зато оберечь от неприятностей хоть и трудно, но в моих! Беды не оберешься, если б Корякин стал пить с кем попало, драки, поножовщина, всякая шваль, постоянно крутящаяся возле цеха в ожидании выпивки. Было такое, пока меры не принял, – пусть пьет с теми, кто на скандалы Корякина не ответит и от набегов со стороны цех оградит. Спаивать я не спаивал, а мириться с пьянкой Корякина – да, приходилось.
– До чего же неудобен для вас был Корякин.
– Еще тот пряник медовый.
– И заменить его было можно.
– Можно-то можно, да кой-что и останавливало.
– Что же?
Пухов насупился, отвел глаза.
– Одна мысль: оторвись он от меня – совсем сойдет с круга.
– Так вам все же жаль его было?
– Как-никак почти тридцать лет знакомы. А потом – семья у него… И так уж старался семье помогать, с моей помощью половина денег шла мимо Корякина в семью.
– Тяготились Корякиным, а добрые чувства испытывали?
– Вам это кажется невозможным?
– Я-то готов поверить в такую возможность, но поверят ли в прокуратуре? Они ведь тоже задумаются, что держало Корякина возле вас. И в ответ услышат – добрые чувства. Поставьте себя на их место – как поверить столь прекраснодушному ответу?
Пухов уставился в стол, долго молчал.
– Да… Да… – заговорил он. – Поверить трудно… Но, пожалуй, другого-то ответа у меня не найдется. Не любил его, тяжел, отделаться хотел, а не решался… Уж очень отчетливо видел, что будет после… Призадумаешься – кровь стынет.
– А того, что случилось, не ожидали?
– Этого – нет, но знал: рано ли поздно что-то стрясется… страшненькое.
Сулимов больше ничего не выдавил из Пухова. А это настораживало – так ловко выворачивался до сих пор и вдруг застопорил. Какая-то странность…
9
Аркадий Кириллович, нахохленный, темнолицый, разглядывал всех запавшими, потаенно тлеющими глазами. Он только что скупо, в жестких выражениях изложил свое поражение в девятом «а».
– М-да-а… – промычал директор. – Самокритика…
– Есть болгарская пословица, – медлительно произнес Аркадий Кириллович. – Плохой человек не тот, кто не читал ни одной книги; плохой человек тот, кто прочитал всего одну книгу. Опасны не полные неучи, опасны недоучки. Мы прочитали ребятам даже не книгу о нравственности, всего-навсего первую страницу из нее. И вот натыкаемся…
– М-да-а… – изрек директор и прочно замолчал.
В директорском кабинете пять человек. Завуч старших классов Эмилия Викторовна, иссушенная экспансивностью, еще не очень старая, но уже безнадежная дева, фанатически преданная школе. Физик Иван Робертович Кох, парадный мужчина с атлетическими плечами, с густыми, сросшимися над переносицей бровями. Преподавательница математики, старенькая, улыбчивая Августа Федоровна. Аркадий Кириллович. И сам директор Евгений Максимович, жмурящийся в пространство, поигрывающий сложенными на животе пальцами.
Такие узкие совещания у директора, которые решали вопросы до педсовета и помимо педсовета, в шутку назывались «Могучей кучкой». Чем меньше «кучку» собирал вокруг себя Евгений Максимович, тем конфиденциальней совещание. Сегодня собрались внезапно и в малом числе, меньше не бывало.
Как и следовало ожидать, взорвалась Эмилия Викторовна:
– Аркадий Кириллович! Зачем?! Себя же топчете! И с ожесточением!.. Себя и нас заодно!
– Вы считаете, нам следует петь аллилуйю? – проворчал Аркадий Кириллович.
– Не да-дим! Да-да, вас не дадим в обиду! Защитим вас от… вас же самих!
У Эмилии Викторовны не было никого и ничего, кроме школы, а потому она всегда находилась в состоянии ревнивой настороженности – как бы кто не согрешил против родной школы, даже в помыслах. И если врагов у школы не было, она их изобретала. Аркадий же Кириллович для нее давно стал нервом школы, ее совестью, ее становым хребтом. Эмилия Викторовна его уважала куда больше, чем директора, человека нового, свалившегося на готовенькое. Аркадий Кириллович нападал на школу – это выглядело черным предательством.
– Откуда вдруг у вас эта уничижительная теорийка: создаем – о Господи!!! – нравственных недоумков?! Впрочем, понятно – от прискорбного случая она!.. Одумайтесь, мы-то тут при чем? Что мы могли сделать? Папу Корякина исправить? Да смешно же, смешно! Применять педагогическое влияние прикажете… на того, кого давно бы должна прибрать милиция! Преступный элемент не в компетенции школы. Случайно, совершенно случайно в нашей школе оказался ученик несчастной судьбы, с таким же успехом он мог учиться в любой другой школе города!
– А признание его поступка нормальным и даже полезным всем классом – всем! – тоже случайность? – спросил Аркадий Кириллович.
Эмилия Викторовна всплеснула руками:
– Да разве вы, Аркадий Кириллович, по-своему не оправдываете несчастного мальчика? А у нас у всех разве не сжимается сердце от сочувствия к нему? Ну а товарищи по классу разве бесчувственны?.. Потому и оправдывают его поступок, защищают как могут. Нравственное уродство в этом видите?.. Ну не-ет, Аркадий Кириллович, никакого уродства – нормальные дети! Может быть, только с молодыми заскоками. Слава Кушелев – потенциальный убийца?! А Соня Потехина?! Бог ты мой! Опамятуйтесь, Аркадий Кириллович! Не смешите нас. Больное это. Достоевщина. Откуда она в вас? Не замечалось раньше.
– Эмилия Викторовна, вы когда-нибудь сомневались в себе? – поинтересовался Аркадий Кириллович.
– В себе – да. Но в вас, в вас, Аркадий Кириллович!.. Нет, никогда не позволяла себе!
– Сейчас самое время.
– Не могу! Пришлось бы сомневаться в школе. Для меня школа – это вы.
– Вот и я предлагаю – спасем школу.
– Спасем, Аркадий Кириллович, наше прошлое, наш многолетний труд, наши признанные успехи! Или их у нас совсем нет?
– Успехи – в чем?
– Словно вы сами не знаете.
– Знаю – нас славят за нравственное воспитание.
– И случай с Колей Корякиным не перечеркнет их! Нет и нет, Аркадий Кириллович!
– Случай – убийство! Отвернемся от него и от того, что класс это убийство оправдывает, будем же и дальше втолковывать красивые нравственные понятия. Не чудовищная ли это безнравственность, Эмилия Викторовна?
– Вы… вы считаете меня?..
– Считаю, – отрезал Аркадий Кириллович, – что вывод напрашивается сам собой.
Эмилия Викторовна обвела всех изумленно-горестным взглядом. Все неловко молчали, лишь директор Евгений Максимович по-прежнему жмурился, как ухоженный ленивый кот, которому приходится присутствовать при семейной ссоре.
– Нет слов! – изрекла Эмилия Викторовна и отвернулась.
– У меня к вам вопрос… – Иван Робертович сосредоточенно слушал, сосредоточенно посапывал, усиленно хмурил грозные брови. – Вы недовольны своим прежним методом воспитания. Не так ли?
– Недоволен.
– Что же, хотите совсем отказаться от него?
Если Эмилия Викторовна была всегда горячей сторонницей Аркадия Кирилловича, поддерживала, помогала, шумно его славила, то Иван Робертович Кох относился с полным бесстрастием, оставался в стороне. Он со страстью верил лишь в одно – в физику. Она сейчас пробивается к основам основ мироздания, к тому первичному, из чего складывается все – атом, молекула, мертвый минерал, живая клетка, организм и столь странный человеческий орган – мозг, заключающий в себе интеллект. Физика – это наука наук, все остальные уходят корнями в нее, она начало начал пестрых и путаных человеческих представлений, в ней истоки бытия. А потому Иван Робертович просто не обращал внимания на «суетную возню Аркадия Кирилловича вокруг примерного поведения», считал важным для себя раскрыть тех, кто способен стать новыми жрецами всеохватной науки. Славе Кушелеву он не колеблясь мог простить все за то только, что тот обещает быть жрецом незаурядным. Никто не ждал, что Иван Робертович заговорит, думали – как всегда останется в стороне, отмолчится.
– Так хотите отказаться от прежнего? – повторил он.
– Совсем – нет, – ответил Аркадий Кириллович. – Но этого теперь крайне недостаточно.
– И у вас есть что-либо предложить? Что-то конкретное, хотя бы прикидочно, в виде гипотезы?
– Ничего, кроме убеждения, что нельзя удовлетворяться прежним, надо искать новый выход.
Иван Робертович густо крякнул:
– Не хотите отказаться от старого, не предлагаете ничего нового. Тогда, простите, что же, собственно, вы имеете? Чему мы все должны верить?
– Одному, – твердо произнес Аркадий Кириллович. – Предостерегающим фактам.
– Положим, я в них поверил – и что же?..
– Если поверите, что убийство Коли Корякина не простая случайность, значит, не сможете существовать спокойно, станете искать, в чем причина.
– А если причина окажется… гм!.. скажем, не школьных размеров, нам не по зубам, что делать тогда дальше?
– Давайте сначала ее найдем, а уж потом будем думать, что дальше.
Иван Робертович поиграл бровями, удовлетворенно кивнул:
– Логично.
Он только в том и хотел убедиться – нет ли просчета в логике? А потому снова замкнулся в бесстрастном молчании, не выражая желания обрекать себя на беспокойное существование, искать роковую причину, которая, может статься, будет еще «не по зубам».
С усилием разогнулась Августа Федоровна, уставилась кротким старушечьим взором в Аркадия Кирилловича.
– Аркашенька, – протянула она сокрушенно, – ты сколько лет до этого искал?..
Старый, старый друг. Четверть века назад она, еще не седая, не сутулая, встретила бывшего капитана Памятнова и заговорила с ним, как будто была знакома всю жизнь. И капитан запаса, еще не закончивший тогда пединститута, почувствовал сразу себя в школе своим человеком. С тех пор его постоянно грела ее ненавязчивая доброжелательность. Впрочем, возле Августы Федоровны грелись многие, и каждый наверняка про себя думал – получает больше других.
– Навряд ли, голубчик, теперь отыщется быстрее. За это время сколько мимо нас учеников пройдет! Для каких-то будущих придется стараться. А они, будущие, кто знает, какими окажутся, может, и воспитывать-то их не придется. Разбег у тебя долгий, да прыжок будет ли?
– Так что, Федоровна, – ничего не делать?
– То-то и оно, хотя знаю – тебе не понравится. Забыть надо историю Коли Корякина. И поскорей. Перемелется…
Аркадий Кириллович шумно пошевелился на стуле.
– Да ты не вскакивай, не кипятись, – остановила его Августа Федоровна. – Опасность, если она и в самом деле есть, мы уже не отведем. Считай, злая беда стряслась, после драки кулаками не машут. Толку никакого не добьемся, а порядок в школе растрясем. Зачем?
– Верно! Верно! – снова взмыла Эмилия Викторовна.
– Ах, верно! – Аркадий Кириллович вскочил с места.
Августа Фёдоровна безнадежно вдохнула:
– Эх-хе-хе! Ретивое взыграло.
– Забыть историю Коли Корякина! Забыть! Спрятать! Не было ее! Не удастся, Августа! От учеников уже не отнимешь ее, не запретишь им судить и рядить на свой лад. А вы слышали – извращенно судят, убийством усовершенствовать жизнь собираются. Так начнем с простого: объясним им, что извращение это!..
– Не заваривай кашу, Аркашенька, всем коллективом потом ее не расхлебаем.
– Августа… Чуткая, добрая Августа, что с тобой? Все силы ребятам отдаешь, всю жизнь для них – и не расхлебаем, пусть остаются духовно горбатыми.
– Не дави чирей, Аркадий, – по всему телу пойдет. Молодой организм сам справится – зарастет без следа.
И Аркадий Кириллович растерянно оглянулся:
– Педа-го-ги! На что надеетесь? Бог не выдаст, свинья не съест, само собой зарастет? Так зачем же вы тогда нужны, педа-го-ги?
– Ого! – пробасил Иван Робертович.
– Все получили, не только я! – восторжествовала Эмилия Викторовна.
Августа Федоровна страдальчески сморщилась:
– Не верю я в твои страсти-мордасти. Не верю, Аркадий! Из нашей школы ничуть не хуже других люди выходят.
Только один директор молчал, сидел откинувшись, поигрывал на животе пальчиками.
10
Но вот он пошевелился, расправился, всем корпусом повернулся к Аркадию Кирилловичу:
– Вы слышали – не верим! Не убедили! Может, вы приведете более веские доказательства, чтоб мы разделили ваш ужас?
– Какие доказательства, когда вас не убеждает отцеубийство? – удивился Аркадий Кириллович.
– Приведите хотя бы еще один пример, столь же вопиющий.
– Такое часто не повторяется, Евгений Максимович.
– А раз не повторяется часто, то зачем подымать панику? Значит, имеем дело с явлением исключительным, нехарактерным. Для нашей жизни не характерным, для нашей с вами деятельности, Аркадий Кириллович. Не от нас пошло, от каких-то обстоятельств, случайно сложившихся помимо нас с вами.
– Всего однажды атомные бомбы разорвались над людьми, но тем не менее этот единичный случай дал повод для весьма реальной тревоги.
Евгений Максимович развел недоуменно руками:
– Коля Корякин – и атомная бомба! Ничего не скажешь – сокрушительный параллелизм… И все-таки даже он не доказывает, что школа подтолкнула своего ученика на отцеубийство. Это по-прежнему остается плодом вашего воспаленного воображения.
– Чувствую: вы тогда только мне поверите, когда снова и снова повторится нечто подобное. Но как раз этого-то я и не хочу допустить.
– Аркадий Кириллович, дорогой. – Евгений Максимович бережно дотронулся до его колена. – Вы перевозбуждены, вы сильно потрясены, вам следует прийти в себя, отвлечься, немного отдохнуть, чтоб потом на все иметь возможность глядеть трезвыми глазами. Мой совет, Аркадий Кириллович, – возьмите отпуск, поезжайте в санаторий, путевкой я вас обеспечу.
– В санаторий?.. – хмыкнул Аркадий Кириллович. – С таким больным воображением. Не лучше ли вам меня упрятать в сумасшедший дом?
Евгений Максимович посуровел:
– Ну что ж… Будем называть все своими именами. Вы становитесь врагом, Аркадий Кириллович. Пока враждебность только к нам, здесь сидящим, – к Эмилии Викторовне, с которой прекрасно ладили многие годы, к Ивану Робертовичу, ничего не сделавшему вам плохого, к Августе Федоровне… Даже к ней, прошедшей с вами бок о бок через жизнь. Все мы для вас не педагоги, не гуманисты – некие злодеи, извращающие сознание детей! Сегодня вы нам, завтра это же бросите всему коллективу учителей, вызовете к себе враждебность. Хуже того – найдете себе каких-то сторонников, внесете раскол, разброд, нетерпимость.
– А вы хотите, чтоб я убеждал и не рассчитывал на сторонников?
– Я хочу, чтоб школа нормально работала, а не вела междоусобную войну.
– Но в том-то и беда – школа работает ненормально.
– Это вам одному кажется. Пока только одному!
– А вы собираетесь ждать до тех пор, когда это станет настолько очевидным, что все увидят в упор? Будет поздно что-либо предпринимать.
– Какое самомнение! Вы считаете себя единственно прозорливым, остальные слепы и непроницательны.
– Проницательней ли я других, нет ли, но случилось – я увидел опасность. Значит, из ложной скромности, чтобы не выделяться, я должен притворяться слепым?
На круглом лице директора проступила брезгливая гримаса.
– Ну так вот, – сказал он решительно, – школа не может взять на себя вину за Николая Корякина. Это был бы самоубийственный для нас шаг. Вы на него толкаете, мы станем от вас защищаться. И не думайте, что защита окажется трудной. Большинство учителей не пожелает поступиться добрым именем своей школы, возможностью покойно, без осложнений работать. Неужели вы надеетесь, что они с легкостью перечеркнут все прошлое, сломя голову ринутся за вами? Рассудите-ка.
Аркадий Кириллович на минуту задумался и согласился:
– Пожалуй что так… Если меня здесь не поняли… даже старые друзья, то почему должны понять остальные?
– И тем не менее это вас не останавливает?
– Вижу нависшую над учениками опасность и молчу… Нет! Не могу.
– Тогда не лучше ли вам сразу уйти из школы? Добиться вы ничего не добьетесь, а рано ли, поздно все равно кончится этим.
– Чем такая покорность лучше прежней?
– На что же вы все-таки рассчитываете?
– На то, что капля по капле камень точит. Ну а кроме того, буду искать себе союзников за пределами школы, создавать общественное мнение.
Директор невесело усмехнулся:
– Ну, в этом-то вы уж никак не преуспеете, могу вам гарантировать. Не кто иной, как вы в свое время сделали все, чтоб убедить общественное мнение – неоценимо важным делом занимается наша школа. Гороно постоянно ставил нашу деятельность в пример другим школам, на семинарах и конференциях проводились восторженные обсуждения, газеты хвалили нас взахлеб. А теперь по вашему слову поверни вспять, признайся во всеуслышание, что были доверчивыми дураками… Не наивничайте, Аркадий Кириллович.
– А вы, похоже, успели уже прощупать обстановку? – поинтересовался Аркадий Кириллович.
– Да, – просто признался Евгений Максимович. – Нигде не сомневаются, что преступление Николая Корякина ни прямо, ни косвенно со школой не связано. Вы с таким же успехом можете агитировать в свою пользу прохожих на улице.
Опираясь локтями в колени, навесив над полом тяжелую голову, Аркадий Кириллович долго смотрел вниз, не двигался. На него все глядели сейчас с сочувствием, даже не остывшая от негодования Эмилия Викторовна, даже невозмутимый Иван Робертович.
– Ладно, – разогнулся Аркадий Кириллович. – Думается, я все-таки найду себе трибуну.
Евгений Максимович безразлично пожал плечами. Все зашевелились. Тесное совещание «Могучей кучки» закончилось.
Он часто провожал Августу Федоровну до дома и сейчас шел рядом, придерживая легкий старушечий локоть, оберегая от слишком напористых прохожих.
Она говорила с привычной укоризной и непривычными нотками тревожной обеспокоенности в голосе:
– Несовершенен человек… Сколько тысячелетий вопят, Аркаша, и какими трубными голосами. И сколько крови пролито ради – совершенствуйся! А разрешима ли в принципе эта задачка? Может, терзаются над некой нравственной квадратурой круга…
– Хочешь сказать мне, Августа: и ты туда же, со свиным рылом в калашный ряд?
– Не совсем то, Аркашенька. Педагог должен совершенствовать людей, тех, кого поручили ему, – конкретных Колю, Славу, Соню, Ваню, а не вообще всех оптом, не какого-то абстрактного общечеловека.
– А я что делаю? Не о Славе Кушелеве, не о Соне Потехиной обмираю, не их сейчас предостеречь хочу, а вообще, безадресно?..
– Обмираешь, голубчик, да, над Соней, над Славой. Но метишь-то найти такое, чтоб и Соню, и Славу, и любого-каждого, ближнего и дальнего, спасало от безнравственных поступочков. Вообще хочется универсальную для всех панацею! Именно то, чего стародавние пророки найти не могли.
– Есть одна-единственная на все случаи жизни панацея, Августа, – учитывай опыт, не отмахивайся, мотай на ус. Только опыт, другого лекарства нет! И за кровь, пролитую Колей Корякиным, за его безумие, его несчастье, которое мы не смогли предупредить, возможно только одно оправдание – пусть послужит всем, Соне и Славе, ближним и дальним. А ты желаешь, Августа, – забыть поскорее, остаться прежними, то есть вновь повторить, что было. Значит, ты враг Соне, Славе и всем прочим.
– Хе-хе! Если б опыт исцелял людей, Аркаша, то давным-давно на свете исчезли бы войны. Каждая война – это потоки пролитой крови, это вопиющее несчастье. Но ведь войны-то, Аркашенька, сменялись войнами, их опыт, увы, ни на кого не действовал. Наивный! Ты рассчитываешь облагородить будущее лужей крови. Опыт… Я заранее знаю, что из такого опыта получится. Всполошишь, заставишь помнить и думать о пролитой крови, и школа превратится в шабаш. Да, Аркашенька, да, каждый начнет оценивать пролитую лужу на свой лад, делать свои выводы: гадко – справедливо, уголовник – герой, возмущаться – сочувствовать. Опыт учит: где свары и путаница в мозгах, там накаленность друг против друга.
– Но разве есть, Августа, другой путь к согласию, как не через выяснение мнений? Охотно тебе верю, что оно, это выяснение, может дойти до свар, до накаленности. Не осмеливаться на такое, значит, прятаться друг от друга. А уж тогда-то и вовсе о взаимопонимании мечтать не смей.
– Взаимопонимание… Ох-хо-хонюшки! Да это же и есть та самая проклятая квадратура круга. Тысячелетия доказывают – неразрешимо! А вот снова находится простачок, которому это, что козлу нотация – не лазь в огород. Лезешь! Упрям по-козлиному!
– Пусть даже квадратура круга. Разве эта заклятая задача не двинула вперед геометрию?..
Августа Федоровна обреченно махнула сухонькой ручкой и замолчала.
А мимо них с громыханием и моторным рыком двигалась улица, начинался вечерний час пик: тупоносые самосвалы; зверообразные неуклюжие автокраны с угрожающе поднятыми стрелами; тяжкие, как только земля носит, панелевозы, груженные стенами домов; сияющие мокрым стеклом автобусы; суетные легковые разных расцветок; укутанные в громоздкие плащи мотоциклисты, отважно ныряющие между скатов и напирающих радиаторов; теснящиеся к стенам домов прохожие… – вновь ежесуточный парад человечества, не знающего покоя, терзающегося противоречиями, жаждущего согласия, отвергающего его. Мимо с привычным неудержимым напором, куда-то в неведомое!..
11
Соня пришла из школы и застала дома переполошенную мать. Звонили из управления милиции: Коля просит свидания с Соней, разрешение дано, надо куда-то явиться, к кому-то обратиться, но мать все перепутала и перезабыла – куда, к кому…
Коля вспомнил о ней. Она ему нужна!
В последние годы Соня просыпалась по утрам с одной мыслью – Коля ждет ее, хочет увидеть и парадовать. Коля, которого когда-то все сторонились, кого жалели и на кого обреченно махали рукой, стал непохож на себя потому лишь, что она была рядом, ему нужно было нравиться ей. Она чувствовала, как плохое, пугающее гаснет в нем возле нее, хорошее разгорается. И это переполняло Соню тайной гордостью, никому, никому ее не показывала, глубоко прятала, даже от матери. Оказывается, она способна совершить такое, чего другим не под силу. Вот живет она себе ровно и покойно, девчонка, как другие девчонки, а сам собой, без особых усилий происходит подвиг – меняет человека, делает его красивым. И сама им любуется. И хотя она много, много думала – все мысли были заняты Колей, только им, – но толком никогда не понимала, что, собственно, происходит. Передать это словами не смогла бы никому. Просто жила и радовалась своему редкому счастью.
Иногда ее охватывала и тревога без всякой причины – а вдруг да… Девичья тревога – а вдруг да Коля ее разлюбит…
Случилось вдруг и вовсе не то…
Но она и теперь по-прежнему нужна ему – помнит, зовет из-за стен!
Он еще не знает, что она, Соня, сейчас куда больше его любит – не страшится, ни в чем не попрекает, а гордится им!
Не только она одна, большинство ребят в классе считают – ради жизни по-иному поступить было нельзя.
Понимает ли это сам Коля?
Поймет! Она все ему расскажет, откроет глаза на то, чего из-за стен видеть нельзя, сама им гордится, его заставит гордиться собой!
Он узнает, какой она верный товарищ. В самом большом несчастье предана до конца, до костра! Ничто на свете не разлучит, ничто на свете не испугает, ничто на свете ее не остановит.
Даже другие сейчас верят в ее силу. Поверит и он.
Соня бросилась из дому, оставив переполошенную мать, чтоб дознаться – куда, к кому, пройти сквозь замки и стены, видеть его, слышать его, открыть ему великое!
Свидания… Еще недавно это были лучшие минуты в короткой жизни каждого из них. Свидания, на которые они ни у кого не спрашивали разрешения.
Соня долго ждала в неуютной пустой комнате с длинным узким столом, пока наконец не раздались шаги и сумрачный сержант с надвинутым на глаза козырьком фуражки не ввел его…
У нее перехватило дыхание – с исхудавшего до незнакомости лица глядели затравленные, просящие глаза. Она считала его подвижником, невольно сложилось представление – гордый, страдающий, верящий в свою правоту, замкнутый в себе. Совсем выкинула из памяти того Колю, раздавленного и невменяемого, который среди ночи, словно лунатик, оказался под их дверью. Сейчас – затравленный взгляд, немотная просьба, измученность. И пронзительная жалость к нему, и пугающее ощущение непоправимости…
И он, похоже, смутился, так как тоже ожидал встретить ту Соню, какую знал, – кроткую, любящую, пугливую. А перед ним стояла – острый подбородок вздернут, наструненно-прямая, вызывающая, казалось, даже ростом выше и глаза, опаляющие жаркой зеленью.
В тех частых свиданиях, какие были у них в неправдоподобно прекрасном раньше, они так и не научились обниматься, не обнялись и сейчас, а, боязливо сблизившись, протянули руки, сцепились пальцами. Она глядела на него плавящимися глазами, а у него мелко дрожал подбородок. Не расцепляя рук, опустились на скамью, всматривались, молчали, дышали.
– Ко-ля… – выдохнула она, совершила труднейшее – сломала молчание. – Коля, никому так не верю, как тебе!
И он затравленно метнулся зрачками в сторону, с усилием выдавил страдальческое:
– Не надо, Соня.
– Что – не надо? – удивилась она.
– Говорить мне такое.
Соня обомлела, ничего не ответила.
– Стыдиться меня нужно и… ненавидеть.
– Коля! Тебя? Ненавидеть?
– Я сам себя ненавижу, Соня, – с тихой, какой-то бесцветной убежденностью.
И наконец она пришла в себя, она вознегодовала:
– Да как ты смеешь! Такое – о себе! Не-на-вижу! За что?! За то, что мать спасал! За то, что против взбесившегося поднялся, кто для всех страшен… И не струсил! И за это – нен-навиж-жу?
Он слушал покорно, с пугающим равнодушием.
– Ты ничего не знаешь, – обронил он.
– Как?! Я – ничего? Все знают, а я – ничего?..
– Ты только слышала, а не видела. Тебя же не пустили туда… А там… – Он весь передернулся и закончил: – Кровь… Лицом в крови…
Не спотыкающиеся слова, а это брезгливое передергивание заставило ее поверить – испытывает отвращение к себе, как к чужой гнойной болячке. И Соня заметалась:
– Коля! Опомнись! Он палачом был! Ты не человека, нет!.. Ты палача, Коля-а!
– Палач – я, Соня, – негромко и твердо, но убегая зрачками.
– Т-ты!.. Т-ты забыл! Неужели?.. Как можно забыть все! Вспомни! Вспомни, как ты совсем маленький в глаза людям глядеть стыдился. Его стыдился! А теперь?.. Теперь – себя! Он вдруг хорошим стал, а ты – плохой! Кол-ля! Зачем?!
– Я теперь хуже его, какое сравнение.
– Он когда-нибудь был справедливым? Добрым был?.. Никогда!.. Ты страшное сделал. Да! Страшное, но справедливое! Ради добра, Коля. Ради того, чтобы маму спасти. Ты гордиться собой должен, что зверя… да, зверя опасного поборол!
Но Коля упрямо сказал в пол:
– Он человек, Соня, не зверь.
– Зверь! Зверь! Не обманывай себя!
– Он не совсем плохим был, Соня.
– Ка-ак не совсем?!
– Совсем плохих людей не бывает на свете. Я это только сейчас вот понял.
– Не бывает плохих?.. Может, и Гитлера на свете не было?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































