Текст книги "Благословение имени. Взыскуя лица Твоего"
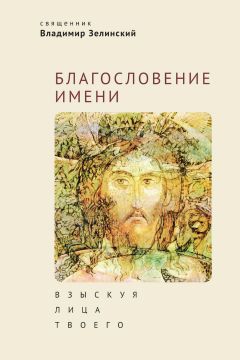
Автор книги: Владимир Зелинский
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
IV. Молиться Богу

Искусство быть малым
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания (Быт. 3, 7).
Первым плодом грехопадения Адама и Евы были открывшиеся глаза. Глаза эти впервые заметили наготу. Но что же они узрели такое, чего не видели раньше? Нагота стала болью их взгляда, недобрым вестником стыда, т.е. сознания некого тягостного и интимного различия. И они сшили смоковные листья, чтобы защититься от чужих глаз. Бог стал Другим, а другой посторонним. Они захотели спрятаться от собственной беззащитности перед Творцом и друг другом. После грехопадения нагота оказалась нищетой, которую надо было непременно скрыть как нечто уязвимое и постыдное перед внешними. Стыд проистекает от охранительного инстинкта, свидетельствующего о мучительном осознании неприкрытой голости нашего я, то, что видимым образом выражает себя в сокрытии признаков пола.
Но робость тела, не желающего выставлять себя целиком, выдает нечто более существенное. Чувство стыда понуждает нас охранять что-то свое, нищенски личное, сделать опоясания вокруг своей беды. Беда заключается в том, что наше я, отделившееся от Творца, со времен прародителей мучительно ощущает свою наготу перед Ним. Именно в этом древнем, необоримом, хотя и вытесняемом ощущении стыда перед Богом следует искать источник разрастания нашей самости. Она побуждает каждого старательно укрывать себя и вместе с тем одержимо настаивать на «воле к власти», воздавать себе видимый или невидимый миру культ. Однако тот, кто более о том печется, острее чувствует свою уязвимость. (Не приходило ли кому в голову осмыслить с этой точки зрения философию Ницше?)
Живущий во мне грех (Рим. 7, 17) не довольствуется только мною, но разрастается метастазами в своем притязании сделаться сверх-я. Всякое влечение к обладанию кем-то или чем-то выявляет «проект», направленный на нечто сверхчеловеческое. Опухоль сверх-я живет за счет других, требует у них славы или вожделеет власти над ними, распространяясь над все большим фрагментом мироздания. Кто-то должен иметь в своем повиновении толпы, а другому достаточно чисто интеллектуального господства: пусть моя мысль водит на поводке иные идеи, чужие головы. Предельное, самое затаенное желание человеческого эгоцентризма – стать «богом», как обещал ползучий хитрец, который ведь может сказать и правду, хотя только наполовину.
Возьмем простую вещь – деньги в богословском их аспекте; откуда берется эта неуемная и кажущаяся столь естественной жажда пожирать их в количествах, которые иной раз бесконечно превосходят наши прямые потребности (быть сытым, одетым, согретым, жить в собственном доме…)? Тайны здесь нет никакой, деньги – место инвестиции моего я, которое позволяет ему наращивать свой душевный свой капитал до бесконечности. Полный сундук, т.е. банковский счет служит моральным эквивалентом нашей способности обладать, иметь при себе вещи, пусть даже и виртуально, нам абсолютно ненужные.
Я царствую! – Какой волшебный блеск!»,
Послушна мне, сильна моя держава… —
бубнит себе под нос скупой рыцарь – и разве непонятно, откуда исходит волшебное это сияние? Философски выражаясь, из той самой имагинативной державы, населенной всевозможными призраками и ролями одного сверх-я.
Но в деньгах ли дело? Не от того ли златого, волшебного блеска берется желание иметь, как говорили в XIX веке, донжуанский список попрестижнее да подлиннее? Разве телесные импульсы не служат в данном случае лишь для удовлетворения своего рода злодуховной потребности – владеть как бог другими человеческими существами? Не сексуальный позыв, а скорее скулеж нищей души скрывается за человеческой комедией романов. Да разве не то же самое стоит за всякой человеческой амбицией, будь она грандиозной или совершенно ничтожной? Кто живет мечтою иметь розу в кабине роллс-ройса или Мисс Вселенную на собственной яхте, другой готов голодать, чтобы собрать лучшую коллекцию русского авангарда, третий воспален любовию к собиранию древних монет, четвертый видит себя на троне автора книг с самыми большими тиражами, у пятого смысл существования в том, чтобы получить максимальное количество научных титулов, приобрести репутацию самого герметичного поэта, ощупать глазами наибольшее количество стран, континентов, пейзажей… Ну а тот, кому все это недоступно – а их абсолютное большинство, помещает свою личность в собирательное существо разных народных идеологий, которые коллективно гордятся, властвуют, национально мыслят, движут историей, радуются быть некоей силы частицей…
Сколько страстей, столько опоясаний…
Известно, что Лев Толстой, напечатав «Войну и мир», а затем «Анну Каренину», прошел через невероятной остроты кризис, о котором он рассказал в своей «Исповеди»: «Ну хорошо, – допрашивает он себя, – у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?… И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше… Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире – ну и что ж!»
«Если бы пришла волшебница, – продолжает Толстой, – и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать… Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели… Мысль о самоубийстве пришла ко мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни».2525
Исповедь // Собр. соч. в 22 томах. Том XVI. – М., 1983, стр. 116.
[Закрыть]
Ибо после того, как все «яства земные» становятся человеку доступны, насладят его тело, насытят очи, удовлетворят самые неразглашаемые помыслы, тогда необъяснимо, исподволь его настигает какая-то тяжелая, убивающая тоска. Кто не слышал о тяжелых депрессиях тиранов, о «зубной боли в сердце» (Гейне), сводящей с ума именно тех, о ком говорится: «Ну чего ему еще не хватало!» Не вас, кого судьба ежеутренне загоняет в тесное метро и несет на постылую работу, а вот скорее тех, кто сам лихо погоняет и своими, и чужими судьбами, но притом – по словам Цветаевой – «и целует и пьет насильно». Вы роскошествовали на земле и наслаждались, – говорит апостол Иаков, – напитали сердца ваши, как бы на день заклания (5, 5). Этот избыток пищи для тела и духа не может вместиться в нас, и вот-вот готов низвергнуться вон. Переедание, далеко не только физическое, может вызвать неодолимую тошноту от самого себя. Есть тошнота изобилия от расширения своего я… От того, что некуда от него деться, ощущение, знакомое каждому человеку, хотя и куда в более слабой степени. И вот из этой тошноты, вину за которую мы склонны валить на тело, и рождается тяга к самоубийству.
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти! (Рим. 7, 24), – нет-нет да вздохнет, словно скрипнет что-то в каждом из нас. Однако тело – лишь инструмент, и Павел знал это лучше нас, ибо человек весь целиком создан по образу Божию, Бог же есть Дух. Человек – это дух, имеющий в своем распоряжении тело, но при этом желающий добавить к телесной своей собственности еще множество других приобретений. Эти приобретения дают ощущение власти тому отчаявшемуся я, которое живет, движется, действует в теле смерти. И все же это отчаяние апостола Павла, Льва Толстого (имевшего мужество смертной тоской себя судить, а не строить на ней «художества») и стольких других есть в то же время и начало нашего спасения, благого нашего обнищания перед Богом. Мы пробуждаемся от самих себя, стряхиваем свою одержимость владеть и потреблять, изгоняем божка, желающего превратить мироздание в свою вотчину. Когда-то мы отведали не тех плодов и теперь не знаем, куда нам деться от того проглоченного наспех кушанья. Мы оказались втянуты в какие-то отношения с тенями, отбрасываемыми нашим я, и, куда ни оглянись, вся вселенная теперь их темница.
Речь не идет о простом эгоизме, который в каком-то смысле отвечает естественному порядку вещей, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти (Еф. 5, 29), ни даже эготизме (слово, предложенное Стендалем), означающем навязчивое желание «высказывать» себя всем и во всем. Ведь оба этих порока суть лишь орудия того хитрого господина, который ползает на брюхе (Быт. 3, 14) и подает оттуда советы. Можно говорить о духовной топонимике нашего существа; не ее ли имел в виду ап. Павел, сказавший: бог их – чрево (Фил. 3, 19). И бог сей не терпит соперников, хочет вытеснить их из сердца, подчинить его своим чревным законам. Змей обещал, что мы станем как боги, знающие добро и зло (Быт. 3, 5), т. е. станем как он, значит, будем ползать чревом по земле, собирая с земли свои знания пожирающими глазами, утучняя ими свое я, присоединяя видимый мир к своей плоти, к своим помыслам и владениям. Пожираемое нами бывает сладким в устах, но горьким во чреве. Столь горьким, что горечь набитой нашей самости подталкивает нас к смерти.
Но даже и мысль о ней тоже может стать одним из наших капиталов, ибо наша боль облекается в идеи. «Как можно верить в Бога и выносить идею, что я не бог», – спрашивает Кириллов в «Бесах» и затем кончает с собой. Достоевский понял дилемму, поставленную змеем: убить себя, чтобы стать богом.
Помню, несколько лет назад я забрел в какой-то книжный магазин в Латинском квартале, взял книгу с полки наугад, случайно раскрыл и прочел: «Мечта моей жизни: основать религию, самому стать религией», – писал молодой французский писатель, начинавший уже входить в моду, а затем вдруг покончивший самоубийством. Что значит «основать религию»? А вот что: спроектировать свое я на некий небесный, трансцендентный экран. Убежать из своей внутренней тесной тюрьмы, сделаться неким мистическим, сверхбогатым, сверхмощным сверх-я, и пусть замороченные, околдованные человеческие стада приносят жертвы и упования к алтарю этого бога, и дары эти станут целиком «его». «А ведь сумасшедший этот проект не столь уж и безумен, – подумалось тогда, – он вполне реализуем и даже на свой лад политически удобен». Но едва став реальностью, он уже несет в себе ростки своей гибели. Что-то разрывает его изнутри. Разве сущность тоталитарных конструкций ХХ столетия не вытекала из этой мании овладеть миром, заключить его в «бога-чрево»? Чрево называлось Партией и Народом, слитыми в одном родном беспощадном хозяине, воплощающем некое высшее я, спаянное государственным верованием. И разве коммунизм или нацизм не были изваяниями некоего абстрактного идола, который запихивает в свое чрево все видимое и невидимое, знаемое и незнаемое? И тот, и другой заключали свою вселенную в клетку солипсизма, в котором некое собирательное «я» не видит ничего вокруг, кроме своих отражений и в конце концов принимает гибель от своих теней.
«Гибельное несчастье я, – говорит Симона Вейль. – Оно разрушает реальность, отнимает реальность от мира. Погружает его в кошмар».2626
Simone Weil. Cahiers. II. – Paris, 1972, стр. 266.
[Закрыть]
Вот почему иная мудрость начинается со столь странного открытия: подлинное искусство быть человеком заключается в том, чтобы быть малым. Стать как зерно горчичное, стяжать свою нищету и пройти ее до конца. Положить ее к стопам Божиим. Убрать опоясанья одно за другим. Никакая техника или медитация не выдаст нам секрета этого искусства. Оно начинается с отказа от обладания. Не собирайте себе сокровищ на земле, – говорит Иисус (Мф. 6, 19), даже самых высоких, метафизических сокровищ. Не превращайте мир Господень в частную собственность разбогатевшей души, не пытайтесь уместить его в своем или коллективном чреве. Позвольте Богу войти свободно в ваше сердце, дайте ему для этого обнищать, остаться нагим. Ему расти, а мне умаляться, как говорит Иоанн Креститель (Ин. 3, 30).
Такова формула обретения в себе человека. Она выражает опыт, противоположный «доктрине змея», обещавшего, что мы сравнимся с Богом в Его всезнании и владении. Но когда иллюзия такого равенства овладевает нами, хочется отменить и Его, и себя. Умаляться сегодня, в новом тысячелетии Христовом – значит отказаться от видения мироздания как продолжения своего перестраивающего, перекраивающего творение я. Вернуться к своей изначальной сути, к тому малому зерну Света, из которого может вырасти в нас ошеломляющее присутствие Духа, ныне лишь неизреченно ходатайствующего в темнице…
Дух Господень… помазал Меня, – говорится в книге пророка Исайи, которую Иисус открывает в синагоге Назарета, – благовествовать нищим…, проповедовать пленным освобождение…, отпустить измученных на свободу… (Лк. 4, 18).
Повиноваться молитве
…Бог созда человека в нетление во образ подобия Своего сотвори его (Прем. 2, 23).
Но в чем же состоит нетленный образ подобия Божия, проступающий вдруг иногда через все, что тленно в человеке? И почему существование наше берет начало от этого образа? Ответ Писания прост и загадочен: …потому что Бог есть любовь, потому что любовь от Бога (1 Ин. 4, 7-8). О любви Бога принято витийствовать больше и дольше, чем нужно. Между тем исток ее – в тишине. Когда она и вправду открывается нам – «да молчит всякая плоть человеча». Она как дождь; капли ее образуются там, где мы не видим, падают сверху, уходят в землю. Но от дождя остается след. Любой предмет, всякое дыхание, сколь бы оно ни казалось высушенным, еще хранит в себе нестираемый остаток его влаги. Капли собираются в ручей, ручьи сливаются в поток, бегущий через (или мимо) нас к тому вселенскому океану, который вздымается и вздыхает вокруг.
Для человеческой любви прозорливый язычник Стендаль нашел образ, который когда-то запомнился мне. Он сравнил ее с кристаллизацией. Если опустить веточку в перенасыщенный раствор, она покрывается кристаллами. «Раствор» нашего существования всегда перенасыщен самыми различными веществами. Некоторые из них ядовиты, другие благодатны, но не всегда их легко различить, потому что они примешаны к самым естественным чувствам. Наши реакции на окружающий мир определены этими веществами, они погружаются в них и пропитываются ими. Каждое соприкосновение с конкретным объектом, обретающим форму вовне или внутри нас (событием, впечатлением, встречей), вызывает мгновенный процесс кристаллизации при контакте с веществом, в данный момент более активным. Когда одолевает гнилостный яд, человек костенеет во зле под бесчисленными его масками, когда любовь берет верх, она кристаллизуется в делах, которые он творит, в именах, которые произносит. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе (Мф. 12, 35). Из сокровища имен самое доброе – имя Божие. Оно – не просто знак, а дух в словесной плоти, что рождается из молитвы.
О молитве сказано столько и сказано людьми, у которых автор сих строк недостоин развязать ремень на обуви их (Деян. 13, 25). Их не следует повторять всуе. Слова, которые берут взаймы у других без возможности их вернуть с прибытком собственного опыта, становятся воровством. И чтобы не красть из чужого молитвенного сокровища и не выдавать чужое за свое, мы коснемся здесь лишь заложенной в человеке потенции молитвы, экзистенциальной ее основы в нашем опыте.
В первое же мгновение человеческого существования «образ подобия» Божия оставляет на нем свой отпечаток. Конечно, имя Божие, которое мы произносим, есть уже плод кристаллизации, совершенной до нас верой отцов, начиная с Авраама. До того как стать нашим словом и исповеданием, Имя пребывает в нас как непроросшее зерно. Мы не знаем, как, когда, откуда оно прорастет. Но когда оно поднимается из земли, то становится славословием или мольбой. «Господи, Царю Небесный, Дух истины, душа моей души…», – говорится в одной из западных молитв. Это можно услышать так: Дух сокрыт в истине как Имя в душе. И когда мы взываем словами псалма: Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему (141, 7), мы молим о том, чтобы Имя, несущее в себе частицу присутствия Божия, принялось, тронулось в рост. Чтобы оно вошло в нашу веру, кристаллизовалось в наших делах и помышлениях, освободило нас из темницы, куда каждый из нас, не желая того, когда-то вошел по собственной воле. Тот, кто славит Имя, возвращается к исповеданию, заложенному в нас при творении.
До того как первые ученики Христовы стали носить имя «христиан», они могли называть себя призывающими Имя Твое (Деян. 9, 14). В их призыве выражало себя упование, которое сосредотачивалось в Воскресшем Иисусе. Слово как бы вновь становилось плотью, хотя и пребывало «свернутым» как зерно. Бывшее «в начале у Бога» и призываемое людьми, оно обращалось к Тому, Кто был невероятно высок и немыслимо близок. И в этом обращении Он открывался Милосердным, Священным, Непостижимым, Грозным, Сокровенным, радикально Иным и до конца Своим. Смерть и Суд, Любовь и Воскресение – все это были называемые или призываемые имена (а их было гораздо больше, чем язык мог назвать, а разум помыслить), которые, как искры, падали в наш опыт. Они рождались из Имени, которое обрастало человеческими словами, но оставалось неисчерпаемым и безымянным. И вместе с тем они складывались из земных наших чувств, потому что пребывающий в любви пребывает в Боге, как говорит Иоанн Богослов (1 Ин. 4, 16). Через пребывание в любви – неожиданно и всегда чудом! – узнается Тот, Кто есть. Он входит в земной человеческий дом, и дом не сгорает. Из того, что переживается нами, возникает личный и видимый образ Бога невидимого, из ощущений – Слово, из призывов и упований – само Бытие. Из душевного тумана стекаются капли, капли застывают в кристаллах, и Свет отвердевает в именах Божиих. Из тех кристаллов складывается камень веры, и на камне сем созидается Церковь. Посеянные семена дают ростки и поднимаются к солнцу. Происходит таинственный взаимообмен между Богом и людьми, ибо Господь доверяет им Свои подлинные имена, и молитва «извлекает» их из дара Его присутствия и овеществляет в мудрости Церкви. Человеческая свобода выносит эти имена к нашей вере, которая есть уверенность в невидимом (Евр. 11, 1), к вере, что ходит пред лицом Господним на земле живых (Пс. 114, 9).
Нет, я не забыл, что любое «знание» о молитве, отсеченное от живого опыта ее, небезопасно и нечестиво. Цель этого размышления в том, чтобы уловить отблески опыта, не доступного нам, и задуматься над ним. Для аналогии здесь может пригодиться даже самая отвлеченная философия. Так, в феноменологии существует понятие интенциональности: энергия мысли как бы отделяется от предметного ее содержания до того, как оно станет «непосредственными данными сознания» (Бергсон). Прежде чем объект схватывается мыслью, он уже улавливается интенцией мысли, ибо сам акт сознания, направленный на объект, совершается прежде, чем мысль достигает его. Однако то, что годится в качестве достойной гипотезы по отношению к чисто мозговой деятельности, может найти еще лучшее применение в области сердечной. Я верю – и опыт людей, бесконечно превосходящих меня, подтверждает это, – что еще до того, как призывается имя Божие, оно уже пред-существует в интенции нашего существования, изначально намагниченного этим неизреченным именем. Еще до того, как мы делаем самые первые шаги в молитве, молитвенная энергия просыпается за горизонтом нашего существования. Еще не явились слова, чтобы исполнить это намерение, как Господь одаряет нас голосом и смыслом к их произнесению. Всякая молитва отзывается как эхо тайного зова, даже если этот зов заглушается всей нашей жизнью.
Еще нет слова на языке моем, —
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно
(Пс. 138, 4).
Вспомним вновь столько раз повторяемое исповедание Августина: «Ты создал нас для Себя, и неспокойно сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Неродившаяся, несложившаяся молитва взывает к нам и беспокоит нас. Ее энергия, запертая в нас, ищет для себя выхода. У нас всегда остается выбор: либо повиноваться той вложенной в нас, таящейся где-то пра-молитве, которая хочет исполниться в нас, или же отвергнуть ее, отодвинуть подальше, засыпать песком. Всякая молитва есть акт творчества, но вместе с тем и послушания («дерзновения и покорности», как сказал бы Шестов), проистекающий как из человеческого усилия, так и сознательного подчинения интенции молитвы, данной нам вместе с дыханием. Подобно эросу, о рождении которого рассказывается на «Пире» Платона, молитва остается дочерью бедности и богатства. В ней подает голос наша эротическая природа, т.е. желание единства с Другим, более сущностным, чем мы сами, более близким нам, чем мы сами. И жар Его присутствия обнимает нас.
Некоторые святые Отцы, и среди них Иоанн Лествичник, суровейший из учителей пустыни, не смущались говорить прямо об этом эросе: «Вожделение это не дает ему покоя даже и во сне, но и тогда сердце его беседует с возлюбленным. Так бывает обыкновенно и в телесной любви, так и в духовной. Некто, уязвлен будучи такою любовию, сказал о самом себе то (чему я удивляюсь): аз сплю, по нужде естества, а сердце мое бдит (Песн. 5, 2) по великой любви моей»2727
Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо. Степень 30, 13. – М., 2007.
[Закрыть].
А вот еще прекрасней:
«Мать не так бывает привязана к младенцу, которого кормит грудью, как сын любви всегда прилепляется к Господу»2828
Там же. Степень 30, 12.
[Закрыть].
Молитва, как учат нас наши наставники, имеет три основных ступени: молитва трудовая, совершаемая усилиями ума и воли, горячая молитва сердца и духовная молитва, даруемая Духом Святым, ходатайствующим в нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8, 26). Начиная с древности, учителя молитвы настаивали на важности молитвы традиционной, т.е. сложившейся в Церкви и благословленной ею, произнесенной множество раз сердцем и устами бесчисленных святых. Чтобы приблизиться к горячей молитве, сердце нужно разогревать умом. И исторгну каменное сердце от плоти их и дам им сердце плотяно, – сказано у пророка (Иез. 11, 19). Опыт великих молитвенников говорит нам о том, что наши страсти, попечения, желания, сама наша естественная религиозность суть не что иное, как окаменевшие опоясания, скрывающие образ Божий, сокрытый в сердце.
Молитва, называемая «трудовой», совершается с усилием, которому откликается другое. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною, говорит Господь (Откр. 3, 20). Молящийся и Принимающий молитву хотят, чтобы их услышали по ту сторону двери, которая разделяет их. И тот, и Другой ищут встречи, и этот поиск, как рытье подземного перехода, состоит из труда. Когда трудовое время подходит к концу – а срока его никто не знает – человеческий слух начинает различать голос, раздающийся как слабое постукивание с другой стороны. Камень сердца начинает крошиться, и вот удары, вначале далекие и неясные, исходящие как бы ниоткуда, становятся все настойчивее, все более личными, и мы начинаем откликаться им. Тот, Кто стоит у двери, готов войти. Иногда кажется, что Он совсем рядом, хотя дверь еще остается запертой на замок.
Однажды, хотя движения благодати никак не укладываются в наши дни и часы, молитва становится почти непроизвольной, как дыхание, которое не замечают. Чередование и ритм ударов с другой стороны совпадает с ритмом биения сердца. Не я свидетельствую об этом, но те мастеровые молитвы, которые проделали весь путь ее: после стольких усилий сердце начинает следовать биению молитвенных слов или скорее молитва вибрирует в ритме движений сердца. Дверь открывается, каменная стена разрушается сама собой. Тот, кто стучал по ней, проделывает ход, чтобы войти самому, и тогда тихий, сильный, ликующий свет заливает нас. Один из этих молитвенников, преп. Серафим, оставил поразительные слова о ней: «…Когда, при всемогущей силе веры и молитвы, соизволит Господь Бог Дух Святый посетить нас и приидет к нам в полноте неизреченной Своей благости, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в молве находится, когда молитву творит; а при нашествии Духа Святаго надлежит быть в полном безмолвии…»2929
Преподобный Серафим Саровский. – М., изд. «Ковчег», 1998, стр. 346.
[Закрыть]
Но кто из святых когда-либо признавался, что стал жилищем для Духа? Те, кто мог бы рассказать о том, предпочитали молчать. По целомудрию сердца, из-за страха вспугнуть этого спустившегося к ним духа молитвы каким-то мирским шумом или, не дай Бог, похвальбой. Вот почему один из древних молитвенников мог сказать на смертном одре: «Поверьте, братия, я еще не начинал покаяния своего».
Не бывает мастеров молитвы, есть лишь мастеровые, ремесленники, рабы неключимые (Лк. 17, 10), которые также устают, изнемогают, унывают, как и все мы. Но иногда в момент усталости или даже отчаяния стена падает, дверь открывается, и Дух входит в нас – пусть лишь не больше, чем на мгновение, – для того, чтобы научить нас безмолвию радости, молчанию полноты.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































