Текст книги "Страстотерпцы"
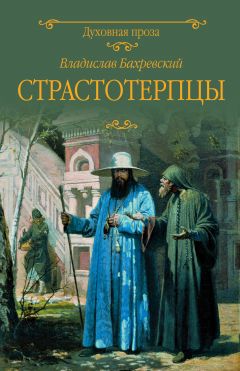
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Батюшка! – озарило пани Евдокию. – А ведь ты из неотступников – последний протопоп. Кто же правду, за которую принимаешь гонения, передаст иным поколениям?
– Не будет правды на Руси, пока не покаются отступники.
– Покаяния ждешь? – усмехнулся Алексей Христофорович. – Лютер[65] отринул немцев от Рима, и то – навеки. Навеки, до Страшного суда, разошелся Рим с Царьградом… У царя своя правда, у Никона своя, и у тебя своя же. Чья правдивей?
– Моя, – сказал Аввакум.
– Никон поменял древнее благочестие на белый клобук, красоваться перед бабами… Царь ему вторил, да теперь знает, что не прав. Он и вернулся бы к старому – духом немощен. Как признаться, что столько лет сатану тешил? Я же за мою правду сына на песке оставил без погребения, без молитвы, ибо ел я в ту пору траву, как скорбный Навуходоносор. Если удержу камень правды моей, может, все царство Русское удержу. Верю, Господь не разорит городов, не развеет народ русский, ибо не все отступили от Него.
– Скажи, батюшка, – пани Евдокия поклонилась протопопу, – видишь ли ты во мне хоть зернышко правды? Хоть зернышко! Его бы и положила на другую чашу весов против сверкающих камешков, жемчуга, шубок мягоньких, собольих.
– Есть тебе что положить на другую чашу, – сказал Аввакум. – Того зернышка будет довольно, чтобы перетянуть не только твои цацки, но гору греха.
– Крепок ты, Аввакум. Сильна твоя правда, – согласился Алексей Христофорович, – но я знаю людей покрепче тебя.
– Кто же?! – изумилась пани Евдокия.
– Анастасия Марковна с чадами.
– Истинно так! – закричал Аввакум. – Добре сказал, воеводушка. – А крепче всех нас, вдесятеро крепче, – Афонюшка, поспешивший на свет Божий на нарте, в пургу, в съезжей избе оплакавший явление свое… Ладно! Поговорили сладко, но еще слаже Богу помолиться.
Молился с воеводшей и воеводой, пока не изнемогли, а на другой день протопоп с сыновьями ушел в море. Когда воротился, рассказала ему Анастасия Марковна удивительное, о чем вся Мезень говорила. Воеводша отдала нищему шкатулку с дорогими камешками, с жемчугом. На всю Мезень и был-то всего один пропойца несчастный.
Нищий перепугался, принес шкатулку воеводе, воевода наказал поить горемыку в царевом кабаке целый год на дню по три раза.
Тут Анастасия Марковна умолкла, перекрестилась.
– Увидала пани Евдокия свои цацки, побледнела как снег, говорит: «Погубил ты меня, Алексей Христофорович. Хотела избавиться от греха – Бог не попустил».
Опять ушел в море протопоп. В море от рыбаков узнал: слегла пани Евдокия. Одно у нее осталось желание: при солнышке помереть.
Со смирением, с теплой надеждой молился Аввакум о доброй душе. Молебны служил, врачевал, как мог. Вымолил! Поднялась пани Евдокия. Воевода Алексей Христофорович каждому чаду и домочадцу Аввакумова семейства по шубе подарил. Протопопу да протопопице – по тулупчику.
Чадам ссыльного от казны положено было на день на еду шесть денег, домочадцам – три денежки. Протопопице – алтын, протопопу – алтын с денежкой. Но воевода и хлеба дал, и соли, и рыбы. А главное, не утеснял Аввакума молить Господа, как молили отцы.
5
Москва готовила столы. Ехал редкий гость – гетман Малороссии Иван Мартынович Брюховецкий.
Одиннадцатого сентября казачье посольство – триста тринадцать человек, шестьсот семьдесят лошадей – прибыло поутру к назначенной заранее первой встрече перед Земляным городом. Гетмана приветствовали и спрашивали о здоровье ясельничий Иван Афанасьевич Желябужский да дьяк Григорий Богданов. Гетману подвели немецкую лошадь из царских конюшен. Седло бархатное, вышитое золотой нитью, чепрак турецкий – по серебряной земле золотые цветы, сбруя тоже вызолоченная, в изумрудах, в бирюзе.
Въехал гетман в Серпуховские ворота. Поставили его со всею свитой на Посольском дворе. Содержание определили – рубль в день на кушанье, питье не в счет. Переяславскому протопопу Григорию Бутовичу, духовнику иноку Гедеону, генеральному обозному Ивану Цесарскому, генеральному судье Петру Забеле, двум генеральным писарям Степану Гречанину, Захару Шикееву да атаману гетманского куреня Кузьме Филиппову и прочим полковникам – по полтине, простым казакам – по пяти алтын.
На другой день гостям показывали Москву, а гости себя показывали.
Народ сбегался толпами, молодицы, глядя на бритобородых, с усищами, бритоголовых, с чупрунами, казаков, ахали. Люди, в военном деле смыслящие, изумлялись богатому оружию простых казаков, казацким ловким зипунам. Запорожцам нравилось красоваться и Москва нравилась.
Деревянное кружево московских теремов, несчетные купола церквей с золотыми крестами были для казаков и для самого Ивана Мартыновича дивным дивом.
Желябужский проехал с гостями по замоскворецким лугам, где паслись казацкие кони. Город с реки вдвое краше. Но у казаков было иное на уме.
Попросился гетман на Пушечный двор.
– Пушки-то?! – прикинулся простаком ясельничий. – Пушки можно и в Кремле поглядеть.
Показал гостям длинный ряд стволов, поставленных на скате, над садом. Показал большой колокол и повел на медвежью потеху.
Добрый молодец вошел в просторную клетку, и к нему одного за другим пустили зверей: первый медведь был медведь, второй – большой медведь, третий – медведище. У бойца рогатина да нож. Управился.
Казаки, разглядывая медвежатника, только чубами трясли. Спрашивали, как зовут.
– Иван сын Меркурьев, – отвечал медвежатник. Ростом невелик, на вид простоват.
– Сколько лет тебе? – спросил гетман.
– Сорок с годом.
– Мне ровесник! Как же ты не боишься?
– Боюсь! Как его не бояться? Третий на башку меня был выше. Дело уж такое. Царя тешить, царевых гостей.
– Неужто ни разу не попадался под лапу?
– Под лапу – нет. Попадись – изувечит. Ломаться – ломались. Сила на силу.
– И всякий раз твоя брала?
– Моя. Ныне уж не борюсь. А по молодости схватывался. Уж как обнимет – в глазах темно. Бог, однако, помогал.
Иван Мартынович снял с пальца перстень, взял медвежатника за руку и опять удивился:
– Рука-то маленькая! Где же сила твоя помещается?
Желябужский хмыкнул, дал медвежатнику медный старый ефимок.
– Окажи гостям уважение.
Меркулов виновато улыбнулся, повертел ефимок в пальцах, сдавил, потискал – получилась крошечная чарочка.
– Вот тебе мой перстень! – обнял гетман Ивана. – Подари мне свое рукодельице.
У казаков, стоявших вокруг медвежатника, осанки убыло: Москва, может, и дикая, но такой потехи вовек не позабудешь. Вон их сколько, москалей. Не больно собою видные, да ведь и медвежатник не ахти плечами-то казист.
Через день по прибытии царь позвал Брюховецкого и его полковников к руке.
Гетман Алексею Михайловичу пришелся по душе: кареглазый, статный, лицо веселое, усы и брови шелковые, черные. Даже лысый череп не портил.
Подарки гетмана оказались просты: медная пушка, взятая в бою у наказного атамана, изменника Яненка, и его же серебряная булава, сорок волов, жеребец арабских кровей.
Великий государь спросил гетмана о здоровье, допустил казаков к руке, наградил соболями.
На том церемонии кончились, и уже 14 сентября пошли долгие упрямые споры о статьях договора. Судьей в Малороссийском приказе был боярин Петр Михайлович Салтыков. В обхождении ласковый, но в государевых делах – кремень.
Однажды во время вечерни гетманову духовнику Гедеону передали для Брюховецкого письмо патриарха Никона. Святейший благословлял гетмана, его полковников и все Войско Запорожское. Просил пожаловать в Воскресенский монастырь, помолиться в Новом Иерусалиме. Посланец Никона шепнул Гедеону, что ему есть что сказать гетману и на словах.
Брюховецкий хоть и боялся царских соглядатаев, но рискнул. Монаху передали казацкое платье, провели в покои гетмана незамеченным.
Собрание многого стоило: епископ Мстиславский и Оршанский Мефодий, бывший по весне в Москве, просил великого государя ради устроения прочного мира на Украине брать денежные сборы с городов в свою царскую казну. Гетман деньги городов тратит на одних казаков, города же хотят иметь крепкую надежду на царя. Собирать деньги должны царские воеводы под наблюдением выборных из местных жителей, а потому надо во все города послать воевод с ратными людьми.
Передал посланец и наитайнейшую просьбу: пусть гетман возьмет с собой в Малороссию племянника святейшего Федота Марисова, из Малороссии Федоту ехать в Константинополь.
– Взять с собой никого нельзя, – ответил гетман. – Государевы люди знают, сколько прибыло. Поехать к его святейшеству тоже не могу, но казаки не забыли ласку святейшего, за благословением пошлю полковника Давыдовича.
Про себя же Иван Мартынович подумал: «Поганец Мефодий! Обойду я тебя, поганец!»
И на другой день ударил челом: пожалуй, царь-батюшка, прикажи брать с украинских городов все доходы и сборы в свою казну да пошли во все города своих царских воевод с ратными людьми.
Алексей Михайлович челобитье принял, послал к гетману Дементия Башмакова сказать похвалу за усердие и повелел о всех делах написать статьи.
Вцепились дьяки в гетмана, как собаки. В генеральных писарях люди служат ловкие, уклончивые, но ни обмануть, ни объехать царских думных людей не сумели.
Самая грустная для Брюховецкого оказалась первая статья: в государеву казну идут сборы денежные и неденежные, и не только с горожан, но и с поселян, с кабаков, с мельниц, таможенные взимания с иноземных купцов, медовая дань.
Вторая статья подтвердила казацкие права и вольности, но третья обязала будущих гетманов являться в Москву принимать булаву и войсковое знамя из государевых рук.
Четвертая статья была о Киевском митрополите. Владыка должен быть русским, его ставит на митрополию Московский патриарх.
Следующие статьи называли города, где будут сидеть московские воеводы, определяли численность царского войска, отводили Лохвицы и Ромены под постой арматы – пушек и пушкарей. Московским ратникам запрещалось сбывать фальшивые и воровские деньги. Последняя статья обязывала царских воевод, стрельцов, солдат не называть казаков изменниками.
Царь не принял четвертой статьи, о митрополите. Украинская митрополия входила в Константинопольский патриархат, и вопрос о митрополите требовал ссылок и переговоров с Царьградом.
Угодил Иван Мартынович Алексею Михайловичу, но на его хохляцком утином носу уже лоснилась новая, вскочившая, как прыщ, хитрость. Подавая Петру Михайловичу Салтыкову подписанные статьи, ударил челом:
– Да пожалует меня, недостойного, великий государь своей милостью, велел бы жениться на московской девке, ибо я холост. Не отпускал бы меня, не женив.
У челобитной ход долгий, а Иван Мартынович, испугавшись, что, коли статьи подписаны, его скорехонько выдворят из Москвы, повторил просьбу своему приставу – ясельничему Желябужскому.
– Ты говори, Иван Мартынович, прямо, – потребовал пристав, – кто у тебя на примете. Царь с царицею любят свадьбы играть, дело может сделаться быстро.
– Иван Афанасьевич! – развел руками гетман. – Недосуг мне было, казаку, о ласковой жене думать, о детках. Мне сорок лет с годом, а на одном месте жил я разве что в колыбели. Как посадил меня отец на коня, так и езжу. Семья моя – Войско Запорожское, заботы мои – о казаках да о народе… Поглядел я в Москве, как степенно, семейно живут государевы люди, – тоска меня взяла.
– Ладно! – весело сказал Желябужский. – Какую тебе невесту надобно? Богатую знатную вдову или девицу пригожую?
– На вдове жениться мысли у меня не было! Коли великий государь пожалует, указал бы на девке жениться. Чужих вотчин не хочу. Не ради вотчин возмечтал обзавестись семьей. Без хитрости, положа руку на сердце, скажу: изволит великий государь оженить меня, ударю ему, самодержцу, челом – пожаловал бы меня вотчинами подле Новгорода-Северского, на границе с Россией. В тех бы вотчинах жить моей жене с детками, коли Бог даст, и чтоб остались те вотчины на вечные времена у семьи и после моей смерти.
– У тебя же Гадяч есть! И как тебе быть вдали от Войска, коли жена станет жить в ином месте?
– К Войску я буду являться, где ему сбор случится. Гадяч – вотчина не Брюховецкого, а гетмана. Сегодня город мой, а завтра станет домом Тетери, Дорошенко, Опары… В сие шаткое время мне лучше бы подальше от Гадяча жить. Буду держать при себе человек триста, есть у меня сотня надежных людей… На великого государя уповаю: пусть даст мне московских ратников для береже-ния. Сколько уж раз умышляли убить меня!
– Тебе же давал государь тысячу, а ты – ни в какую!
– Взять тысячу нельзя! Скажут, гетмана Москва в плену держит. А вот от сотни не откажусь. Богом прошу – дайте.
– Сотня так сотня! А скажи ты мне, Иван Мартынович, – спросил Желябужский, – крымские татары ходят ли теперь полякам на помощь? Чего ради у них такая дружба?
– Кто татарам платит, тот им и друг. Поляки, дорожа союзом с ханом, с большими мурзами, позволяют татарам брать полон не только по всей Малороссии, но и в своих польских землях.
– Только ядовитые змеи пожирают своих детей.
– Да ведь и Хмельницкий на такое соглашался.
– Господи, Господи! Вот и постарался бы ты, Иван Мартынович, отвести крымцев от поляков.
– У татар страх и ненависть и к Московскому царству, и к Войску Запорожскому. Крыму теперь большая теснота, живут грабежом, а идти грабить московского царя – проститься с жизнью. Я, Иван Афанасьевич, хочу бить государю челом: пусть он не велит пленным полякам жить в пределах Войска Запорожского, да и в Москве, и в других русских городах. От них носят вести в Польшу, в Крым. Жить бы им ради царской же пользы в дальних местах, в Сибири.
– Твоя правда, – согласился Желябужский, – но государь у нас добрый, жалеет пленных. Как прикажет, так и будет.
6
– Мария Ильинична! Дружочек! Новость-то какая! Гетман бил челом – дать ему московскую девицу в жены. Помоги, голубушка. У кого девицы в возраст вошли? Кто Ивану Мартыновичу будет пара?
– Да он ведь казак. Отдадут ли за казака из хорошего дома?
– Иван Мартынович – гетман! – сказал Алексей Михайлович не без досады. – За добрую службу я жалую его боярством. Жених он желанный.
– У Дмитрия Алексеевича Долгорукого вторая дочка на выданье.
– Князь Дмитрий рода знаменитого, сам окольничий. Подходяще. Хороша ли девица?
– Лебедь! Лицом в батюшку.
– Долгорукие из себя видные. Лепо, Мария Ильинична! Помощница ты моя.
– Хлопочешь о гетмане как отец родной, да они ведь все обманщики, атаманы да гетманы. Сколько беды было и от молодого Хмельницкого, и от Выговского, и от Тетери! Приезжали, ласкались, а как с глаз долой, так и шкурку овечью долой.
– Волков, матушка, тоже надо прикармливать. Он потому и волк, что есть хочет.
– Господи! Ты у меня за волка-то готов заступиться! Пусти волка в овчарню, он всех овечек зубами переберет. Голодным останется, но дело свое сделает. Лиса курочку сцапает – ей и довольно. А волку лишь бы убить.
– Брюховецкий – не волк, матушка. Человек вежливый, служить горазд. Мне такой в Малороссии зело надобен.
– Не бабье дело о государевых делах судить-рядить. Только слышала я от моих приезжих боярынь: у Брюховецкого друзей в Войске Запорожском, как волос на голове.
– Зато статьи хорошие подписал.
– Смотри, батюшка! Не передаст ли он тебе со статьями всех своих врагов? У колдуна бесы в венике, у твоих гетманов – в статьях.
– Матушка, уж не напел ли кто тебе об Иване Мартыновиче недоброй песенки?
– Не нужны мне ни гетманы, ни атаманы. Ты мне нужен, свет мой. Я ведь помню, как приезжал Выговский! А Хмель-то молоденький каков изменник![66] Из-за него Шереметев у татар в колодках сидит. Уж четвертый год.
– Господи, помоги Василию Борисовичу! Виноват я перед ним, матушка, правду говоришь. Но ведь денег в казне таких нет, какие за него татары просят, – тридцать тысяч золотых червонцев: заплатить – все войско распускай… Вот я и хочу через гетмана исхитриться да и отвадить крымских людей от поляков. Без короля хан сговорчивей станет.
Царские дела у Алексея Михайловича вершились без мешканья.
17 сентября, через шесть всего дней по прибытии в Москву, была у Брюховецкого невеста, и спрашивал он своего пристава Желябужского:
– Добрый Иван Афанасьевич, объясни, Бога ради, как мне быть! Самому ехать к Долгорукому говорить о сватовстве или моих людей посылать? Где мне с князем прилично ударить по рукам? На какой двор невесту привозить? Кого звать на свадьбу, в каких чинах? Тысяцким обещал быть Петр Михайлович Салтыков, а больше у меня в Москве знакомых людей нет!
Суетился Иван Мартынович, головы, впрочем, не теряя, о всех своих заботах помнил, свое требовал сполна.
– Иван Афанасьевич, – налегал он на Желябужского, – спроси у кого следует и объяви мне честно: в каком платье на венчании и на свадьбе пристойно мне будет появиться: в московском или в служебном, в казацком? Посылать ли невесте до свадьбы подарки? У нас принято дарить суженой серьги, платье, башмаки с чулками… Спросил бы ты, друг мой, о моих печалях у самого великого государя, пусть он указ даст.
Ясельничий Желябужский слушал и в затылке скреб.
– Лучше всего напиши обо всем. Подашь челобитие на пиру у великого государя.
– Государь позовет на пир на отпуске, а сватов уж теперь надо посылать! – не соглашался гетман.
– До отпуска будет пир! – брякнул Желябужский и прикусил язык: проговорился. У царя все его дела, даже добрые, нежные, – тайна.
Прежде чем звать казаков на пир, пригласил Алексей Михайлович гетмана в Боярскую думу. Здесь, перед лицом знаменитейших родов Русского царства, Брюховецкому объявили царскую милость, возвели в боярское достоинство. Отныне Иван Мартынович должен был писать на своих грамотах и универсалах: «боярин и гетман».
В честь нового боярина царь задал пир в Золотой палате. Здесь и указали Брюховецкому его место. Было оно завидное. Выше гетмана сидели двое: ближний боярин князь Никита Иванович Одоевский да ближний боярин Петр Михайлович Салтыков. Всего же бояр у самодержца всея Руси было восемьдесят, одиннадцать из них – ближние. Окольничих – девяносто, думных дворян – сорок, думных дьяков – одиннадцать.
7
Во Псков к воеводе Ордину-Нащокину приехали посланные царем селитряные мастера Кашпирка Григорьев да Микитка Волченок. Селитряным делом великий государь указал ведать опальному. Добрый знак: опалы, знать, убыло.
За пособничество Зюзину, обманно призвавшему в Москву патриарха Никона, думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин был отправлен с глаз долой во Псков. Воеводой, да без права ведать военными и городскими делами. Все это было отдано князю Хованскому. Опальному указали вести переговоры с иноземцами, решать межевые, таможенные дела.
Слава Богу, не судили, не казнили, еще и службу дали. Сын Афанасия Лаврентьевича Воин, бежавший к польскому королю, боясь, что царские слуги достанут в Варшаве, уехал во Францию, к королю Генриху Анжуйскому.
Беседуя с немцами Кашпиркой да Микиткой, Афанасий Лаврентьевич думал о Воине, все пытался поставить себя на место новоприбывших, поглядеть на Псков, на русскую жизнь глазами иноземца. Воин так же вот глядит на французов, на их города, на землю, на небо. Неужто ему не вспоминаются отец, мать, дом?.. К царским делам был приставлен, а кто он теперь? Приживала?
Вздыхая о Воине, Афанасий Лаврентьевич говорил с иноземными мастерами ласково, дал им хороший дом со слугами, снабдил всякими припасами. Дело разумейте да не ленитесь.
Всякое доброе слово великого государя Ордину-Нащокину князь Иван Андреевич Хованский принимал за обиду себе. А из Кремля, с самого верха, к думному дворянину то один гонец, то другой. Царю недоставало Афанасия Лаврентьевича. Прибыл от короля Яна Казимира посланец Иероним Комар. Привез подтверждение перемирию на весь 1665 год, согласие уступить на сей год Смоленск с городами. Были у Комара полномочия: договориться о времени, о месте съезда великих послов, дабы заключили вечный мир. Царь спрашивал совета, как говорить с Комаром. Объявить ли о том, что в Москве знают о восстании надворного маршалка Юрия Любомирского против короля, а вернее сказать – королевы? Поторопиться ли с началом посольских съездов или выждать, чем кончится польская междоусобная смута?
Ордин-Нащокин умолял царя ради перемирия на уступки не идти. Уступать придется на съездах, обсуждая статьи вечного мира. О Любомирском Комара надо спрашивать с пристрастием, чтоб подумал – не собирается ли великий государь помогать маршалку?
Царский гонец пробыл у Ордина-Нащокина всего с час, Хованскому даже не показался, ускакал – уж такие спешные дела у великого государя с опальным.
Не прошло недели – опять скорый гонец, опять мимо Хованского. Царь сообщал Афанасию Лаврентьевичу: приехал полковник от Любомирского. У маршалка две просьбы: первая – дать денег на войну с королем, вторая – принять на службу сына, чтобы имел он на Украине два города, оборонял бы их от прихода татар и бродячих польских отрядов. Если взять молодого Любомирского на службу, не вызовет ли это неудовольствие у австрийского кесаря?
Ответ требовался письменный, но такой же скорый.
Помолился Афанасий Лаврентьевич перед иконой Спаса, попросил Господа Иисуса Христа:
– Тебе служу, Всевышний! Да будет воля Твоя, верни мне сына Воина в здравии, защити его от царского гнева… Соверши, Господи, по молитве моей. Ежели нужна Тебе иная служба от меня, грешного, – отрекусь от мира. Только сына не оставь!
Ответы написал краткие, ясные: «Сыну Любомирского пристойно быть в Москве. Сие поможет миру, а всему свету станет явно: сын великого человека, славного сенатора короны польской служит тебе, государю Московскому. Твоей же дружбе с кесарем такая служба не повредит, ибо Любомирский в милости у кесаря. Иметь царскую благосклонность к сыну такого вельможи не зазорно от людей и не ново, а полякам будет страшно. Что до казны, то если послать ее самому Любомирскому – большой прибыли великой России от этого не будет: злая ненависть не возросла бы. Свои ратные люди зашумят. В чужую землю казну посылают, а у себя и хлебом и деньгами скудно».
Гонец увез ответы и вскоре был опять во Пскове. С великой милостью: государь всея Руси пожаловал Афанасия Лаврентьевича чином окольничего. У Хованского желчь разлилась. Помирать собрался и помер бы, да Ордин-Нащокин прислал ему надежного доктора, немчуру проклятую. Вылечил!
А гонцы не унимаются, скачут туда-сюда. Новоиспеченного окольничего царь и Боярская дума назначили великим, полномочным послом на переговоры в Смоленск с великим послом короны польской. Ордину-Нащокину надлежало сдать воеводские дела Хованскому, ехать в Москву спешно, готовить наказ своему же посольству.
Обиднее всего для Хованского было новое, преудивительное назначение выскочки, псковского поместного дворянчика: не в товарищах ехал у родовитых Одоевского, Долгорукого, сам поименован великим послом. А в товарищи ему дан, кого он, Афонька мерзкий, пожелал, – родственничек его Богдашка Нащокин.
Теснят выскочки древние роды, сам царь тому потатчик. К добру ли? Потакал Иван Грозный мелкой сошке, и вместо природных царей являлись сначала Бориски Годуновы, а потом и Гришки Расстриги.
В последний день перед отъездом из Пскова пошел Афанасий Лаврентьевич на берег Великой.
Двадцать три года тому назад отправлялся он отсюда на первую свою большую службу, на тайную службу при дворе молдавского господаря Василия Лупу. Донесения посылал через монахов Густынского монастыря самому Федору Ивановичу Шереметеву. В царствие Михаила Федоровича Федор Иванович Россией правил.
Все минуло. Нет уже молдавского господаря Василия Лупу. Хитрейший был государь, но как миленький выслушивал от молодого псковича укоризны.
– Великий посол! – вслух сказал Афанасий Лаврентьевич.
Думал ли о такой доле батюшка, уча сына латыни? Окольничий, наместник шацкий… Воин пошел бы выше. Боярства мог удостоиться. Господи, ведь умен! На пять лет вперед видит, чему быть. И всех его чинов – беглец.
Река Великая катила холодные осенние воды под холодные небеса. За поворотом к Снетогорскому монастырю разливалась широко, серебряно. Там, за белым горизонтом, великая бескрайняя земля белого царя. И не кого-нибудь, Ордина-Нащокина позвал белый царь к великому делу.
Трепетала душа, как у молодого, дрожала потаенно, как в былые дни перед Василием Лупу, когда тот вставал и молился на Спасов образ за государя Михаила Федоровича, за царевича Алексея Михайловича, чтоб показать ему, Афанасию, сколь он, господарь, предан Москве. Угождал турецкому султану, крымскому хану, сердцем лепился к короне польской – и грозил пойти под руку русского царя, потому и допускал русского дворянина столь близко до себя. Жребий таков у царств, лежащих под ногами великих государей.
– Великий посол!
Если Бог даст, можно совершить дело, славное в веках, соединить вечным союзом великую Россию со свободной, с прекрасной Речью Посполитой. Вот когда славяне стали бы перед Богом первыми, первее возлюбленных жидов.
…Когда Ордин-Нащокин приехал в начале ноября в Москву, наказ великому посольству был уже готов. Составил наказ Никита Иванович Одоевский. Иные статьи показались мелочными, иные – гордыней и упрямством, а одна, чуть ли не самая главная, была всему посольскому делу проруха. Боярин князь Одоевский требовал установить границу между Россией и короной польской по Бугу.
Забыл, что Правобережная Малороссия начиналась уже на другом берегу Днепра. Казачьи полки этой земли не были под булавой гетмана Брюховецкого. Правда, гетман Правобережья Павел Тетеря, измученный бесчисленными изменами полковников, не имея помощи от короля, который сам бегал от маршалка Любомирского, изнемог, потерял веру в казачество, а потому положил бунчук, булаву и уехал в Польшу пожить мирным человеком, без славы, но зато не казня себя за поражения, за голод, за погибель Украины. Булаву поднял полковник Степа Опара. Памятуя об уроках Хмельницкого, Опара тотчас призвал татар, но татар переманил на свою сторону изворотливый Петро Дорошенко. Степу схватили, заковали в железа, отправили в Польшу. Дорошенко же провозгласил себя гетманом «тогобачной» Украины. «Граница» Одоевского обещала Московскому царству не долгожданный мир, а бесконечную войну.
У Афанасия Лаврентьевича опустились руки, посостязался в бесполезном споре с дьяками Посольского приказа, ударил челом царю: допусти, великий государь, до твоего царского величества говорить о посольских делах истинную правду.
8
Не лучший час избрал великий посол для высокой беседы. Алексея Михайловича изумили. Изумили до такой небывалости, что, гневаясь, не рукоприкладствовал, не ругал ругательски всякого, кто попадался на глаза, а… хохотал. Захохочет, хохоча, побледнеет, и щеки станут серыми, как пепел. Сидит молчит – и опять в хохот.
Из тюрьмы под Красным крыльцом бежали трое колодников. Могли бы все десятеро, да совестливые посовестились. Утекли же старец Селиверст, еретик, сподвижник неистового Капитона, а с ним двое безымянных братьев – языки резаные. Братья – на вид люди степенные – зело созорничали, поколотили в церкви Дмитрия Солунского у Тверских ворот попа с дьяконом. По новым книгам служили.
Изумился Алексей Михайлович.
У царя из-под носа злодеи белым днем на волю бегут. Не потеха ли? Спиридон Потемкин, в иноках Симеон, совсем уж умирал, а прослышал о староверах, из царской тюрьмы бежавших, – смеялся. Три дня еще пожил, приговаривая: «Дуется наш пузырь, дуется, а все у него некрепко, как пузо!» Кто пузырь – не говорил. Да у кого пузо-то, будто квашня, дуется?
Белел Алексей Михайлович от гнева, только с мертвого взятки гладки – ни языка обрезать, ни руки оттяпать…
Начальники стражи в ногах валяются: не казни, грозный царь, решетку воры изнутри подпилили, в хлебе, в пирогах передали колодникам напильник. Пришлось указ написать: «Хлеб для колодников, сидящих под Красным крыльцом и под Грановитой палатой, принимая от подающих, смотреть, нет ли в нем чего. Да чтоб податели милостыни с колодниками никаких разговоров не говорили».
«Друзья» Ордина-Нащокина, мстя ему за чин окольничего, не предупредили, сколь гневен государь. Ждали, какое поношение претерпит выскочка, но Алексей Михайлович, увидав перед собой умные глаза, строгое лицо, хоть и прищурился зло, хоть и сказал срыву, да не казня, а жалуясь:
– Вот кто у меня вечно недовольный. Режь правду-матку! В моем царстве всё наперекосяк, всё дуром сляпано. Куда ни поворотись, таратуй на таратуе.
Афанасий Лаврентьевич и рад был бы убраться с глаз долой, но царь указал ему на стул:
– Садись!
Воцарилось молчание. Алексей Михайлович пыхнул:
– Пришел, так говори!
– Великий государь! – поднялся Афанасий Лаврентьевич. – Смилуйся, не хочу тебе досаждать, но и царству твоему досадить не смею. По наказу, который составил князь Одоевский, съезжаться с поляками – только усугублять распрю, растравлять старые раны.
– Вы друг друга ненавидите, а в ответе – царь! Вам бы только неприязнь свою тешить!
– Много на мне грехов, государь, но этого – не принимаю. Зачем бы мне поносить Никиту Ивановича, зная, как ты его любишь?! Себе дороже огорчить царя, поперечить первому боярину. Грешен, но верю. Господь Бог укажет мне путь к миру.
– Ладно! Не серчай! – Алексей Михайлович ладонью вытер мокрые щеки. – Меня каждый день обижают. Терплю, терплю, да, бывает, кончится терпение… В чем ты не согласен с Никитой Ивановичем?
– Нельзя требовать от поляков установить границу по Бугу. Если посольские комиссары, изменив своему королю, согласятся на такое, так не согласны будут хан, Дорошенко и турецкий султан.
– Никита Иванович просил созвать Земский собор по польским делам.
– Собор согласится с Никитой Ивановичем, а ты, государь, готовь войско и казну. Быть войне до полного разорения что Польши, что Московского царства.
Алексей Михайлович долго смотрел в лицо великому послу.
– Царству нужен покой.
– За покой тоже надо платить.
– А казакам покой разве не надобен?
– Покой народу нужен, хлебопашцам. Казаки – не народ. Иные хуже татар. Для иных мирная жизнь – страшнее смерти. Их хлеб – грабеж, их питье – война.
– Мне многие говорят: ты, Афанасий Лаврентьевич, не любишь Малороссии, казаков – ненавидишь.
– Я люблю все, что полезно и выгодно моему государю. Честность в службе для меня превыше самой жизни. А можно ли верить запорожским казакам? Хмельницкий убежал от своего войска из-под Берестечка. Знал: казаки, спасая себя, не задумываясь выдадут его полякам. Как выдали Наливайко и многих, многих. Хмельницкий семь лет молил тебя, великого государя, принять погибающую Украину под великую твою руку и сам же затевал измену, сносясь тайно со шведами. Выговский продавал Москве секреты Хмельницкого, но пришел час, и перекинулся на сторону поляков, а от поляков снова к Москве. Юрий Хмельницкий, испугавшись суровой схватки, предал несчастного Шереметева. Тетеря просил у тебя города и перебежал на сторону короля, как будто не поляки разорили до обнищания его родину. Прости меня, великий государь, я не верю Брюховецкому, не верю, что Дорошенко честно будет служить королю. Казаки – перекати-поле. Горазды слабого разорвать на части. Уважать мне их не за что. По мне, дешевле иметь их в неприятелях, нежели в друзьях. Не дрогнут ударить ножом в спину. Предают же не когда ты силен, а когда тебе нужна помощь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































