Текст книги "Страстотерпцы"
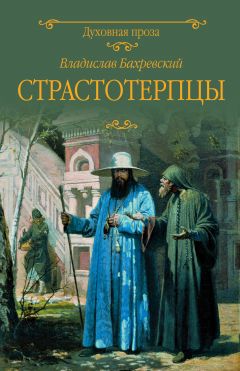
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
У Алексея Михайловича глаза заблестели, в лице мелькнула хитринка.
– Афанасий Лаврентьевич, хочешь яблочка отведать?
– С благодарностью, государь! – Удивления скрыть не сумел-таки.
Алексей Михайлович обрадовался, хлопнул в ладоши.
– Яблок! Моих! – приказал вошедшему стольнику.
Стольник принес татарское блюдо, на блюде горкой – яблоки. Разной величины, разного цвета.
– Отведывай от каждого понемногу, – попросил царь, подавая гостю нож.
Афанасий Лаврентьевич отведывал. Все яблоки были разного вкуса.
– Есть похожие? – спросил Алексей Михайлович.
– Нет, государь. Я не считал, сортов тридцать, должно быть…
– Тридцать три!.. – Алексей Михайлович поднял палец кверху. – Но здесь одна тайна. Угадай.
– Ума, государь, не приложу! – Афанасий Лаврентьевич принялся разглядывать яблоки. – Из твоего, государева, сада, ты сам сказал: «Моих!»
– Ты думай, думай!
Гость покраснел.
– Видно, сорта… заморские?
– Есть заморские… Ты еще думай.
– Не знаю.
– Ну! Со скольких яблонь яблоки?
– С тридцати трех.
Алексей Михайлович, смеясь, расцвел, по-иному смеялся, наливаясь румянцем.
– С одного! С одного древа, друг Афанасий! Уж такой мастер у меня. Скоро еще один приезжает… Ищи мне мастеров, Афанасий Лаврентьевич, на всякое дело ищи мастеров!
Развеселился, пробовал яблоки, жмурил глаза от удовольствия, о наказе же не помянул.
9
Побег колодников из-под Красного крыльца перепугал Алексея Михайловича. Кремлевская стража ненадежна, тайные враги дерзнули всей Москве напоказ помогать явным врагам. Сам сел просматривать дела неистовых в упрямстве староверов. Поразил извет вязниковского попа Василия Федорова, убитого неведомо где, неведомо кем, но за службу государю!
– Почему не посланы стрельцы в Вязники?! – закричал Алексей Михайлович на Дементия Башмакова. – Всех еретиков сыскать, воровские скиты разорить. Да глядите мне! Вы прыткие ноздри рвать, руки сечь! Заблудших православных людей, не делая им дурна, всячески увещевайте, уж коли будут прекословить, хулы пускать, тогда, смотря по неистовству, кого в Сибирь, кого в тюрьму, кого и сжечь…
Государев гнев подхлестнул медлительную колесницу следствия. Сыск по делу старца Капитона царь возложил на судью Разбойного приказа боярина Ивана Семеновича Прозоровского, дьяка приказа Тайных дел Федора Михайлова, полковника, стрелецкого голову Артамона Матвеева. В Вязники поехали двенадцать стрельцов его приказа, потом еще двадцать…
Лист за листом прочитал Алексей Михайлович доносы на старца Григория Неронова.
Неронов подбивал умудренных грамоте монахов, белое духовенство готовиться к собору вселенских патриархов, писать о погублении Никоном истинного православия, да не истощится Крест Христов.
О Неронове Алексей Михайлович советовался со Ртищевым.
– Много от него досады в Москве, – согласился Федор Михайлович. – Сам себе избрал для молитв Игнатьев монастырь на Лому. Там бы ему и жить!
– Отвезти старца Григория в пристойной для его седин карете в Вологду, до самого Спасского Игнатьева монастыря, – распорядился Алексей Михайлович. – Пусть знают: государь своих обидчиков не казнит – жалует. Федор Михайлович, ну скажи, разве я не терпелив?
– Таких терпеливых, как ты, великий государь, Господь раз в сто лет посылает.
– Батюшка Михаил Федорович был терпеливей меня. Кроткая, ласковая душа. Я ведь на руку, сам знаешь, скор! Иной раз в храме Божьем бездельника попа тресну.
– Так поделом!
– Поделом-то поделом… Пускай Неронов едет в пустынь свою, от греха. Все бы им царю перечить! – Алексей Михайлович сделался красным, как вареный рак, – обиделся. С обидою брал в руки очередное дело – дьякона Федора[67].
В Благовещенском соборе служил, в Успенском, человек зело книжный, греческий язык выучил. Если бы для пользы церковной! Ради распри – ловить греков на слове. На весь белый свет срамил новые книги, посылая письма в Вятку, в Сибирь, в Переславль-Залесский… Навострился в Мезень грамотки закидывать, протопопу Аввакуму.
– Какого он роду-племени? Откуда взялся? – спросил царь Дементия Башмакова, хотя сам принял Федора в Благовещенскую церковь за громадный голос, за ученость. Было это на другой год после ухода Никона с патриаршего места. Привел дьякона отец Михаил, поп домашней дворцовой церкви. Близкие люди восстают. Хорошо кормленные, знающие царскую ласку.
Дементий Башмаков принес государю запись о Федоре. Отец и дед – попы, служили в селе Колычеве, в Дмитровском уезде. В моровое поветрие, когда народ вымер, Федора обманно записали крестьянином. Управляющий Якова Одоевского расстарался. Заступников поп Михаил нашел, Федор его матушке племянник. В московских церквах потом служил… Дивное дело! Ростом Федор не больно велик, живота тоже не много, а запоет – воздух дрожит.
– Смотрите за дьяконом в оба глаза! – приказал Башмакову Алексей Михайлович. – До приезда патриархов искоренить бы упрямство…
Не успел государь от побега колодников в себя прийти – новые тревоги.
Вернулся из Константинополя Стефан Грек, привез три патриаршие грамоты: от Константинопольского Дионисия, от Иерусалимского Досифея, от Александрийского Паисия, и все три о назначении Газского митрополита Паисия Лигарида экзархом для суда над святейшим Никоном.
Стефан Грек прибыл в Москву на Иоанна Милостивого[68], 12 ноября, а уже через день Алексей Михайлович позвал к себе наверх архиереев, своих и иноземных. Стефан представил для освидетельствования патриаршие грамоты. Государь был печален: Паисий Лигарид, получив власть, Никона осудит, низвергнет из патриаршего достоинства, но его суд, пусть экзарший, – суд низшего над высшим. Никон такого суда не признает, смуты не убудет.
Все ждали, что скажет Иконийский митрополит Афанасий. Тот осмотрел грамоту за грамотой, подошел к иконам, поцеловал образ Спаса и объявил:
– Все три поддельные!
Лигарид в ярости ударил посохом, как палкой, об пол, закричал на Афанасия по-гречески:
– Скотина! Уймись, скотина! Обещаю тебе, будешь бит, как худший из ослов!
Греки подняли крик, не сразу вспомнили, где они и перед кем. Умолкли наконец, усовестились.
– Пока отложим наше дело, – мрачно сказал Алексей Михайлович. – До поры. Великий суд великим шумом негоже вершить.
Иконийского митрополита, однако, отправили в Симонов монастырь, на успокоение: обвинять во лжи доверенных людей царя – то же, что усомниться в честности самого царя…
Только трое знали, до какой поры отложил дело Алексей Михайлович: сам он, его духовник да дьяк приказа Тайных дел Дементий Башмаков.
Государь ждал возвращения с Востока Саввы – келаря Чудова монастыря, посланного проследить за Стефаном и Мелетием.
Церковные дрязги довели Алексея Михайловича до немочи. Слег. Но царское тайное дело делалось, далеко достигала рука самодержца.
Еще по старому доносу на попа Лазаря, на попа Дементьяна, на поддьяка Федора Трофимова, живших в ссылке, указал великий государь из Сибири их взять, отвезти в Пустозерский острог: «за неистовое прекословье».
В Вятку за игуменом Феоктистом отправилась сыскная команда. Феоктист был игуменом Никольского монастыря в Переславле-Залесском, новые служебники не принял. Изболевшись душой, покинул самовольно братию, уехал к епископу Александру, жил в Трифоно-Успенском монастыре, в одной келье с родным братом, иноком Авраамием. В Вятке Феоктиста не нашли, не нашли и в Игнатьевской пустыни у Неронова. Царские ловцы до ловли охочие, настигли Феоктиста в Великом Устюге, в Архангельском монастыре, у другого брата. В загонщиках и ловцах были архимандрит московского Новоспасского монастыря Иосиф, келарь Симонова монастыря Иосиф Чирков, стрелецкий полуголова Карандеев. У Феоктиста нашли сочинение Аввакума о поклонах, четыре собственные челобитные к царю и среди них «Роспись, хто в которые во владыки годятца». И еще письмецо дьякона Благовещенской царевой церкви Федора. Сообщал: грамота с прошением вернуть протопопа из Мезени «не пошла». «Подавал я духовнику Лукьяну Кирилловичу челобитную об Аввакуме, о свободе, и он в глаза бросил с яростью великою. Да послал я к тебе от Аввакума грамотку, его руку».
За сие совсем не крамольное послание Федора взяли под белые руки, отвели во двор Павла Крутицкого. Книги для досмотра отдали самому владыке Павлу, а письма и сочинения пошли в приказ Тайных дел.
В Суздале был схвачен и доставлен в Москву поп Никита Добрынин. Привезли вместе с челобитной. Писал свою челобитную Никита десять лет, правду хотел сказать о церковных новшествах Никона. Писал, писал и не дописал…
В Вязники искать Капитона, вести сыск об убийстве попа Василия Федорова на подмогу трем десяткам стрельцов из приказа Артамона Матвеева отправился полковник и голова московских стрельцов Аврам Лопухин с двумя сотнями.
В Керженские леса, за Волгу, разорить скиты старца Ефрема Потемкина поспешила еще одна стрелецкая команда.
На Соловки царское повеление подчиниться церковным новинам повез архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Сергий «с товарищи».
Послал и в Мезень гонца: Аввакума доставить в Москву для последнего, ради вселенских патриархов, увещевания.
Спешил государь прибраться в Доме Господа, ожидал-таки великих гостей.
Тут как раз воротился из тайного путешествия келарь Савва. Убил Савва Алексея Михайловича! Убил, убил! Стефан Грек, правая рука Паисия Лигарида, – блудня. Все его грамоты о назначении митрополита Газского патриаршим экзархом в суде над Никоном – поддельные.
На вопрос Саввы: «Был ли у тебя Стефан Грек, посылал ли ты с ним грамоту?» – святейший Дионисий ответил: «Стефан Грек у меня не был. Докучал мне хартофилаксий, хотел, чтоб я написал грамоту: быть-де Газскому митрополиту экзархом, но я этого не благословил. Если такая грамота объявилась у царя, пусть знает: сие – плевелы, посеянные хартофилаксием, Паисий Лигарид – лоза не Константинопольского престола. Я его православным не называю, ибо от многих слышу, что он папежник, лукавый человек. Стефана Грека пусть государь не отпускает, он сделал великое разорение Православной Церкви, как и Афанасий Иконийский».
Алексей Михайлович, слушавший Савву с упавшим сердцем, аж подпрыгнул на стуле.
– Как?! Афанасий? Правдолюбец? Такой же… вор?
– На нем случился большой долг туркам. Упросил дать недельный срок для уплаты, а сам бежал. Святейший Дионисий так сказал: «Я Афанасию ни одного слова наказа не давал. Пусть его держат крепко. Если царь его отпустит, то большую беду Церкви сделает».
– Почему Дионисий так немилостив к своему племяннику? – удивился Алексей Михайлович.
– О родстве я тоже спрашивал, – сказал Савва. – Святейший об Афанасии сказал: он мне не родня. По крови, верно, не родня, но брат Афанасия женат на тетке Дионисия.
Одно порадовало царя: грамоты, привезенные иеродиаконом Мелетием, – подлинные. Афанасий своровал, уличая в подлоге честного человека, но – горе! – не ошибся в подлоге Стефана. Лигарид же изобличен во лжи и в папежестве самим Константинопольским патриархом.
Ждали ареста Газского митрополита. Не дождались. Не всякая правда надобна царям, не всякий вор царям неугоден.
10
Иван Мартынович Брюховецкий пробудился поздно. Первое, что почувствовал, – простыни рекой пахнут. Лежал, улыбался, вспоминая, как тихонько, благодарно, счастливо шептала ночью жена имя его. Чуть скосил глаза на соседнюю подушку – пусто. Жена – птаха ранняя. Русские спозаранок славят Бога. Впрок! Дневные грехи на вечерне отмаливают.
Иван Мартынович потянулся, наслаждаясь здоровьем, постелью, видом опочивальни. Одеяло – на лебяжьем пуху, соболями подбито. Шатер – голубого шелку, стены – голубой бархат, на полу вместо ковра сшитые беличьи шкурки. Босым ногам – ласковое балованье.
На большом серябряном гвозде с массивной шляпкой в виде львиной головы – сабля: подарок тестя Дмитрия Алексеевича. Ножны в сапфирах, рукоятка из кости допотопного зверя мамонта, по эфесу алмазы.
При виде сабли мысли кинулись к войсковым делам, но Иван Мартынович сердито остановил себя. Встал, оделся. Подошел к иконам, перекрестил лоб, хотел уж было уйти, но с порога вернулся, отбил три поясных поклона перед Страстной иконой Божией Матери с огненными ангелами по углам.
В горнице навстречу ему поднялась милая его супруга.
– Пробудился?
– Вон солнце какое ярое! Царство Небесное проспал.
– Нет, не проспал! – Глаза влюбленные, сама как цветочек средь зеленого луга: для всего мира радость. – Песцов привезли, не хочешь ли поглядеть?
– Шкурки?
– Живых! Уж такие пригожие! Веселые!
Божий мир сиял. Три пары песцов, пушистых, как зима, играли в просторном загоне. Все было в инее. Деревья, бороды дворовых людей. Причудливые маковки терема, остро поднятые крыши хозяйственных сараев, коньки, деревянное узорчатое кружево на окнах, крылечках, на барабанах церковки.
– А ведь и впрямь белее снега! – изумился Иван Мартынович красоте северных лисиц. – Зачем их привезли?
– В подарок, на наше счастье. От Ильи Даниловича.
– От Милославского? От тестя государева?
– Чай, Илья Данилович – родня. Матушка моя – Милославская. Илья Данилович в гости нас нынче звал.
– Никто мне о том не говорил, – нахмурился Иван Мартынович.
– Ихний дворецкий в передней тебя дожидается. Ты ведь опочивал.
На завтрак, по случаю Рождественского поста, подали коричневое пиво, соленые грузди, пироги с рыжиками, с калиной, с визигой, пшенную кашу с белужьей икрой, мед, моченую бруснику.
Еда для казака непривычная.
Иван Мартынович, соблазнясь груздями, выпил чарку водки. Грузди на зубах хрустят, водочка по жилам кровь гонит. Хорошо! И тихо ужаснулся: «Через неделю выпрут из Москвы. Четвертый месяц в гостях… – Спросил себя: – Что ты не видывал в Переяславле да в Гадяче? Здесь жизнь, там – погибель. Не поеду!»
Будто черта за хвост дернул. Принесли письмо. И от кого же? От друга Мефодия. Епископ Мстиславский и Оршанский писал из своего Нежина: «Теперь на Украине без вашей милости ничего доброго нет, всяк в свой нос дует. Если б боярин Петр Васильевич Шереметев поспешил в Киев, то все б посмирнее было». Сообщал, паникуя: брацлавский воевода Дрозд, лихо бивший полковника Дорошенко в сентябре, изнемог и сдал Брацлав. Овруцкий полковник Децик, разбивший Дорошенко под Мотовиловкой, ушел в Киев. Вокруг Киева бродят польские залоги. Нападают на отряды киевского воеводы князя Никиты Львова. Князь – человек старый, ни к чему не пригодный, военного дела не знает. Если не поспешит ему на смену Петр Шереметев, если гетман промедлит с возвращением – надо ждать скорой беды не только с Киевом, но и со всем Заднепровьем. Того и гляди отойдет к недругам Канев.
Швырнул письмо Иван Мартынович на пол, ногой повозил, давя, как гадину.
– Шалят детки без отца.
Поднялась со дна души злоба на генерального писаря Захара Шикеева. В гостях не умел жить мирно. Кинулся с ножом на пиру у князя Юрия Алексеевича Долгорукого на протопопа Григория Бутовича. Нож отняли – вилку схватил, хотел ткнуть другого писаря, Петра Забелу. Повезли дурака из Москвы прочь, в Сибирь, охладиться…
Забыл Иван Мартынович, что за столом с милой женой сидит. От черных мыслей лицо почернело. Думал, как разделаться с Мефодием. «В письмах ластится, но первый ненавистник. Пролез в епископы, в митрополиты лезет. Погоди, дружок, ты у меня разлюбишь Москву. Пришлют в Киев московского владыку, обгоняя Дорошенко, к полякам кинешься… Дорошенко… Да что Дорошенко – все полковники ненадежны. Мещане готовы казаков перевешать… Владетельные паны – мещан. Разлад, разоренье…»
Обрадовался, когда пришло время ехать к Илье Даниловичу.
Старейший из Милославских, отец великой государыни, к удивлению Брюховецкого, лицом и повадкою был молодец молодцом. Скоро семьдесят, а седых волос в голове не видно. Все серебро в бороде да на бровях.
Илья Данилович в былое время управлял Малороссийским приказом, казаков привечал.
Угощение и здесь было постное. Лакомились нежной семгой, сельдью из Плещеева озера в Переславле-Залесском. Подали саженного осетра.
На пирующих с женской половины, из потайного чулана, в щелочку смотрели дочери Ильи Даниловича: царица Мария и вдова боярина Морозова Анна.
– Чего государь не отдал меня за гетмана? – разобиделась младшая на старшую.
– Иван Мартынович был холост, просил дать в жены девицу.
– Вся жизнь моя за старым прошла.
– Борис Иванович любил тебя.
– По ночам! Днем за дуру почитал. Все бы ему с Федосьей Прокопьевной витийствовать. У Федосьи слова – как шелка. Книгочея.
– Читала бы и ты.
– Читала. Раскроешь толстенную, буквы в глаза так и прыснут, хуже тараканов! Соберешь слово, соберешь другое, третье, а какое было первое, уж забылось.
– Не наговаривай на себя, Анна! – обняла сестру Мария Ильинична.
– Умру скоро.
– Типун тебе на язык!
– Тебе чего, ты счастливая! Детей чуть не дюжина, а я и не знаю, как бабам бывает больно.
Мария Ильинична кинулась целовать сестрицу, проливая на прекрасное смуглое лицо ее неудержимые слезы.
– Прости меня, Аннушка! Прости за счастье мое, за судьбу дивную, несказанную. Наградит тебя Господь за печали твои.
– На небе, – сказала, как замок на дверь повесила. Замерла, пораженная вечной своей обидой.
За стеной пошло большое движение, голоса веселые, громкие, Мария Ильинична виновато улыбнулась сестрице:
– Алексей Алексеевич пожаловал. Он собирался к дедушке.
Анна Ильинична прильнула к потаенному глазку. Царевич стоял посреди комнаты, разглядывая гетманскую булаву.
– Как же это надо жить, чтоб столько казаков тебя полюбили? – спросил царевич гетмана. – Сколько их?
– Кого? – не понял Брюховецкий.
– Казаков, любящих тебя.
– Любящих?
– Но ведь булаву на казачьем кругу дают? Большинством?
Брюховецкий гладил себя по лысому черепу, поклонился:
– Благодарю, ваше высочество, за доброе слово. Увы! Булаву дают не ради любви, ради выгоды. Я хотел дружбы с великим государем великой России, вот меня и выкликнули. На левом берегу. Я, ваше высочество, половинный гетман. Другая половина Украины служит королю. Только надолго ли? Королева желает, чтоб корону ваше высочество наследовало. Тогда, должно быть, и соединится многострадальная Малая Россия.
Мария Ильинична дергала сестрицу, оттаскивая от глазка:
– Дай разочек взглянуть!
– Во дворце на сыночка не нагляделась?
– Редко теперь вижу. Милая, не упрямься!
Анна наконец уступила место.
Алексей Алексеевич на этот раз держал в руках простую казацкую саблю. Румяный, веселый, глаза сияют, чело белое, высокое.
– Да ведь она книзу тяжелей! – взмахнул саблей царевич.
– Рубить так рубить! – Гетман, перепугав Марию Ильиничну, показал, как казаки головы рубят.
Алексей Алексеевич тотчас повторил страшное движение.
– Надо и нам завести казачьи полки! – подбежал он к деду.
– Полки гетмана служат твоему батюшке, – возразил Илья Данилович.
– Нет! Пусть казаки в Москве стоят. Чтоб враги знали, трепетали.
– Мечта каждого государя – устрашать без войны. Сия мысль – мужа государственного, – польстил царевичу Брюховецкий. – У польского короля есть крылатая конница, гусары. Перед гусарами, когда земля гудит от тяжкого топота, когда визжит от ужаса ветер в крыльях, – всякое сердце трепещет, но гусар тоже бьют.
– Что ж! Неуязвимый Ахиллес имел-таки слабое место на пятке, – ответил Алексей Алексеевич. – Но ведь сколько им одержано побед! Дедушка, надоумь батюшку о казаках!
– Садись за стол, внук! – пригласил Илья Данилович. – Для тебя изготовлен пирог на медовой вишне, а другой – с твоей любимой черникой.
– Пирогов я отведаю, но что теперь в доме сидеть? Поедемте по Москве-реке кататься. Уж так санки летят, искры сыплются! Правда, правда! Я сам вчера видел вечером.
Уговорил. Гетман пожелал испытать московскую потеху. К его удивлению, Илья Данилович тоже согласился прокатиться по Москве-реке.
Сопровождающих набралось человек с тысячу, но скакали по заснеженному льду только три тройки. В санках сидели по двое: Илья Данилович со слугой, Алексей Алексеевич с дядькой, с Федором Михайловичем Ртищевым, Брюховецкий с супругой.
Первым укатил в малиновую закатную даль Илья Данилович, вторым – царевич.
Санки легче пера. Ивана Мартыновича разбирало сомнение – не перевернуться бы: зрителей множество. Возница повернулся к молодым, глаза озорные, предвкушающие радость. Натянул шапку на уши, поправил рукавицы, шевельнул вожжами, пробуя на вес… Лошади тронули, возница гикнул. И хлынул в лицо сверкающий малиновый поток морозного воздуха. Невидимые кристаллики льда тотчас превратились в метель. Иван Мартынович задохнулся, но супруга подняла песцовый полог, укрылась по глаза, укрыв заодно драгоценного супруга.
На том радости дня не кончились. Дома ждала баня. Московская лютая страсть. Избежать испытания никак невозможно: баня для гостя, для желанного зятюшки. Сумасшедший жар изготовлен великими мастерами. Такое благоухание, будто в нектар окунули. Плохо соображая, Иван Мартынович покорно отдал себя банщикам, и те отхлопали его вениками, превратив из белой рыбы в багряного рака. Нежили шелковыми щелоками, мыли, заворачивали в простыни, поили квасом, от которого внутри поселялось прохладное, бодрящее блаженство.
«А ведь они всю земную жизнь в раю живут», – подумал о боярах Иван Мартынович, стоя на вечерне, где дивный хор величаво славил Всевышнего.
Пели москали чересчур строго, но это был единый глас, единое дыхание. Сила в том пении чудилась необъятная. Вглубь – бездонно, вверх – безмерно.
Ясно и просто подумал о себе Иван Мартынович: погиб. Не быть ему здесь больше. Да разве простят казаки гетману б о я р с т в о?!
На отпуске получил все просимое. Государь пожаловал ему и всему роду Брюховецких на прокормление Шептоковскую сотню в пограничном с московскими землями Стародубском полку. На вечные времена. Жителям Гадяча царь, исполняя челобитие боярина-гетмана, даровал магдебургское право, каждого полковника свиты наградил селом, остальные получили грамоты на земельные наделы, а гетман выклянчил для себя сверх всего мельницу в Переяславле. Переяславль – столица Войска Запорожского, там двор гетмана; своя мельница – свои пироги.
11
Осталось Брюховецкому исполнить еще одно сомнительное, но важное дело. К. патриарху Никону в Воскресенский монастырь отправился, как обещано было, полковник Кирилл Давыдович.
Попал на похороны. В заточении умер иподьякон Никита. Всей вины его – носил патриарху письма боярина Зюзина. Боярин за писания, за умысел призвать святейшего в Москву поехал на службу в Казань, советчик его Ордин-Нащокин – во Псков, а письмоносец, ведать не ведавший, что в письмах, – в подземелье ухнул.
По завещанию бедного Никиту привезли хоронить в Воскресенский монастырь. Никон воздал усопшему архиерейские почести, сам положил во гроб, сам отпел, похоронить указал в храме Воскресения у лестницы, ведущей в придел Голгофы.
С полковником святейший говорил с глазу на глаз.
– Будь великодушен! – просил Никон. – Как воротишься на Украину, съезди в Киев, в Печерский монастырь. Пусть архимандрит Иннокентий вспомнит, как пекся я о его обители, да поможет моему посланцу. Тебя же прошу провезти с собой моего близкого родственника.
– Мы о том думали, – ответил полковник, – в свои сани возьму. На заставах объявлю племянником. Дескать, в плену был, взят подо Львовом воеводой Бутурлиным. Бутурлина давно в живых нет. Не проверят.
Позвали Федота Марисова. Ростом, глазами – копия дядюшки. Родом курмышский, первенец сестры Никона.
Прощаясь, святейший благословил полковника и все Войско Запорожское. Наказал:
– За четыре дня до отъезда приходи на Иверское подворье. Федот там тебя будет ждать. Возьмешь грамоты и деньги. Золото, когда достигнете пределов Войска Запорожского, отдай Федоту. Это ему на дорогу. Три грамоты ему, четвертую, для архимандрита Иннокентия, сам передашь.
Через четыре дня полковник Кирилл Давыдович получил на Иверском подворье пятьдесят рублей серебром для себя, пятьдесят золотом для Федота. Грамоты к патриарху Константинопольскому, Иерусалимскому, в Валахию, к греку Мануилу, в Киево-Печерский монастырь архимандриту Иннокентию.
Федот Марисов отправился из Москвы в санях полковника. Никто не приметил неправды, но шило из мешка высунулось. Узнали в приказе Тайных дел о Никоновом племяннике. Погоня началась бешеная. Подьячий Иван Дорофеев гетмана на дороге не успел перехватить, явился в Гадяч. Брюховецкий распорядился сыскать полковника Кирилла Давыдовича. Нашли его вместе с лжеплемянником в городе Седневе. Сковали – и в Москву.
Читал Алексей Михайлович послания Никона вселенским патриархам и чуял, как льется из-под мышек ледяной пот. Неправды или злословия в письмах не было, ужасала правда.
«По уходе нашем царское величество всяких чинов людям ходить к нам и слушаться нас не велел, указал – кто к нам будет без его указа, тех людей да истяжут крепко и сошлют в заключение в дальние места, и потому весь народ устрашился».
– Как царского указа не устрашиться? Устрашились, и слава Богу.
«Учрежден Монастырский приказ, поведено в нем давать суд на патриарха, митрополитов и на весь священный чин, сидят в том приказе мирские люди и судят».
– И сие правда.
«Написана книга “Уложение”[69] – святому Евангелию, правилам святых апостол, святых отец и законам греческих царей во всем противная… в ней-то, в тринадцатой главе, уложено о Монастырском приказе, других беззаконий, написанных в этой книге, не могу описать – так их много!»
– Врешь, «Уложение» – книга честная.
«Я исправил книги – и они называют это новыми уставами и Никоновыми догматами. Главный враг мой у царя – это Паисий Лигарид, царь его слушает и как пророка Божия почитает. Говорят, что он от Рима и верует по-римски, хиротонисан дьяконом и пресвитером от папы, и когда был в Польше у короля, то служил латинскую обедню. В Москве живущие у него духовные греческие и русские рассказывают, что он ни в чем не поступает по достоинству святительского сана, мясо ест и пьет бесчинно, ест и пьет, а потом обедню служит, мужеложествует…»
– Срам! Читать срам. Этакое по всему свету разносит!
«Теперь все делается царским хотением: когда кто-нибудь захочет ставиться во дьяконы, пресвитеры, игумены или архимандриты, то пишет челобитную царскому величеству и царским повелением на той челобитной подпишут: по указу государя царя поставить его, и в ставленной грамоте пишут: хиротонисан повелением государя царя».
– От сего тоже не открестишься.
«Царь забрал себе патриаршие имения, так же берут, по его приказанию, имения и других архиереев и монастырские, берут людей на службу, хлеб, деньги берут немилостивно, весь род христианский отягчал данями».
– Отягчал. Заморила война народ.
«Много раз писали мы царскому величеству, представляя ему примеры царей благочестивых, благословенных Богом за добрые дела, и нечестивых, принявших от Бога мучения, но он ни во что вменил наши увещания, только гневался на нас и присылал сказать нам: “Если не перестанешь писать, унижая и позоря нас примерами прежних царей, то более не будем терпеть тебя”».
– Все, сатана, вывертывает на погляд!
«Боярин Семен Лукьянович Стрешнев научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению Божию, и назвал собаку Никоном-патриархом. Мы, услыхав о таком бесчинии, прокляли его, а царское величество… держит Стрешнева у себя по-прежнему в чести».
– И тебе была честь! Уж ты покрасовался, подурил, забавляясь царским доверием и любовью.
«Мы предали анафеме и Крутицкого митрополита Питирима, потому что перестал поминать на литургии наше имя, и которые священники продолжали поминать, тех наказывал. Он же хиротонисал епископа Мефодия в Оршу и Мстиславль, и послали его в Киев местоблюстителем, тогда как Киевская митрополия под благословением вселенского патриарха. Когда мы были в Москве, то царское величество много раз говорил нам, чтоб хиротонисать в Киев митрополита, но мы без вашего благословения и без вашего совета не захотели этого сделать и никогда бы не сделали».
– Изменник и предатель! Держать бы тебя за крепкой стражей в яме. Да уж потерпим малое время, ибо долго терпели.
Когда Никон узнал: Федот Марисов в тюрьме, грамоты у царя, – сел на лавку и просидел, глядя перед собой, с утрени до вечерни. В голове – пустозвон. Вязниковского попа вспоминал. Надеть бы на себя пудовые плиты, подобно старцу Капитону, затеряться в лесах дремучих: ни царя не знать, ни его поганого царства.
12
Бедный Никон! Забыл: от русского царя на Русской земле не спрячешься. Только не всякому земная власть страшнее вечной.
Бежали от царя богобоязненные.
Старец Селиверст привел братьев-немтырей в тайную обитель. На озере Кшара, за Клязьмой, за лесами за болотами, хлипкий жердяной тын ограждал от зверья избу и две избушки. Изба приземистая, широкая, со многими пристройками. Перед избой три огромных восьмиконечных креста из живых сосен с обрубленными вершинами. Никто не показался, не встретил беглецов. Когда проходили впотьмах через просторные теплые сени, братьям почудилось – стены стонут.
Селиверст прочитал перед дверью молитву, и они вошли в светлое, с выскребанным полом жилье, сильно утесненное печью. Духоты не чувствовалось, хорошо пахло смолой и хлебом.
В переднем углу за длинным столом сидел чернец, обвитый поверх рясы цепью. Цепь замкнута на великие замки: два на груди, два на боках, два на бедрах.
Чернец всплеснул вдруг руками, выбежал из-за стола и упал Селиверсту в ноги. Плача, облобызал и старца и братьев, усадил всех троих на лавку, разул, обмыл ноги теплой водой.
– Сей труженик Господний – старец Вавила, – сказал Селиверст. – Пять пудов на себе носит. Каждый год, смотря по грехам, творимым царем, удлиняет цепь.
Вавила улыбался братьям, но молчал.
– Нынче пятница! – вспомнил Селиверст. – Он в постные дни безмолвствует.
Пришли три женщины. Собрали на стол еду: чугун с постными щами, чугун с пшенной кашей, каравай хлеба, три луковицы, горшок соленых чернушек.
Пока беглецы молились, обедали, в избе стало тесно. Пришло восемь иноков, двадцать инокинь, четверо девок-белиц, парнишка лет пятнадцати. Все хотели послушать старца Селиверста.
– Бог послал мне в темницу в помочь сих двух братьев. – Селиверст поклонился молчунам, и все поклонились им. – Подали нам в хлебе сострадатели наши пилу, железо пилить. Братья сильными руками освободили меня и себя от колод на ногах, подпилили решетку, и ушли мы из-под Красного крыльца. Кто нас прятал, вывозил из Москвы – разговор долгий… Одно скажу: поп Введенского девичьего монастыря Василий Федоров подал митрополиту Павлу извет о наших скитах. Злое дело породило зло: попа убили. Теперь надо ждать большого гонения. Царь осатанел. По дороге к вам, братья и сестры, встретили мы доброго человека, бегущего от расправы. Посылал царь стрельцов жечь скиты на Керженце. Старца Ефрема Потемкина, оплакавшего рожденных и во чреве носимых, ибо явился на земле антихрист, – в цепях в Москву повезли… В Москве ждут приезда вселенских патриархов судить Никона.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































