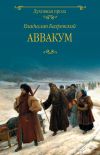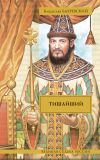Читать книгу "Никон (сборник)"
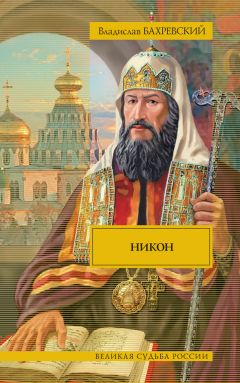
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 5
1
«На Глеба и Бориса за хлеб не берися», – говорят мудрые люди.
Полковник Лазорев Андрей Герасимович в крестьянском деле ни командовать, ни самовольничать не любил. Не велено хлеб убирать, ну и ладно. Лучше день потерять, чем урожай.
Борис и Глеб в народе зовется Паликопны, а народ пустословить не станет. Значит, горели копны в этот день от грозы, еще как, наверное, горели.
На уборку своих хлебов полковник простодушно пригонял драгун. Правду сказать, кормил он их в эти дни не за царевы, а за свои. Быка резал, несколько овечек, а с окончанием работ еще и поил. Выставлял несколько бочонков, чтоб каждый черпал из них своею меркой.
Драгунам, среди которых многие были крестьяне, на полковника работать нравилось. Не вино разливанное прельщало, а то, что полковник Андрей сам брал косу и косил со всеми наравне, да и лучше всех еще. Дворянину кругом воля: в работе и в безделье.
Лазорев драгун на поле пригонял не ради того, чтоб свою полковничью спесь потешить. Землю он от царя получил. Хорошую землицу, просторную, а вот крестьян на ней было мало.
Чтоб день совсем уж не пропал, Андрей с драгунами косил траву на лесных полянах и вокруг озера. Дни наступили жаркие, потому рано начали и рано кончили.
Разморенные жарой работники собирались под древними дубами. Здесь была тень и приготовленный крестьянками обед.
Андрей, отирая подолом рубахи пот с лица, увидал на лугу дрожки своей жены Любаши. Гнедая кобылка, прозванная за легкость бега Птичкой, несла дрожки с такой веселой охотой, что всему белому свету было видно – ездок у лошадки милый, славный человек.
Андрей, забыв, что держит в руках намокший от пота подол рубахи, загляделся на жену, а драгуны, понятливо улыбаясь, – на своего полковника. И было им хорошо от чужого, но такого близкого счастья.
Дрожки с Любашей подкатили совсем уже близко, когда показался на лугу верховой. Андрей, заправляя рубаху в штаны, шел навстречу жене, а сам, чуть щурясь, взглядывал в сторону всадника. Это был кто-то чужой. Сидел на лошади скверно, погонял ее нервно.
– Приморился? – спросила Любаша, одновременно останавливая лошадь, оглядывая мужа, снимая с бочонка крышку и подавая ковш. – Здесь квас, а в другом бочонке – медок.
Андрей зачерпнул квасу, припал, выпил единым духом.
– Ты всегда вовремя! Так пить хотелось.
И с открытой тревогой посмотрел мимо жены на всадника, и Любаша тоже обернулась.
– От князя Мещерского! – крикнул человек, осаживая лошадь. – У нас бунт! Скорее на помощь!
Человек был потен, бледен, одет наспех.
Андрей черпнул еще квасу, подал всаднику.
– Расскажи толком.
– Князь взял в услужение девку-крестьянку, а крестьяне хоромы окружили.
– Ну и что дальше?
– Ничего! Грозятся.
– Девку вернул?
– Девку теперь не воротишь. Бабой стала.
Андрей вырвал у гонца ковшик.
– Напакостят и сами же кричат, что их ограбили.
– Драгун бы! – сказал гонец. – Да поскорее! Прибить ведь могут. Пожечь.
Драгуны, расположившиеся на отдых, слушали, поглядывая на полковника. Андрей поморщился.
– Василий Большой! Покудин! Собирайтесь!
Посмотрел на Любашу, лицо у жены стало озабоченным.
– Вернем бабу – успокоятся! – сказал Андрей и, повернувшись к драгунам, опять приказал: – Матвей суздальский, ты тоже собирайся.
Принялся надевать кафтан, принесенный драгунами. Любаша и повздыхать не успела, а муж был в седле, при оружии, и рядом три богатыря-драгуна седлали своих коней.
– Ты, Любаша, баню вели истопить! – сказал Андрей. – Приеду вечером. Хлебов-то осталось на полдня. Завтра, Бог даст, закончим.
И поскакал вслед за гонцом унимать крестьян князя Мещерского.
2
Толпа крестьян заняла двор княжеской усадьбы. Мальчишки сидели на столбах забора и, видимо, караулили князя – не побежит ли через окно, не скакнет ли с чердака.
Рыжий, краснорожий мужик привез очередной воз соломы и не торопясь скидывал ее возле парадного крыльца.
– Не отдашь Дарью, сожгу тебя, князь! – крикнул мужик, стукнув вилами в окно. – И тебя, и всех твоих псов-прихлебателей.
– А Дарья-то?! – крикнули из дома.
– Выпрыгнет!
– А мы ее свяжем!
– Тогда все вместе сгорим. Как дом со всех сторон займется, так и я к вам приду. – Рыжий мужик оглянулся на своих. – Глядите за ними, еще воз привезу.
Положил вилы в телегу, взялся за вожжи и, разворачивая подводу, увидел въезжающих во двор Лазорева с драгунами.
– А ну-ка, все по домам! – гаркнул полковник, направляя коня через толпу под окна княжеского дома. Кнутовищем постучал по раме. – Князь Мещерский! Именем государя без мешканья верни девку жениху! Не то велю стрелять!
И во дворе стало тихо, и в доме примолкли.
– Ну! – крикнул, сердясь, полковник.
Боковое окошко с треском распахнулось, и, взвизгнув, вывалилась из него сдобная белая девица.
– Получили – рас-хо-ди-ись! – весело и грозно пропел Лазорев, наезжая конем на толпу. – Зачинщика мне!
Толпа отшатнулась к воротам.
– Чтоб всех вас не пороть – зачинщика! – улыбался с коня Лазорев.
Ему стало и впрямь весело – вот и бунту конец.
– Не трусь! – прикрикнул на толпу. – Князь-то ваш в Сибирь небось вас разбежится загнать, а я и заступлюсь. Одного выдайте. Умели бунтовать – умейте повиниться. Что?! Жидки на расправу?
– Чего разговорился-то? – крикнул Лазореву рыжий мужик. – У тебя бы невесту силой отняли, ты бы небось тоже не молчал.
– Ты еще со мной мериться вздумал! – Кровь бросилась в лицо Лазореву. – Ах ты, разговорчивая скотина! – Выхватил из ножен саблю.
Мужик нагнулся, поднял камень – и все. Полковник Лазорев провалился во тьму, как в прорубь.
3
Савве приснился кузнечик. Стоит, как мужик, и косу точит, зеленый, с крылышками, и глазки черные на затылке, но ростом с мужика, и коса у него мужицкая.
Чжик, чжик! – звенит коса под бруском.
Открыл Саввушка глаза, и дух у него занялся. Прострадал он вчера с Енафой до третьих петухов и спать завалился в ясли – сил не было на сушила лезть.
Чжикала не коса в зеленых лапках кузнечика, то бились в деревянной бадье струи молока. Енафа доила корову, подоткнув за поясок подол платья. Вся девичья красота была перед глазами Саввы, и он таращился, не смея ни спрятаться, ни зажмуриться.
Корова переступила с ноги на ногу.
– Стой ты! – хлопнула ее по коленке Енафа и увидала над яслями всклокоченную голову Саввы.
– Ох! – сказала девушка и обмерла, не зная, куда ей деваться, а Савва встал в яслях как столб.
Постоял-постоял, перешагнул жердину, обошел корову, схватил Енафу, поднял, отнес в ясли…
Корова потянулась мордой к Енафе, лизнула мокрым шершавым языком в шею.
– Голубка моя! – Енафа одной рукой гладила корове морду, другой закрыла лицо и расплакалась.
– Ты что?! – выбираясь из яслей, перепугался Савва. – Ты что?
– Сты-ы-ы-дно, – всхлипывая, прошептала Енафа. – Уйди, бога ради!
Савва послушно побрел прочь, но в дверях катуха, взявшись руками за притолоку, подтянулся вдруг, повисел и, медленно опустив ноги на землю, повернулся к яслям.
– Нет уж, не пойду один. Вместе пошли.
– Куда?!
– К батюшке, матушке.
– Ой! – схватилась Енафа за голову. – Господи!
– Ничего, – сказал Савва, садясь перед Енафой на корточки. – Поколотят да и поженят.
– Саввушка! – Енафа ткнулась головой милому в плечо. – Стыдно-то уж очень.
– Стыдно, – согласился Савва и вздохнул. – Я сам скажу… Да ведь со всеми этакое приключается.
– Со всеми! – повеселела Енафа, поглаживая корову, и опомнилась: – Молоко-то!
С бадьей молока, рука в руке, грохнулись у порога на колени Енафа с Саввой.
– Чевой-то? Чевой-то?! – всплеснула руками Пелагея, мать Енафы.
– Товой-то! – Смех, как сок, брызнул из Настьки.
– Пошла под печку! – Малах, не глядя, треснул Настьку по тощей заднице и строго сказал жене: – Чего расчевойкалась, икону материнскую снимай, благословим детей наших.
4
У мужика в августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять. Поп Василий обвенчал Савву с Енафой в первый же августовский день, на Маковея, а свадьбу Малах пообещал сыграть, как с полем уберутся. Да и Савве не хотелось сплоховать. Он заканчивал в Рыженькой второй колодец. Работал на Малаха, а вышло, что на себя.
Авива и Незван Саввушкиному счастью радовались. Всё поглаживали его, всё глазами ему посвечивали. А без Саввушки вздыхали, на дорогу смотрели, на синие леса по горизонту.
Спали молодые на том же сеновале.
Под утро Савве приснился родник. Бьет из-под зеленого листа, а он, Савва, тянется к нему губами и никак не достанет. И разом проснулся. Енафа осторожно целовала его в глаза.
– Ты чего?
– Вставай.
Савва повел глазами, серые сумерки дремотно и лохмато свисали из щелей.
– Рано, – сказал он и потянулся к Енафе.
Она увернулась.
– Нельзя! Грех.
– Отчего же грех?
– Батюшка нам с тобой в поле велит идти.
– В поле?! Чай, убрано!
– Не говори лишнего. Вставай!
И спрыгнула с сеновала.
Когда Савва наконец вышел из сарая, Енафа уже нетерпеливо ждала его с малым узелком в руках.
Повела задворками. Он сонно плелся за нею.
На поле Енафа достала из узелка махонький горшок, пахнущий конопляным маслом.
Сказала шепотом:
– Возьми-ка!
– Чего делать-то? – спросил Савва.
Она не ответила, сбросила сарафан и осталась в белой нижней рубахе.
– Пошли.
Стерня колола голые ноги.
На середине поля Енафа встала лицом к восходу. Поклонилась, коснувшись рукой земли, и, поглаживая ладонями груди, сказала высоким птичьим голосом:
– Мать сыра земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела! – Кивнула мужу: – Попотчуй матушку маслицем.
Савва боязливо плеснул масло на землю. Получилось неловко.
– Довольно ли?
Енафа в ответ только глаза прикрыла веками. Повернулась на запад, поклонилась и сказала иное:
– Мать сыра земля! Поглоти ты нечистую силу в бездну неминучую, в смолу кипучую!
Савва, сообразив теперь, что ему делать, плеснул масло наземь.
Енафа поворотилась лицом на полдень:
– Мать сыра земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью!
Савва, глянув в горшок – много ли осталось, – полил землю маслом.
Енафа стала лицом на полночь:
– Мать сыра земля! Уйми ты ветры полуночные со тучами, стреножь ты морозы с буранами! – И быстро сказала Савве: – Брось горшок!
Савва медлил.
– Как бросить-то? Чтоб разбился али чтоб уцелел?
– Брось, как выйдет!
Савва бросил, горшок разбился.
Енафа схватила мужа за руку и побежала.
Быстро оделась. Теперь она стояла перед ним опустив голову, маленькая, смирная, как овечка.
– Есть хочется, – сказал Савва.
– В узелке возьми. Это для нас. Для земли – маслице, для нас – хлебушек.
Савва так и не решился расспросить про заговор на жниву, все ли так делают в деревне Рыженькой. И может, хорошо сделал, что не спросил, – удача ждала колодезников в тот день: докопались-таки до водяной жилы.
5
Испить воды из явленного чудом митрополита Филиппа родника привезла в Рыженькую полковничья жена Любаша мужа своего Андрея Герасимовича. Камень, брошенный бунтарем, прошиб Андрею голову. Неделю лежал полковник без сознания. Потом тьма рассеялась, да не совсем. Обмороки валили с ног нежданно-негаданно: и на молитве мог упасть, и за обедом, неся ложку ко рту. Знахари и бывалые люди советовали вылежаться, но лежать полковник никак не хотел.
– Помру, тогда и належусь, – говорил он сердито Любаше.
Приезжал к нему царский лекарь, пустил кровь и тоже велел лежать. Привозила Любаша из Москвы Ивана Неронова молебен за здравие отслужить. Неронов молебен отслужил и обещал прислать доброго пастыря, который святым маслом пользует.
Уже на следующий день был у Лазорева в деревне протопоп Аввакум. Помолился вместе с домочадцами, с Любашей и с двумя ее ребятенками, с мальчиком лет пяти да с девочкой-двухлеточкой, помазал полковника маслом, посидел у него в изголовье, гладил пальцами вокруг раны. Тихо сидел протопоп возле больного, ласкова была его рука, и Андрей заснул.
Денег за лечение Аввакум не взял, но и не противился, когда ему в телегу положили тушку барана, да связку гусей, да колоб масла.
Полковник повеселел после Аввакумова лечения, но обмороки его не оставили. Тогда по совету боярыни Федосьи Прокопьевны, слышавшей от самого Никона об открытии чудесного источника в безводной деревне Рыженькой, снарядилась Любаша в путь на двух рыдванах, повезла мужа лечить святой водой.
6
Савва, как цапля, выхаживал за околицей. Приманивал его зеленый лужок с темной муравой посредине. Он уводил себя от притягательного этого места, а оно, ласкаясь, звало обратно. Тогда Савва снял рубаху, завязал глаза и пошел затейливо петлять, чтоб сбиться, потеряться средь земли и неба. И когда он так находился вдоволь и скинул рубаху с головы, то, к великой радости, увидал себя все на той же темной луговине.
В это самое время на дороге показались два рыдвана. В Рыженькую, к святому источнику, народ шел, но все больше пеший, босой.
Савва поднялся поглядеть на приезжих. И увидел – Лазорева. Лазорев был бледен, на голове повязка, но Савва узнал своего постояльца.
Лазорев появился в доме названых братьев в самое горькое для них время, в самое страшное для Саввушки.
– Эй, мужик! – кликнул возница. – Где тут у вас святой источник?
У Саввы от радостной встречи все слова в голове перемешались, он слышал, что его окликают, но смотрел и молчал.
– Глухой, что ли? – снова шумнул возница.
– Лазорев! – тихонько позвал Савва больного.
Полковник повернул голову на зов и смотрел на красавца парня не понимая.
– Останови! – попросил возницу.
Лошадь стала. Молодой мужик, улыбаясь, шагнул к повозке.
– Я же Савва! – сказал он. – Саввушка.
– Ты?! Саввушка?! – У Лазорева губы задрожали: растрогался. – Ай, встреча какая! Бог послал! Господи, да какой же ты Саввушка, ты – Саввище!
– Время-то идет!
– Идет, брат! – грустно покачал головой Лазорев. – Помнишь, каков был мо́лодец-поручик, а теперь…
Махнул рукой.
– А что стряслось?
– По голове съездили. Покажи, брат, куда ехать. Вся надежда моя теперь на поповские молитвы… Помогает, что ли… здешняя вода?
– Не кощунствуй! – смиренно попросила Любаша.
– Говорят, помогает, – сказал Саввушка и вспомнил вдруг мельника Серафима, который учил его собирать полезные травки. – От головы-то я знаю средство. Траву кавыку надо поискать. – И спохватился: – Возле источника – ничего нет. Часовенка для монаха, и все. К нам поехали! У нас изба самая просторная в Рыженькой.
– А хозяин-то кто же, ты? – спросил Лазорев, все еще с радостным недоверием разглядывая Саввушку. – Ты что же, крестьянин?
– Да нет! – смутился Савва. – Хозяин избы Малах, тесть. Я тут одно лето всего. Колодцы мы копаем.
– Погоди-погоди! У тебя ведь были названые братья, им Плещеев языки порезал! – вспомнил Лазорев.
– С ними и хожу. – Савва опять улыбнулся. – Только теперь уж, наверное, отходился.
– Пригожая, видно, жена, если столько мыкался по белу свету, а тут и нашлась обратка на бычка.
– Нашлась! – охотно согласился Савва.
Малах нежданным гостям и очень удивился, и очень обрадовался. Полковник на постой просится!
Избу освободили, полы вымыли, выскребли, посыпали душистой травой. Пока шла уборка, съездили на святой источник. Попили водицы, послушали разумные речи старого монаха, приставленного к часовенке. Помолились вместе с ним, вклад для монастыря передали – десять золотых.
Савва тоже времени не терял понапрасну. Вместе с Енафой пошел искать траву кавыку.
Кавыкой мельник Серафим лечил скотину, утихомиривал норовистых лошадей, смирял бодучих коров и коз, но другой успокоительной травы Савва не знал. Да ведь если что скоту полезно, человеку тоже не во вред.
Собирая траву, Енафа рассказала про Лесовуху. Лесовуха жила за болотом, в Паленом бору.
При Иване Грозном еще монастырские монахи спалили здесь деревеньку инородцев. Инородцы только вид делали, что в Бога веруют, сами же поклонялись тысячелетнему дубу. Монахи казнили огнем жреца инородцев, а те подстерегли и убили игумена. Была справа и расправа, и уцелело от тех инородцев всего несколько семей, попрятали их у себя жители Рыженькой. Так вот Лесовуха, сильная колдунья и превеликая травница, была из того, переведшегося рода, который поклонялся тысячелетнему дубу.
– Где же тот дуб? – спросил Савва.
– Сгорел. Монахи в дубе часовенку вырубили, но даже освятить, говорят, не успели. Не пожелал того Господь – молнию на дуб кинул.
Савва подумал-подумал, расшвырял кавыку и сказал Енафе:
– Ну какой из меня знахарь! Надо полковника к твоей Лесовухе сводить. Дорогу-то кто может указать?
– Пятой укажет. Пятой Лесовухе хлеб носит. Она его от змеи спасла. Совсем помирал, нога как бревно была, а Лесовуха пошептала над ним – на другой день и поднялся.
7
Названые Саввины братья принялись за околицей рубить избу, до обеда колодец копали на указанном Саввой месте, после обеда избой занимались.
Савва все эти дни был с Лазоревым. Полковник дважды при нем терял сознание, и Савва рассказал Любаше о Лесовухе. Любаша долго не раздумывала, с вечера приготовилась, а поехали до свету, при звездах. Пятой сам лошадью правил.
Доехали до болота.
– Дальше дороги нет, – сказал Пятой. – Лошадь с собой возьмем. Оставить нельзя – волки сожрут. Да и поклажи у нас много.
Через болото вел путано, долго вел, но толково. Вода чавкала, однако же ног не замочила. Потом шли лесом, словно бы и наугад, но Пятой ни разу не усомнился в своей невидимой тропе. Лазорев шел, опираясь на Саввино плечо. Лоб у него покрылся испариной, и Савва все собирался окликнуть Пятого, чтоб сделал привал, но полковник всякий раз сжимал Савве плечо – не надо, мол, потерплю.
На поляну вышли при солнце.
Белый туман клубами ходил в этой лесной чаще, и всем стало жутко – уж больно на варево чародейское похоже.
– Корабль! – удивился Лазорев.
И точно, по летучим волнам тумана плыл остроносый корабль.
– Изба это, – сказал Пятой. – Крыша у нее такая.
Теперь все посмотрели на Пятого. Над туманом – лошадиная морда да рука, держащая повод.
– С озера натянуло, – объяснил Пятой, и все перевели дух.
Двор Лесовухи был обнесен частоколом, но вместо ворот – вставленная в скобы жердь.
Пятой стреножил лошадь, кивнул Савве:
– Помоги мешки отнести.
Никто их не встречал, живности во дворе тоже не было.
Пятой вошел в избу первым.
Угол у двери был темен, весь свет, собранный двумя оконцами, падал на стол, за которым вздымалось нечто похожее на каменную бабу.
– Пятко, хлебушко бабушке принес? – раздался совсем не страшный женский голос.
– К тебе вот, бабушка, привел. Помочь людям надо.
– Коли ума хватит, помогу, – сказала Лесовуха. – А нет, значит, так Богу угодно.
– Куда поставить-то? – толкнул ногой мешки Пятой.
– У двери оставь, разберусь. А что для себя привезли, к печи несите. Пусть молодайка к печи станет да и приготовит, а я покушаю с вами. У меня какая еда? Попался вчера в петлю заяц, а они летом все в бегах да в делах, больше поту, чем жиру.
Пятой с сомнением поглядел на Любашу.
– Бабушка! Госпожа-то – дворянка. Ей, может, и не управиться у печи-то. Непривычно, чай. Я уж сам сварю.
– Управится! – сказала строго Лесовуха. – Тебе – другое дело. Лошадь привел – оно и хорошо. Поди сруби пару дубов, подгнил нижний венец в избе. Заменить пора, да некому. А вас, мужиков, двое. Пока я то да се – и вы управитесь. А ты, добрый человек, ко мне за стол иди, – сказала она Лазореву, – горох будем перебирать. Я горох разбираю.
Никто поперечного слова Лесовухе не сказал. Выслушали урок, и всякий принялся за свое дело.
Три дня Лазорев горох разбирал с Лесовухой.
Вечером третьего дня колдунья спросила Любашу, которая, стоя у печи, готовила ужин:
– Давно ли твой петушок на курочку напрыгивал?
Любаша покраснела до слез, но колдунья ногой топнула:
– Для дела спрашиваю!
– Думать про грешное забыли! Постимся да молимся.
– Ну и дурни. То и есть жизнь – пока хочется… А теперь слезы свои дурацкие утри да слушай. Хочешь, чтоб муж мужем был, сделай все, как я скажу. Лекарство мое от любых болезней – верное.
8
Береза светила им издали, высокая, белая.
– Как свеча, – сказал Андрей.
Любашу била дрожь, и она молчала.
Тропинка обогнула черные заросли можжевельника, и они сразу очутились на берегу затаившегося озера. Любаше чудилось, что всякий куст и всякая былинка высматривают их, идущих совершить чародейство.
Вдруг потянуло совсем еще летним, теплым ветром, по озеру побежала мелкая рябь, и только что взошедшая огромная луна растеклась, как желток по сковороде.
Бесшумно пролетела сова.
– Тебя, наверное, за мышь приняла, – сказал Андрей. – Уж больно ты тихая нынче.
Любаша взяла мужа за руку. Ей было страшно, а ему нет. Светло, тропинка приметная.
– Вон и камень! – увидел Андрей.
Камень, словно глыба белого льда, так и не растаявшего за лето, выпирал из земли.
– Молчи! – шепнула Любаша. – Теперь молчи!
Она сняла башмачки и встала на камень. Подняла правую руку, показывая луне, потом левую, сложила ладони лодочкой, подождала, пока в них наберется достаточно лунного света, и умылась. Распустила волосы, покружилась, чтоб каждый волосок обмакнулся в струи лунных неощущаемых вод. Зажмурилась, развязала на ощупь тесемочки на груди, скинула платье. Рубашки на ней не было. И стояла она, как береза, вся в лунном свете и сама светилась.
– О луна-пособница! Как я наполнена тобою, твоим совершенством, твоей крепостью, так и раб Божий Андрей пусть будет полон твоим совершенством и крепостью, а если мало будет, то и от меня пусть к нему перейдет, перельется, перекатится…
Андрей тоже знал, что ему делать. Разделся донага, встал на камень рядом с женою, и она – серебряная – брала от луны и от себя, прикасаясь ко всем частям тела, и «отдавала» мужу. Андрей никогда еще не видел голой женщины. Как чумы, страшились обнаженного тела. Упаси боже лечь в постель, не натянувши рубахи до пят!
Смотрел Андрей на жену, и горячо было в голове.
«Пропал! Совсем пропал – не отмолить этакой гоморры!»
Но что-то не было ему боязно, что-то ему радостно было.
Господи! Да вот же она, красота из-под семи печатей. В геенну – так в геенну! А не познать такой красоты – значит саму жизнь свою обмануть.
И когда она сказала: «И это возьми!» – он схватил ее, унес на траву, где лежала их одежда, и любил, как молодой.
А за деревьями стояла каменной бабою Лесовуха. Смотрела на любящих, как солнце смотрит на гон зверей и зверушек, – пусть больше будет всего на земле, пусть пребывает!
9
Вернувшись от Лесовухи, Андрей еще с неделю ходил пить святую воду. И за всю неделю ни разу не брякнулся без памяти.
Полковник уже собрался было в обратную дорогу, но Савва и Малах упросили еще недельку повременить – погулять на свадьбе у Саввы и Енафы. Любаша согласилась, ей хотелось перед отъездом еще раз побывать у Лесовухи, отблагодарить по-настоящему и лекарством каким на будущее запастись.
Уже брагу заварили, уже двух поросят зарезали, чтоб накоптить к свадьбе окороков, как нежданно-негаданно в понедельник поутру прибыл в Рыженькую патриарший боярин князь Мещерский. Привез патриаршью грамоту, а в той грамоте было сказано: он-де, святейший патриарх, по обещанию Богородице, будет ставить два новых монастыря и на строительство тех монастырей велено князю Мещерскому, патриаршему боярину, набрать из монастырских крестьян столько людей, сколько надобно, а кто будет перечить князю, того нещадно бить кнутом и везти в новые монастыри силою.
Первым, на кого указал князь Мещерский, был Савва.
– Я – свободный человек! – возразил колодезник. – Я в крестьянской крепости не состою.
– Был свободный человек, – ответил князь, – но по Уложению великого государя всякий, женившийся на крепостной, сам переходит в крепость.
– Да как же так! – заступился за Савву Лазорев. – Князь, я тебе жизнь спас, а он – мне. Я его сызмальства знаю. Свободный он человек.
Князь Мещерский, однако, полковника не дослушал, отвернулся.
– Ну, держись, князек! – вскипел Лазорев. – Жаль, что нет со мною моих драгун… А ты, Савва, не печалуйся. Не перечь этому дьяволу – он ведь и засечет по самодурству, не дрогнет. Я царю о тебе скажу.
В тот же день из Рыженькой ушло два обоза: Лазорев уехал в Москву, переселенцы – на Валдай. Вместе с Саввой, с Енафой и еще с тремя семействами пошли на новые земли Пятой и немые, Авива с Незваном. Авива с Незваном своей волей пошли, чтоб не потерять на широкой земле бедного Саввушку.
– Вот тебе и сыграли свадьбу, – говорил Малах, шагая рядом с телегой Саввы и Енафы. – Вот тебе и святейший патриарх!
Енафа тихо плакала: принесла она в приданое суженому – рабство.
10
С измайловских хлебных полей урожай сняли невеселый: на посев да разве что с голоду не помереть. Алексей Михайлович приуныл, а легши опочивать, не заснул.
Измайловские земли добрые, а коли случился неурожай при хорошей погоде у хороших, работящих мужиков, стало быть, на нем грех, на хозяине. Ему Господь не послал счастья! Ему указует!
Грех за собою Алексей Михайлович знал. Куда от греха денешься?! Прежнего патриарха, старика Иосифа, любовью не жаловал. Сердил его патриарх, иной раз прибить старика руки чесались. Всякому доброму делу был первая помеха. Все боялся, как бы хуже прежнего не стало.
Алексей Михайлович вздохнул, одиноко ему было. С царицей спали раздельно по случаю ее женской немочи – горестями поделиться не с кем.
Лег на бок, подогнул колени, сунул ладонь под подушку и понял – не заснуть! Сел, свесив ноги с постели. Тотчас карауливший царский сон и покой Федор Ртищев бесшумно отворил дверь.
– Нейдет сон, – сказал виновато царь. – Ты ложись, спи.
Ртищев не торопился исчезнуть, и государь, почесав себя под мышками, решил:
– Принеси-ка свечи, каламарь да перья. – Встал, глянул на стол. – Бумагу тоже принеси: письмо напишу. Завтра поутру отправь! Сам гонца пошли. Дело спешное.
Царское собственноручное письмо адресовалось архимандриту Троице-Сергиева монастыря.
«И ты бы, богомолец наш, сотворил и прислал тайно, никому не поведавше сию тайну…» Рука спешила вслед за горяченькими, только что осенившими царя мыслями.
Однако же отложил перо, перебежал спальню, открыл дверь.
– Федор! Ты не вставай, лежи. Письмо тайно отправь, чтоб про то знали – я да ты!
Убежал к столу.
«…Священного масла с великого четвертка в сосуде и воды с ног больнишних братий, умыв сам тайно, и воды ис колодезя Сергия-чудотворца, отпев молебен у колодезя, три ведра за своей печатию вели прислать, ни дня не мешкая».
Приготовив письмо, государь взял чистый лист и, подумав, расчертил его на четыре клетки, которые представляли четыре измайловских поля, и указал, где кому быть и что делать.
Написал – и в постель, чтоб завтра скорее наступило. Про бессонницу думать забыл.
В Измайлово царь приехал с царицею.
На краю поля стояли шатер, в котором разместилась походная церковь, и наскоро срубленные четыре избы: для царя, бояр, для попов и слуг. Но приезд был совершен втайне, из окружения – лишь Ртищев и Матюшкин да два попа, отцы Алексей и Михаил.
В шатре пели вечерню, всенощную, а рано поутру служили молебен уже под открытым небом, на поле.
После молебна началось освящение земли. На трех больших полях было поставлено по десяти мужиков, а на малом, четвертом, пять, «с вениками на жопе», как простосердечно указал царь. Мужики, обмакнув эти веники в святой воде, коей архимандрит Троице-Сергиевой лавры умывал ноги болящих монахов, прошли поля крестом, навсегда спугнув с них нечистую силу.
Царь с царицею смотрели на действо с высокого крыльца, вознесенного на крышу одной из временных изб.
– Славно потрудились, – говорил Алексей Михайлович, окидывая взором дивную осеннюю землю, золотую, пахнущую хлебом.
– Хозяин ты мой! – отвечала ласково Мария Ильинична. – Дай Бог тебе всякого умения и разума.
– А тебе дай Бог наследника родить! – Царь перекрестил царицын живот, и они троекратно облобызались.
Когда государь с государыней сошли с крыльца, Матюшкин, боднув головою синее небо, сказал как бы сам себе:
– Птица теперь валом валит.
– Да уж, коли мы в Измайлове, отчего бы с соколами не потешиться! – согласился Алексей Михайлович. – И царица будет рада на соколов поглядеть.
Матюшкин просиял, а Ртищев поскучнел. У Федора Михайловича было к царю одно московское дело. Патриарх Никон собственноручно смирял книжных справщиков Ивана Наседку и старца Савватия. Оба искали заступничества у царя. Но дело было не в том, что Никон поколотил справщиков, а в том, что готовилась к изданию книга «Следованной псалтыри» и патриарх приказал выпустить из нее статью о двенадцати земных поклонах при чтении великопостной молитвы святого Ефрема Сирина и статью о двуперстном крестном знамении.
11
Арсен Грек, соловецкий сиделец, был зван в Москву чуть ли не в первый день нового патриаршества.
Явившись пред очи Никона, Арсен с рыданием опустился наземь и облобызал патриарший башмак.
– Я тебе не папа римский! – сердито крикнул Никон, но не было в его крике осуждения, иное было.
Поднял с земли греческого монаха, обнял и сам отвел в палату, где хранились книги.
– Вот твое поле! – сказал. – Возделай и сними жатву. Озарила меня мысль, Арсений! Величавая мысль! – Никон пронзительно глянул Арсену в глаза и легонько подтолкнул к сундукам с книгами. – С тобою здесь трудится киевлянин Епифаний Славинецкий, а помощников сами наберите. Прежние справщики московские – лбы воистину каменные, от них проку мало.
– Благослови меня, святейший! – Арсен, пылая преданностью, встал на колени.
Никон благословил и, уходя, сказал:
– Поди к моему ключарю, возьми у него денег, чтоб ни в чем нужды не знать. Да рясу себе новую выбери, чтоб от старой тебе в нос тюрьмой не шибало.
В черной атласной рясе, с лицом северной льдины, кристальной от совершенства и непорочности, Арсений Грек вошел в келию справщиков, от которых несло луком, ржаным кислым хлебом, кислой шубой, и сами-то они были такие житейски русские, принюхавшиеся друг к другу, прижившиеся тут.
Арсен подошел к столу мирянина Силы Григорьева и увидел, что у него между двумя толстыми фолиантами стоит глиняная миска с молочной тюрей, а рядом, на тряпице, ломоть хлеба, недогрызенная луковица и щепоть соли.
– На каких языках читаешь? – спросил Арсен.
– По-славянски.
– А по-гречески можешь?
– Буквы знаю…
– По-польски он может, – сказал Иван Наседка. – А ты, милый человек, кем будешь?
– Я хранитель патриаршей библиотеки, и еще мне велено надзирать над вами, справщиками.
– Мы свое дело знаем, – сказал Наседка.
– На каких языках читаешь?
– А ты скажи, на каких надобно.
– Инок Евфимий, который с завтрашнего дня будет вашим товарищем, читает по-гречески, по-латыни, по-польски, по-еврейски.
– По-латыни туда еще сюда, а по-жидовски-то к чему знать? Жиды православию, что волки овцам.
– Для того надо знать древний еврейский язык, чтоб избавиться от невежества, которым столь кичатся, как я приметил, иные московские грамотеи… Окна отворите – дышать нечем.